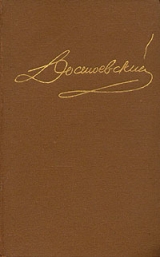
Текст книги "Том 2. Повести и рассказы 1848-1852"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 44 страниц)
Слабое сердце
Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки» (1848. № 2) с подписью: Ф. Достоевский.
В повести «Слабое сердце» Достоевский продолжил поднятую ранее в фельетоне «Петербургская летопись» от 15 июня 1847 г. и в «Хозяйке» (1847) тему «мечтателя» (см. наст. изд. Т. 1. С. 11, 427–428, 459), обратившись к художественному исследованию разновидности этого петербургского типа, представленной бедным чиновником, чье сознание своей социальной неполноценности становится неодолимой преградою к счастью, которое он как «маленький человек» не смеет помыслить для себя возможным, признавая себя по самому своему положению его недостойным. Социальный конфликт подается Достоевским в психологическом преломлении: восторженный молодой человек не выдерживает обрушившегося на него счастья – согласия любимой девушки стать его женою – и сходит с ума под бременем нахлынувших эмоций и чувства вины перед высокопоставленным покровителем, на чьи милости он, как ему представляется в порывах самоуничижения, отвечает неблагодарностью. Повесть создавалась в период увлечения писателя идеями утопического социализма, которые получили отражение в страстном желании «мечтателя» видеть всех людей счастливыми. Порождаемое этим стремлением трагическое ощущение несправедливости судьбы, избравшей его баловнем из массы страждущих, выступает одной из причин психологического разлада, ведущего к неизбежной катастрофе.
Вполне вероятно, что по первоначальному и оставшемуся неосуществленным замыслу «Слабое сердце» должно было входить в повествовательный цикл, который, возможно, задумывал Достоевский по примеру Бальзака (см. об этом: наст. изд. Т. 1. С. 430). Заглавие, характеризующее духовный склад героя повести Васи Шумкова, повторяет определение, ставшее Ордынову в «Хозяйке» ключом к сложному, болезненному характеру Катерины и ассоциирующееся с «глубокой, безвыходной тиранией над бедным, беззащитным созданием» (наст. изд. Т. I. С. 391, 404). Оно явно противопоставляется ироническому определению «доброе сердце», употребленному в «Петербургской летописи» от 27 апреля 1847 г. по отношению к персонажу, которого, как и благодетеля Васи Шумкова, зовут Юлианом Мастаковичем (о возможном толковании отчества см. ниже, с. 548). В газетном фельетоне этот «хороший знакомый, бывший доброжелатель и даже немножко покровитель» автора был представлен негодяем, носящим личину порядочности, пожилым сластолюбцем, задумавшим жениться на семнадцатилетней девушке, но желающим сохранить связь с женщиной, соблазненной им под обещание быть ходатаем по ее делу. В повести также упоминается о «добром сердце» Юлиана Мастаковича (с. 77) и его уже свершившейся недавно женитьбе (с. 78). В «Петербургской летописи» бегло говорилось о чиновнике, «пристроенном» в кабинете Юлиана Мастаковича к «стопудовому спешному делу», и в «Слабом сердце» бумаги, переписываемые Васей Шумковым, тоже названы «стопудовым спешным делом» (с. 78). Впоследствии Юлиан Мастакович появится в качестве персонажа рассказа «Елка и свадьба».
Воспоминания и переписка современников Достоевского дают основания считать прототипом Васи Шумкова писателя «натуральной школы» Я. П. Буткова (1820 или 1821–1856), сотрудничавшего в те же годы в «Отечественных записках», сблизившегося с Достоевским, который дружески, заботливо к нему относился, находившегося под его творческим влиянием и бывавшего в кругу литераторов, связанных с движением петрашевцев. По сведениям, сообщаемым в мемуарах А. П. Милюкова, другого сотрудника «Отечественных записок» и приятеля Достоевского в 1840-х годах, Бутков родился в уездном городке, происходил из мещан и, не получив никакого образования, всем своим воспитанием и знаниями был обязан исключительно чтению. Издатель «Отечественных записок» А. А. Краевский освободил его от солдатчины, купив ему рекрутскую квитанцию, и Бутков выплачивал ему долг частями из гонораров за произведения, которые печатал в его журнале. Об этом же писал В. Г. Белинский В. П. Боткину 5 ноября 1847 г.: «Краевский оказал ему важную услугу: на деньги Общества посетителей бедных он выкупил его от мещанского общества и тем избавил от рекрутства. Таким образом, помогши ему чужими деньгами, он решился заставить его расплатиться с собою с лихвою, завалил его работою, – и бедняк уже не раз приходил к Некрасову жаловаться на желтого паука, высасывающего из него кровь». [88]88
Белинский В. Г.Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 12. С. 418.
[Закрыть]
А. П. Милюков вспоминал о Буткове как о человеке робком, застенчивом, мнительном, который относил себя к «маленьким людям», называл «кабальным» и пуще всего боялся прогневить «литературных генералов», создав у них впечатление непочтительности либо «строптивости нрава». Все подобные черты присутствуют в характере Васи Шумкова; сходны у героя повести с предполагаемым прототипом и детали биографии (см., например, с. 86–87), а его страх быть отданным в солдаты за неисполнительность представляет художественное преломление изложенного выше эпизода из жизни Буткова. Фамилия «Шумков» дана, возможно, персонажу по некоторому созвучию с фамилией «Бутков».
Образ Буткова присутствовал, кажется, долгое время в художественном сознании Достоевского как, по-видимому, живое воплощение типа «маленького человека». Черты Буткова угадываются в Голядкине и опосредствованно, через Васю Шумкова, – в уездном учителе Василии из «Дядюшкиного сна»; реминисценции, связанные с Бутковым, обнаруживаются в пятой главе второй части «Униженных и оскорбленных» (см. наст. изд. Т. 4.).
Не исключена вероятность, что «Слабое сердце» как-то генетически связано с рассказом Буткова «Партикулярная пара» (1846), где был, еще ранее, чем у Достоевского, выведен тип смиренного, униженного человека, которому счастье представляется недостижимою мечтою и который принимает это положение как должное, находя радости в повседневных житейских мелочах. Герой рассказа, мелкий чиновник Петр Иванович Шляпкин слишком беден, чтобы позволить себе обзавестись партикулярной парой (объяснение см. ниже, с. 548), и, лишенный потому возможности присутствовать на балу, теряет даже призрачную питавшую его до этого надежду на взаимность любимой девушки, однако моментально философически утешается предчувствием ужина. Для Шляпкина символом счастья остается партикулярная пара; Вася Шумков с первых строк предстает ее обладателем, но его счастье оказывается таким же обманчивым миражом.
Вкладывая в образ Юлиана Мастаковича несомненные сатирические намеки на А. А. Краевского, Достоевский подразумевал отношение последнего не только к Буткову, но и к другим сотрудникам, имея в виду в том числе и личный опыт общения с ним. Позднее, в письме Краевскому от 1 февраля 1849 г., он описал свое состояние очень похожим на состояние Васи Шумкова и его прототипа: «Знаю, Андрей Александрович, что я, между прочим, несколько раз посылая Вам записки с просьбой о деньгах, сам называл каждое исполнение просьбы моей одолжением.Но> я был в припадках излишнего самоумаления и смирения от ложной деликатности. Я, н<а>прим<е>р, понимаю Буткова, который готов, получа 10 р. серебр<ом>, считать себя счастливейшим человеком в мире. Это минутное, болезненное состояние, и я из него выжил».
Перввым отзывом на «Слабое сердце» было дополнение к статье M. M. Достоевского «Сигналы литературные», внесенное писателем Ф. А. Корни, редактором журнала, где она была напечатана. В повести рецензентт увидел «неумолимый, безжалостный анализ человеческого сердца» и главной чертой героев Достоевского считал «чувство сознания своего неравенства». Он писал: «Сердца слабые и нежные <…> до того покоряются гнетущей судьбе <…> что на редкие радости свои смотрят как на проявления сверхъестественные, как на беззаконные уклонения от общего порядка вещей. Они принимают эти радости от судьбы не иначе как взаймы и мучаются желанием воздать за них сторицею. Поэтому и самые радости бывают для них отравлены <…> до того обстоятельства умели унизить их в собственном мнении». [89]89
Пантеон и репертуар русской сцены. 1848. № 3. С. 100.
[Закрыть]Вставленная в текст статьи, эта оценка, по-видимому, отражала и мнение самого M. M. Достоевского.
Критик С. С. Дудышкин назвал «Слабое сердце» наряду с «Белыми ночами» в числе произведений, признанных им лучшими в 1848 г. [90]90
Отеч. зап. 1849. № 1. Отд. 5. С. 34.
[Закрыть]П. В. Анненков, напротив, считал повесть неудачной, указывая, что в ней дана «литературная самостоятельность <…> случаю, хотя и возможному, но до крайности частному»; по его мнению, изображение «расплывчатой, слезистой, преувеличенной» любви Аркаши и Васи «кажется <…> хитростью автора, который вздумал на этом сюжете руку попробовать». [91]91
Современник. 1849. № 1. Отд. 3. С. 3.
[Закрыть]
Повеесть «Слабое сердце» не была включена Достоевским в первое собрание сочинений (1860). Однако Добролюбов вспомнил о ней в статье «Забитые люди» (Современник. 1861. № 9), написанной по случаю выхода этого издания. Проводя мысль, что герои Достоевского будят чувство протеста, он писал: «Идеальная теория общественного механизма, с успокоением всех людей на своем месте и на своем деле, вовсе не обеспечивает всеобщего благоденствия. Оно точно, будь на месте Васи писальная машинка, было бы превосходно. Но в том-то и дело, что никак человека не усовершенствуешь до такой степени, чтоб он уж совершенно машиною сделался <…>. Есть такие инстинкты, которые никакой форме, никакому гнету не поддаются и вызывают человека на вещи совсем несообразнее, чрез что, при обычном порядке вещей, и составляют его несчастнее». [92]92
Добролюбов Н. А.Собр. соч. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 263.
[Закрыть]
Чужая жена и муж под кроватью
Впервые опубликовано как два отдельных рассказа: 1) «Чужая жена. (Уличная сцена)» в «Отечественных записках» (1848. №1) с подписью: Ф. Достоевский; 2) «Ревнивый муж. (Происшествие необыкновенное)» – в том же журнале (1848. № 11) с подписью: Ф. Достоевский.
Два рассказа объединены в один под заглавием «Чужая жена и муж под кроватью» в издании: Достоевский Ф. М.Соч. М., 1860. Т. 1.
Начальные строки рассказа «Ревнивый муж», опущенные при слиянии его с рассказом «Чужая жена», связывали эти произведения с рассказом «Елка и свадьба» и через него с задуманным Достоевским циклом «Из записок неизвестного», в который также вошел «Честный вор». При переработке для издания 1860 г. в первой части, соответствующей рассказу «Чужая жена», подверглись незначительным изменениям отдельные реплики; во второй, которую составил «Ревнивый муж», было не только опущено авторское вступление, но также сильно сокращены пререкания оказавшихся под кроватью персонажей и устранены частые повторения одних и тех же слов и выражений.
Рассказ связан с традициями сатирических фельетонов и очерков 1840-х годов, но также несет отчетливую печать водевильного жанра, из которого под влиянием своих театральных увлечений, продолжавшихся с юных лет, Достоевский перенес в прозу некоторые персонажи, коллизии и приемы. Типично водевильными в рассказе являются: комический образ ревнивого и обманутого мужа; его ревность как движущая пружина действия; ситуация, в которой муж обращается за помощью, сам того не подозревая, к любовнику жены; нелепое положение, в котором он оказывается, попав по ошибке в чужую комнату и спрятавшись под кровать. Заглавие рассказа в редакции 1860 г. созвучно названиям популярных водевилей, например: переведенных или переделанных с французского языка «Муж в камине, а жена в гостях» (1834) Ф. А. Кони, «Жена за столом, а муж под полом» (1841) и «Фортункин, или Муж с места, другой на место» (1842) Д. Т. Ленского.
Герой сам ощущает себя причастным водевилю и, выбравшись из-под кровати, произносит: «…вы, ваше превосходительство, будете смеяться! Вы видите на сцене ревнивого мужа» (с. 124). Сознанием нелепости своего поведения он, действуя в водевильных ситуациях, из них как бы вырывается и приобретает трагикомические черты.
Рассказы «Чужая жена» и «Ревнивый муж» не получили отзывов в печати, однако критик С. С. Дудышкин в годовом обзоре русской литературы отметил, что публика их читала с удовольствием. [93]93
Отеч. зап. 1849. № 1. Отд. 5. С. 35.
[Закрыть]Н. Г. Чернышевский записал в дневнике 28 декабря 1848 г.: «Вчера прочитал „Ревнивый муж“ <…> и это меня несколько ободрило насчет Достоевского и других ему подобных; всё большой прогресс перед тем, что было раньше, и когда эти люди не берут вещей выше своих сил, они хороши и милы». [94]94
Чернышевский Н. Г.Полн. собр. соч. М., 1939. Т. 1. С. 208.
[Закрыть]
Честный вор
Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки» (1848. № 4. Отд. I) под заглавием «Рассказы бывалого человека. (Из записок неизвестного). I. Отставной. II. Честный вор» с подписью: Ф. Достоевский.
Рассказ, по-видимому, по первоначальному замыслу входил в состав задуманного Достоевским в 1847–1848 гг. цикла, композиционно объединенного образом повествователя («Неизвестный»). Повествователь этот выступал в одних случаях как хроникер, передающий рассказы других персонажей («Рассказы бывалого человека»), в других – как свидетель и комментатор изображенных событий («Елка и свадьба»).
«Рассказы бывалого человека» должны были состоять, как мы можем предположить, из трех произведений, повествующих о жизни главного лица – Астафия Ивановича. В первом («Отставной») герой вспоминает о своем военном прошлом и об участии в походе 1812 г. Вот текст «Отставного» в журнальной редакции.
«Отставной гораздо цивилизованнее крестьянина и во сто крат нравственно выше дворового человека. Хотя, конечно, во всяком звании есть пьяницы, воры и всякого рода мошенники, но этого исключения, именно потому, что оно возможно во всяком звании, я теперь не беру в расчет. Отставной всегда не буян и характера смирного; любит выпить, но не допьяна, то есть не до забвения обязанностей, а выпьет что следует, из необходимости. Его никогда не найдете пьяным на улице; впрочем, у него и хмельного дело споро работается. От дела он не бегает; работать ему что жить; да работой и не удивишь его. Сноровки, схватки дела, сметливости у него побольше, чем у крестьянина. Он никогда не позовет на помощь ни дядю Митяя, ни дядю Миняя и не любит кричать благим матом, как мужик в беде, а сделает что нужно сам, без крику и порядочно. Он не болтлив; самонадеян, но не хвастун. У него много выжито правил и практических истин, и его трудно сбить с толку хитрым словцом; он стоек в своих побуждениях. Трудно тоже удивить его какими-нибудь чудесами или диковинками. Говорит он всегда ровно, дельно и почти бесстрастно; жест его короткий и правильный; всё в нем получило известную форму. Говорить он будет с кем бы то ни было, даже с самыми набольшими, и всегда найдется, и всегда скажет дело, и скажет учтиво, прилично. А между тем в нем никогда не найдете униженного жеста. Он большой скептик; но зато в нем зачастую много задушевного и наивного. В нем много чувства терпимости. Человек он бывалый, «видал много видов» и сам знает свое превосходство над всей той средой, в которую входит после долголетней прогулки с ружьем на плече. Он вообще набожен, всегда имеет у себя образ, часто в богатой оправе, и лучше не съест, а купит масла в лампадку накануне всякого праздника. От привычки к порядку и от скептического воззрения на жизнь он очень любит оседлость, солидность, свой угол, свой особняк и крепко привязан к своей собственности. Какая-нибудь дрянная шинелишка, рваный сертучишка – у него всё на счету. Он любит обзавестись порядком, аккуратен и предусмотрителен; любит общество, ценит хорошегочеловека и сойдется часто с совершенно разнородным характером, затем что умеет жить. Он часто сострадателен к животным и любит их. Если он переселится на постоянное житье, то непременно заласкает к себе собаку или начнет прикармливать голубей… Отставной вообще хороший человек, и с ним приятно иметь дело…
Но жилец мой, Астафий Иванович, был отставной особого рода… Служба только заправила его на жизнь, но прежде всего он был из числа бывалых людей, и, кроме того, хороших людей. Службы его всего было восемь лет. Был он из белорусских губерний, поступил в кавалерийский полк и теперь числился в отставке. Потом он постоянно проживал в Петербурге, служил у частных лиц и уж бог знает каких не испытал должностей. Был он и дворником, и дворецким, и камердинером, и кучером, даже жил два года в деревне приказчиком. Во всех этих званиях оказывался чрезвычайно способным. Сверх того, был довольно хороший портной. Теперь ему было лет пятьдесят и жил он уже сам по себе, небольшим доходом, получаемым в виде ежемесячной пенсии от каких-то добрых людей, которым услужил в свое время; да, сверх того, занимался портняжным искусством, которое тоже кое-что приносило. Я скоро смекнул, сколько выгадал на том, что пустил его к себе в сожители. Он знал столько историй, столько видел, так много было с ним приключений, что я, чтоб не скучать по вечерам, решился с ним сойтись покороче. Несколько дней после его водворения, я пригласил его выпить стакан чаю. Сесть он не согласился, объяснив, что ему стоя свободнее, стакан чая принял с благодарностью и вообще с первого раза строго обозначил общественную черту, нас с ним разделявшую. Сделал всё это он не из самоуничижения, а для того чтоб не попасть в ложное положение, из собственного спокойствия и достоинства. Я полюбопытствовал о подробностях его службы и чрезмерно удивился, узнав, что он был почти во всех сражениях незабвенной эпохи тринадцатого и четырнадцатого годов.
– Как!.. да сколько же тебе лет? – спросил я.
– Должно быть, лет пятьдесят теперь будет, сударь. Я на службу пошел сущим мальчишкой, пятнадцати лет, еще в двенадцатом году поступил. Ну, тогда разбирать было некогда да и нечего; все ополчались.
– Так ты и в Париже был?
– Был, сударь, и в Париже.
– И всё помнишь?
– Ну как же, сударь, как теперь помню; еще бы не вспомнить! И пресчастливо служил: сколько атак приходилось делать, и всегда из дела сух выходил. Ни одной-то ранки не бывало.
– А что, робел с первого раза?
– Уж известно, сударь, робел. Вестимо, ни жив ни мертв человек. Уж потом как пообтерпишься – всё равно. А сначала и долго не привыкнешь. Стоишь иной раз в строю, так пули просто уши задевают – жужжат. Только головой мотаешь, по сноровке. Наклонишься в одну сторону, как нарочно тотчас же под самым ухом провизжит, проклятая. Я уж потом всё держал голову прямо, чтоб от греха подальше: неравно еще сам смерть зацепишь, когда она еще не напрашивалась. А вот доложу, сударь, нет лучше фланкёрской обязанности: тот вертится, на месте не постоит, нацелить в него трудно!
– Ну, а в атаке легче?
– Ну, там, вестимо, полегче… Только нет, всё равно! Рубишь, конечно, свое дело делаешь; да только всего обиднее, как придется еще на марш-марше с коня от пули слететь. Беда! свои же растопчут. Кому тут разбирать? всяк за себя. А осадить коня тоже нельзя. Они, конечно, если б все были новобранцы, так, может, и до вражеского строя не доехали бы, все бы кто куда рассыпались. Да тут рядом с тобой едут старые ребята, народ храбрый, бывалый, много претерпевший, им всё равно. Со мной, помню, рядом наш вахмистр ехал да видит, что я, с первого раза, пропал совсем, дали б свободу, так с лошади бы соскочил, удрал. «Изрублю, – говорит, – только на волос отстань от меня!» – ну, и перестал тотчас бояться. Что там, что здесь смерть – оно и выходит уж всё равно.
– Ну, и поголодать, верно, случалось, Астафий Иванович?
– Да как же, сударь; как с Фигнером ходили, так иной раз и по три дни не едал. Такие были оказии.
– Как! так ты и с Фигнером был? – спросил я с любопытством. – Ну что ж, какой это был человек?
– А что, сударь, всё одно, человек; хороший был человек; строгий такой! У! дисциплину наблюдал… Бывало, по три дня в рот куска не берем, так куды! соснуть не смей. Сапогов иной раз по неделе не скидаешь. Беда! всегда настороже; каждую минуту врага на себя ожидаешь. Зато все одним Фигнером и дышали; через него и животы свои вы несли; всех своим умом выручал; в нем одном и спасение всё было. Не было б его, все бы мы погибли. Строгий был человек.
– Что, он не любил французов?
– Французов? то есть, я думаю, ему и во сне только француз и снился. Вот как не любил! Бывало, пленных захватит; разношерстный народ; всякая нация под Бонапартом ходила, и немец ходил, и гишпанец ходил… Так немцев посадит Фигнер особо, гишпанца особо, тальянского человека особо, англичанин [95]95
Ясное дело, что реляция Астафия Ивановича во многом не совсем справедлива. Надеемся, что читатели извинят наивность познаний его.
[Закрыть]тоже особо сядет, как кто какую веру исповедует, и им прощение дарует, и потом где-нибудь по дороге бросит, а француза всего тут же в кучку наберет и тотчас же злой смерти предать велит. Я сам штук тридцать врагов погубил таким образом.
– Как, пленных погубил?
– Пленных, сударь; так велено было. [96]96
Странный характер знаменитого Фигнера, вероятно, уже известен вполне каждому из читателей. Об нем встречается тоже много подробностей в известном романе г-на Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году».
[Закрыть]Оно и жалко теперь, что беззащитного бил, а тогда ничего. И юн-то я был тогда, да и самому смерть грозила на каждом шагу… Иной раз стоишь в болоте трое суток; выходу нет; кругом тьма-тьмущая врагов ходит; в середине ихней армии стоим; так уж тут в кулак дышишь: страшно! Все только на одного Фигнера и глядят. Уж так и знаем, что на нем от главнокомандующего обязанность поставлена нас выручать. А он что сделает? Жидом, шпионом аль немцем оденется да и пойдет прямо к врагу; на всех языках говорил человеческих. Выспросит всё, узнает с толком, в службу шпионскую к Бонапарту поступит, ест, пьет с ним, в карты играет, на верность ему присягнет по вере тамошней, католической, деньги за то возьмет, обманет, отведет неприятеля в сторонку, а мы и выйдем благополучно, а Фигнер-то всё главнокомандующему опишет, обо всем его предуведомит, и хоть Наполеону во сне что приснись, так главнокомандующий всё через Фигнера знает, обо всем мигом известен. Еда! Какая тут, сударь, еда! Да иной раз чего! Сам-то не съешь, так это ничего, дело наживное: потом поешь; а то коню три дни корму не выдаешь – уж это последнее дело. Известно, что такое конь не кормленный.
– Ну, да как же конь некормленный? Как же он служит тебе?
– Да так, сударь, как-нибудь служит. Известно как. Конь, сударь, на войне словно живой человек; да иной конь, право, умнее нашего брата иного. Смирен, всю службу знает, всякую команду прежде тебя понимает, а в атаку лететь придется, так удила закусит, не сдержишь – и трус, словно храбрый человек, понесется. И уж коли суждено богом солдату убитым быть, так конь в то же утро за несколько часов предузнает и скажет.
– Каким же образом?
– А вот каким, сударь; как начнет голову к тебе оборачивать да твои ноги обнюхивать, значит, быть убитым тому. И так это верно, что ничто не спасет. Смирно стоит конь, так и бодро идешь; а начнет голову поворачивать да обнюхивать, так седок и повесит головушку. И не бывает того, чтоб в тот же день его не убили, хоть бы какой заговор против смерти с собой носил.
– А разве носят какой-нибудь заговор против смерти?
– Известно, сударь, как кто, всем запасаются; у иного есть, только трудно доставать. Вот, я помню, иные, еще из России не выходя, у цыганки кореньев каких-то, в ладонке зашитых, промыслили. Целых десять штук продала, брала за каждый по рублю серебром. Еще помню, у нас солдатик был один, глуповатенький и горячий, сердитый такой; его еще все дразнили потом. Покупает он у цыганки колдовство, долго торговался, отдал наконец целковый да и говорит: «Смотри, старая ведьма, хорошо, как не убьют, слава тебе, а убьют, нет тебе за обман пощады – за тридевять земель найду, голову сниму, изрублю».
– А! так глупенек солдат-то был?
– Глуповатенький, сударь. Куды иной конь умнее! Да ведь какой вороватый станет. Тут коня в стойло ставишь, привязываешь – забота, чтоб он не сбежал, а там, на войне, так, кажется, конь за тобой ходит да смотрит, чтоб ты как от него не сбежал. Ляжешь иной раз спать на поле, когда еще с Фигнером были, ляжешь как мертвый и коня бросишь, и всяк заснет, когда безопасно станет заснуть. Так что ж, сударь? проснешься – а конь над тобой стоит, всю ночь тебя стережет. Да ведь как иной раз… вот вы еще, сударь, говорите про коня некормленного, да он сам себе хлеб промышляет: нет травы, так иной раз всю ночь около тебя скитается, да обнюхивает, да норовит стащить, коль найдет у тебя что съестного припрятанного. Да и не то что, примером, хлеба кусок, мяса не пропустит, стащит и, как под изголовье ни подвертываешь, обнюхает, вытащит – не услышишь, словно фокусам его немец обучивал, и поминай как звали; такой смышленый! Через коня я и про пал было раз, когда подо мной его убили под Лейпцигом да в плен меня взяли.
– А ты был в плену?
– Как же! четыре месяца содержался. Мы ударили под Лейпцигом целым полком на орудия, которые француз вывозил из города. Два эскадрона занеслись. Одни погибли, других в полон взяли, и я тут же попал. Отвели нас, долго водили и потом посадили в сарай и караул приставили. Много нас сидело: со всех сторон нагнали и уже потом через четыре месяца назад сдали, когда об нас сам государь узнал и всех назад потребовал.
– А что? хорошо содержали вас?
– Да сначала ничего, как и следовало; всего вдоволь, и винная порция шла; а потом совсем почти ничего не стали давать, чуть не за морили насмерть. Не разочлись они, что ль, с припасами, господь ведает; рассчитать, что ли, некому было; может, и человека такого, чтоб рассчитать умел хорошо, меж их народом не нашлось… Чуть совсем не сгубили.
– А с Фигнером как же вы кончили? Ведь он был убит и вся партия рассеяна?
– Да, сударь; много тогда нашей крови пролилось. Меня самого уж не знаю как вынесло; даже не ранили. Напали на нас врасплох, поднялась тревога, пробились мы до реки, да все, как были, бух в воду! Подо мной лошадь была молодая, горячая, крепкая. Я сполз с седла, схватился за хвост и поплыл. А пули так сыпались кругом, что я в полминуты счет потерял. Да вынесло. Много наших положили; горсточка от отряда осталась. И Фигнер тут смерть нашел. И кажись, только одного шагу до берега не доплыл, как пуля его хватила в затылок, и пошел ко дну… А решительный был человек! жаль, что до Парижа не дожил.
– Ты тоже в Париж вступал?
– Да, сударь; тут же и нашему полку было назначено вступить; славный был день! И торжество было какое; встречали нас как! На киверах у нас лавры были. По одну сторону улицы стоял женский пол, по другую мужской, и со всех сторон цветы бросали и кричали: «Ура белому царю!» А сзади всех Бонапарт выступал и тоже: «Ура белому царю!» – кричал. А потом, как пришли во дворец, рапорт государю подал, в котором слезно ему представлял, что во всех прегрешениях раскаивается и вперед больше не будет русский народ обижать, только б за сыном его престол французский оставили. Да государь не согласился; сказал, что рад бы душою (добрый был царь, врага миловал!), да веры больше иметь нельзя – обману было много. А было ему представлено, Бонапарту, чтоб крестился он в русскую веру и по русской вере присягу дал. Да не согласился француз; верой своей не пожертвовал… На том только и разошлись. Славное, сударь, времечко было!»
Вторым, судя по последовательности событий, должен был явиться очерк «Домовой» (Астафий, теперь уже отставной солдат, живет где-то в «петербургских углах» и работает на фабрике), третьим – «Честный вор» – воспоминания Астафия Ивановича о том, как он, находясь «без места», «тому назад года два» встретился с горемыкой, пьяницей Емелей.
Замысел «Домового» не был осуществлен (до нас дошло в рукописи лишь его начало), и в «Отечественных записках» появились под общим заглавием «Рассказы бывалого человека. (Из записок неизвестного)» «Отставной» и «Честный вор».
Подготавливая издание 1860 г., Достоевский объединил оба очерка под общим названием «Честный вор. (Из записок неизвестного)». При этом сокращению подверглись часть очерка «Отставной» и нравоучительный финал. Название рассказа восходит к популярной одноименной комедии-водевилю Д. Т. Ленского (1829).
Из воспоминании друга писателя, С. Д. Яновского, известно, что у героя «Честного вора» Астафия Ивановича существовал реальный прототип: в 1847 г. «у Достоевских <…> проживал в качестве слуги отставной унтер-офицер Евстафий, имя которого Федор Михайлович отметил теплым словом в одной из своих повестей».
Имя другого героя рассказа, Емели, упоминается в «Бедных людях»; Макар Алексеевич говорит здесь о нем: «чиновник, то есть был чиновник, а теперь уже не чиновник, потому что его от нас выключили. Он уж я и не знаю, что делает, как-то там мается» (наст. изд. Т. 1. С. 94). Возможно, что к «Рассказам бывалого человека» имел отношение другой эпизод, рассказанный в мемуарах Яновского. Последний сообщает, что летом 1847 г. получил письмо от Федора Михайловича, который был «занят сбором денег по подписке в пользу одного несчастного пропойцы, который, не имея на что выпить <…> ходит по дачам и предлагает себя посечься за деньги». [97]97
Там же. С. 801–802.
[Закрыть]
П. В. Анненков в статье «Заметки о русской литературе прошлого года» – единственном отзыве в критике 40-х годов о «Рассказах бывалого человека» – писал, что идея рассказа «Честный вор» – «старание открыть те светлые стороны души, которые человек сохраняет на всяком месте и даже в сфере порока». Критик одобрил мысль «заставить говорить человека недалекого, но которому превосходное сердце заменяет ум и образование». «Мы, – писал Анненков, – должны быть благодарны автору за подобную попытку восстановления (réhabilitation) человеческой природы». Сцену «немого страдания бедного пьянчужки Емели» критик назвал одним из «действительно прекрасных мест в повести». [98]98
«Современник». 1849. № 1. Отд. 3. С. 4–5.
[Закрыть]








