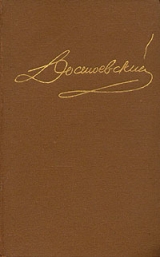
Текст книги "Том 2. Повести и рассказы 1848-1852"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 44 страниц)
Через неделю она переехала в Москву, с дочерью и Афанасием Матвеичем, а через месяц узнали в Мордасове, что подгородная деревня Марьи Александровны и городской дом продаются. Итак, Мордасов навеки терял такую комильфотную даму! Не обошлось и тут без злоязычия. Стали, например, уверять, что деревня продается вместе с Афанасием Матвеичем… Прошел год, другой, и об Марье Александровне почти совершенно забыли. Увы! так всегда ведется на свете! Рассказывали, впрочем, что она купила себе другую деревню и переехала в другой губернский город, в котором, разумеется, уже забрала всех в руки, что Зина еще до сих пор не замужем, что Афанасий Матвеич… Но, впрочем, нечего повторять эти слухи; всё это очень неверно.
Прошло три года, как я дописал последнюю строчку первого отдела мордасовской летописи, и кто бы мог подумать, что мне еще раз придется развернуть мою рукопись и прибавить еще одно известие к моему рассказу. Но к делу! Начну с Павла Александровича Мозглякова. Стушевавшись из Мордасова, он отправился прямо в Петербург, где и получил благополучно то служебное место, которое ему давно обещали. Вскоре он забыл все мордасовские события, пустился в вихрь светской жизни на Васильевском острове и в Галерной гавани * , жуировал, волочился, не отставал от века, влюбился, сделал предложение, съел еще раз отказ и, не переварив его, по ветрености своего характера и от нечего делать, испросил себе место в одной экспедиции, назначавшейся в один из отдаленнейших краев нашего безбрежного отечества для ревизии или для какой-то другой цели, наверно не знаю. Экспедиция благополучно проехала все леса и пустыни и наконец, после долгого странствия, явилась в главном городе «отдаленнейшего края» к генерал-губернатору. Это был высокий, худощавый и строгий генерал, старый воин, израненный в сражениях, с двумя звездами и с белым крестом на шее. Он принял экспедицию важно и чинно и пригласил всех составлявших ее чиновников к себе на бал, дававшийся в тот же самый вечер по случаю именин генерал-губернаторши. Павел Александрович был этим очень доволен. Нарядившись в свой петербургский костюм, в котором намерен был произвести эффект, он развязно вошел в большую залу, хотя тотчас же немного осел при виде множества витых и густых эполет и статских мундиров со звездами. Нужно было откланяться генерал-губернаторше, о которой он уже слышал, что она молода и очень хороша собою. Подошел он даже с форсом и вдруг оцепенел от изумления. Перед ним стояла Зина, в великолепном бальном платье и бриллиантах, гордая и надменная. Она совершенно не узнала Павла Александровича. Ее взгляд небрежно скользнул по его лицу и тотчас же обратился на какого-то другого. Пораженный Мозгляков отошел к сторонке и в толпе столкнулся с одним робким молодым чиновником, который как будто пугался самого себя, очутившись на генерал-губернаторском бале. Павел Александрович немедленно принялся его расспрашивать и узнал чрезвычайно интересные вещи. Он узнал, что генерал-губернатор уже два года как женился, когда ездил в Москву из «отдаленного края», и что взял он чрезвычайно богатую девицу из знатного дома. Что генеральша «ужасно хороши из себя-с,даже, можно сказать, первые красавицы-с, но держат себя чрезвычайно гордо, а танцуют только с одними генералами-с»; что на настоящем бале всех генералов, своих и приезжих, девять, включая в то число и действительных статских советников; что, наконец, «у генеральши есть маменька-с, которая и живет вместе с нею, и что эта маменька-с приехала из самого высшего общества-с и очень умны-с» – но что и сама маменька беспрекословно подчиняется воле своей дочери, а сам генерал-губернатор не наглядится и не надышится на свою супругу. Мозгляков заикнулся было об Афанасье Матвеиче, но в «отдаленном краю» об нем не имели никакого понятия. Ободрившись немного, Мозгляков прошелся по комнатам и вскоре увидел и Марью Александровну, великолепно разряженную, размахивающую дорогим веером и с одушевлением говорящую с одною из особ 4-го класса * . Кругом нее теснилось несколько припадавших к покровительству дам, и Марья Александровна, по-видимому, была необыкновенно любезна со всеми. Мозгляков рискнул представиться. Марья Александровна немного как будто вздрогнула, но тотчас же, почти мгновенно, оправилась. Она с любезностью благоволила узнать Павла Александровича; спросила о его петербургских знакомствах, спросила, отчего он не за границей? Об Мордасове не сказала ни слова, как будто его и не было на свете. Наконец, произнеся имя какого-то петербургского важного князя и осведомясь о его здоровье, хотя Мозгляков и понятия не имел об этом князе, она незаметно обратилась к одному подошедшему сановнику в душистых сединах * и через минуту совершенно забыла стоявшего перед нею Павла Александровича. С саркастической улыбкой и со шляпой в руках, Мозгляков воротился в большую залу. Неизвестно почему считая себя уязвленным и даже оскорбленным, он решился не танцевать. Угрюмо-рассеянный вид, едкая мефистофелевская улыбка не сходили с лица его во весь вечер. Живописно прислонился он к колонне (зала, как нарочно, была с колоннами) и в продолжение всего бала, несколько часов сряду, простоял на одном месте, следя своими взглядами Зину. Но увы! все фокусы его, все необыкновенные позы, разочарованный вид и проч. и проч. – всё пропало даром. Зина совершено не замечала его. Наконец, взбешенный, с заболевшими от долгой стоянки ногами, голодный, – потому что не мог же он остаться ужинать в качестве влюбленного и страдающего, – воротился он на квартиру, совершенно измученный и как будто кем-то прибитый. Долго не ложился он спать, припоминая давно забытое. На другое же утро представилась какая-то командировка, и Мозгляков с наслаждением выпросил ее себе. Он даже освежился душой, выехав из города. На бесконечном, пустынном пространстве лежал снег ослепительною пеленою. На краю, на самом склоне неба, чернелись леса.
Рьяные кони мчались, взрывая снежный прах копытами. Колокольчик звенел. Павел Александрович задумался, потом замечтался, а потом и заснул себе преспокойно. Он проснулся уже на третьей станции, свежий и здоровый, совершенно с другими мыслями.
Приложение
Петербургская летопись. <13 апреля 1847 г.>
(Коллективное)
Говорят, что в Петербурге весна. Полно, правда ли? Впрочем, оно, может быть, и так. Действительно, все признаки весны. Полгорода больна гриппом, у другой – по крайней мере насморк. Такие дары природы вполне убеждают нас в ее возрождении. Итак, весна! Классическая пора любви * ! Но пора любви и пора стихов приходят не одновременно * , говорит поэт, то и слава богу. Прощайте, стихи; прощай, проза; прощайте, толстые журналы, с направлением и без направления; прощайте, газеты, взгляды, нечто, * прощай и прости нас, литература! Прости нас, в чем мы пред тобой согрешили, как мы прощаем твои согрешения!
Но каким образом заговорили мы о литературе прежде другого чего! Я не отвечаю вам, господа. Тяжелое прежде всего; самое тяжелое с плеч. Кое-как дотащили книжный сезон – и правы! Хотя и говорят, что это очень натуральная ноша. Мы скоро, может быть, через месяц, свяжем наши журналы и книги в одну кипу и развернем ее не прежде, как в сентябре. Вот, должно быть, будет чего почитать, наперекор пословицы: хорошего понемножку. Закроются скоро салоны, уничтожатся вечера;дни сделаются длиннее, и мы уже не будем так мило зевать в душных оградах * , возле щегольских каминов, слушая повесть, которую вам тут же прочтут или расскажут, воспользовавшись вашей невинностью; не будем слушать графа де Сюзора * , который поехал в Москву смягчать нравы славянофилов; и за ним, вероятно с тою же целью, отправляется Гверра * . Да! мы многого лишимся вместе с зимою, многого не будем иметь, многого не будем делать; мы собираемся на лето ничего не делать. Мы устали; нам пора отдохнуть. Недаром говорят, что Петербург такой европейский, такой деловой город. Он так много сделал; дайте же ему успокоиться, дайте же ему отдохнуть на его дачах, в его лесах; ему нужен лес, по крайней мере на лето. Это только в Москве «отдыхают перед делом».Петербург отдыхает после дела. Каждое лето он, гуляя, собирается с мыслями; может быть, он и теперь уже надумывается, что бы ему сделать на будущую зиму. Он очень похож в этом отношении на одного литератора, который сам, правда, ничего не написал, но у которого брат всю жизнь собирался писать роман. Однако, собираясь в новый путь, нужно оглянуться на старое, на пройденное, и по крайней мере проститься с чем-нибудь; по крайней мере взглянуть еще раз на то, что мы сделали, что нам особенно мило. Посмотрим, что вам особенно мило, вам, благосклонный читатель? Я говорю «благосклонный», потому что на вашем месте давно бы бросил читать фельетон вообще и этот в особенности. И потому еще бросил бы, что мне самому, да, кажется, и вам тоже, ничего не мило в прошедшем. Мы все как будто работники, которые несут на себе какую-то ношу, добровольно взваленную на плеча, и рады-рады, что европейски и с надлежащим приличием донесут ее хоть до летнего сезона. Каких-каких занятий не задаем мы себе так, из подражания! Я, например, знал одного господина, который никак не мог решиться надеть галош, какая бы ни была грязь на улице, равно как и шубу, какой бы ни был мороз: у этого господина было пальто, которое так хорошо обрисовывало его талию, давало ему такой парижский вид, что никак нельзя было решиться надеть шубу, равно как и уродовать панталоны галошами. Правда, у этого господина весь европеизм состоял в хорошо сшитом платье, он оттого и Европу любил за просвещение; но он пал жертвою своего европеизма, завещав похоронить себя в лучших своих панталонах. Когда на улицах начали продавать печеных жаворонков, его похоронили.
У нас, например, была превосходная Итальянская опера, на следующий год будет нельзя сказать лучше, а богаче. Но, не знаю отчего, – мне всё кажется, что мы держим Итальянскую оперу для тону, как будто по обязанности. Если мы не зевали (мне кажется даже, что немножко зевали), то по крайней мере вели себя так благовоспитанно и чинно, так умно и не выказывались, так не навязывали своего восторга другим, что право, как будто скучали и чем-то очень тяготились. Далеко от меня мысль порицать наше уменье жить в свете; опера принесла в этом отношении публике большую пользу, естественно рассортировав меломанов на энтузиастов и просто любителей музыки; одни убрались вверх, отчего там сделалось так жарко, как будто в Италии; другие сидели в креслах и, поняв свое значение, значение образованной публики, значение тысячеглазой гидры, имеющей свой вес, свой характер, свой приговор, ничему не удивлялись, зная уже заранее, что это главная добродетель благовоспитанного, светского человека. Что до нас касается, мы совершенно разделяем мнение последней части публики; мы должны любить искусство тихо, не увлекаясь и не забывая обязанностей. Мы – народ деловой; нам иногда в театр и некогда. Нам еще так много предстоит сделать. И потому мне очень досадны те господа, которые думают, что они в свой черед должнывыходить из себя; что на них как будто возложена какая-то особенная обязанность уравновесить мнение публики своим энтузиазмом по принципу.Как бы то ни было, и как сладко ни выпевали наши Бореи, Гуаско и Сальви * свои рондо, каватины и прочее; но мы оперу дотащили, как дрова; устали, потратились и если бросали под конец сезона букеты, то будто благодаря, что опера подходит к концу. Потом был Эрнст * …Насилу на третий концерт съехался Петербург. Сегодня мы с ним прощаемся, будут ли букеты – не знаем!
Но будто одна опера была у нас удовольствием; у нас было более. Хорошие балы. Были маскарады. Но дивный артист рассказал нам недавно на скрыпке, что такое южный маскарад, и я, удовольствовавшись этим рассказом, и не ездил в наши многочинные северные маскерадные балы. Цирки удались * . Слышно, что и на будущий год удадутся. Замечали ли вы, господа, как веселится простой народ наш на своих праздниках? Положим, дело в Летнем саду. Сплошная, огромная толпа движется чинно и мерно; все в новых платьях. Изредка жены лавочников и девушки позволяют себе пощелкать орешков. В стороне гремит уединенная музыка, и главный характер всего: все чего-то ждут, у всех на лице весьма наивный вопрос: что же далее? Только? Разве разгуляется где-нибудь пьяный сапожник-немец; но и то ненадолго. И как будто досадно этой толпе на новые нравы, на столичные забавы свои. отчет Общества посещения бедных * ; одним словом, всё, в чем бы можно было развернуться, распоясаться по-родному, по-своему. Но мешает приличие, несвоевременность, и толпа чинно расходится по домам; не без того, разумеется, чтобы не завернуть в «заведение».
Мне кажется, есть что-то похожее тут на нас, господа. Мы, конечно, не выкажем наивно нашего удивления, мы не спросим: только-то? мы не потребуем чего-нибудь больше; мы очень хорошо знаем, что мы за наши 15 р<ублей> получили европейское наслаждение; и с нас довольно. И к тому же к нам ездят такие патентованные знаменитости, что роптать мы не можем. Мы же научились ничему не удивляться. Если уж не Рубини, так нам певец нипочем; не Шекспир писатель, так на что ж время терять, читать его? Пусть Италия образует артистов, Париж пускает их в ход. Есть ли нам время голубить, образовывать, ободрять и пускать в ход новый талант; певца, например? Уж оттуда присылают их совсем готовыми, со славою. Как часто случается, что писатель не понят и отвергнут у нас одним поколением; через десятилетия, через два, три последующие поколения признают его, и добросовестнейшие из стариков только качают головами. Мы уж знаем наш норов; мы часто недовольны собою; часто сердиты на себя самих и на взваленные на нас Европой обязанности. Мы скептики; нам очень хочется быть скептиками. И ворчливо и дико сторонимся от энтузиазма, бережем от него свою скептическую, славянскую душу. Оно бы иной раз и порадовался, да ну как не тому, чему нужно; ну как промахнешься; что тогда скажут об нас? Недаром мы так полюбили приличия.
Впрочем, оставим всё это; лучше пожелаем себе хорошего лета; мы бы так погуляли, так отдохнули. Куда мы поедем, господа? В Ревель, в Гельсингфорс, на юг, за границу или просто на дачи? Что мы будем там делать? Удить рыбу, танцевать (летние балы так хороши!), немного скучать, не покидать служебных занятий в городе и вообще соединять полезное с приятным. Ежели вам захочется читать, возьмите два тома «Современника» за март и апрель; там есть, как вам известно, роман «Обыкновенная история», прочтите, если вы не успели прочитать его в городе. Роман хорош. В молодом авторе есть наблюдательность, много ума; идея кажется нам немного запоздалою, книжною; но проведена ловко. Впрочем, особенное желание автора сохранить свою идею и растолковать ее как можно подробнее придало роману какой-то особенный догматизм и сухость, даже растянуло его. Этого недостатка не выкупает и легкий, почти летучий слог г-на Гончарова. Автор верит действительности, изображает людей как они есть. Петербургские женщины вышли очень удачны.
Роман г-на Гончарова весьма интересен; но отчет Общества посещения бедных * еще интереснее. Мы особенно порадовались этому призыву к целой массе публики; мы рады всякому соединению, особенно соединению на доброе дело. В этом отчете много интересных фактов. Самым интереснейшим фактом была для нас необыкновенная бедность кассы общества; но терять надежду не надобно: благородных людей много. Укажем на того денщика, который прислал 20 р<ублей> серебром * ; по его достатку, это, вероятно, сумма огромная. Что, если бы все прислали пропорционально? Распоряжения Общества при раздаче вспоможений превосходны и показывают необязанную филантропию, глубоко понявшую свое назначение. Кстати, об обязанной филантропии. На днях мы проходили мимо книжного магазина и видели за стеклом последнюю «Ералаш». Там очень верно и популярно * изображен филантроп по обязанности, тот самый, который:
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло * ,
на улице же вдруг проникается искренним состраданием к ближнему. Об остальных не скажем ни слова, хотя тут много меткого, современного. Не хочет ли г-н Невахович, мы расскажем ему, по поводу филантропии, анекдот.
Один помещик с большим жаром рассказывал, как он чувствует любовь к человечеству и как он проникнут потребностью века.
– Вот, сударь, мой, у меня дворня разделена на три разряда, – рассказывал он, – слуги старые, почтенные, служившие отцу и деду моему беспорочно и верно, составляют первый разряд, Они живут в светлых комнатах, чистых, с удобствами, и едят с барского стола. Другой разряд – слуги не почтенные, не заслуженные, но так себе, хорошие люди; их я держу в общей светлой комнате, и по праздникам им пекут пироги. Третий разряд – мерзавцы, мошенники и всякие воры; им не даю пирогов и у чупо субботам нравственности. Собакам и житье собачье! Это мошенники!
– А много ли у вас в первых разрядах? – спросили помещика.
– Да по правде сказать… – отвечал он с небольшим замешательством… – еще ни одного… народ разбойник и вор… всё такой, что не стоит совсем филантропии.
Примечания
Во втором томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатаются цикл фельетонов «Петербургская летопись» (1847), рассказы «Ползунков», «Чужая жена и муж под кроватью», «Честный вор», «Елка и свадьба», повесть «Слабое сердце», «сентиментальный роман» («из воспоминаний мечтателя») «Белые ночи» и оставшаяся незаконченной «Неточка Незванова». Эти рассказы и повести создавались в Петербурге до осуждения Достоевского по делу петрашевцев и были опубликованы в 1848–1849 гг. Рассказ «Маленький герой», написанный во время заключения в Петропавловской крепости в 1849 г., был напечатан братом писателя M. M. Достоевским без указания имени автора в 1857 г. «Дядюшкин сон», замысел которого возник и осуществлялся в Семипалатинске, опубликован в 1859 г.
Достоевский никогда не перепечатывал при жизни свои фельетоны из «Петербургской летописи». Они были выявлены в газете «С.-Петербургские ведомости» лишь в пореволюционные годы и впервые включены в собрание сочинений писателя в 1930 г. Между тем жанр фельетона органически входит в систему литературных жанров Достоевского. Выступив впервые в качестве живописателя петербургских нравов в фельетонах 1847 г., Достоевский впоследствии вернулся к этому жанру в 1861 г. в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе» (которые печатаются в т. 3 наст, издания). С жанром фельетона тесно связаны «Введение» к «Ряду статей о русской литературе» (1861), «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863), многочисленные позднейшие очерки и заметки Достоевского в «Гражданине» (1873–1874) и «Дневнике писателя» разных лет. Вот почему в настоящем издании редакция сочла целесообразным максимально полно представить также и эту линию творчества Достоевского на всем ее протяжении.
Как во всех позднейших фельетонах, Достоевский выступает уже в «Петербургской летописи» не только как создатель живой и пестрой картины столичной жизни, но и как мыслитель-публицист.
«Петербургская летопись» – самое раннее обращение Достоевского к важнейшей в философском и идеологическом плане для всего его творчества теме Петербурга. Тема эта в русской литературе XIX в., начиная с К. Н. Батюшкова («Прогулка в Академию художеств», 1814) и в особенности Пушкина («Пиковая дама», 1834; «Медный всадник», 1833; опубл. – 1837; ряд стихотворений), насытилась широкими философско-историческими ассоциациями, так как с нею тесно связана была историческая оценка деятельности Петра I и вообще всего нового периода русской истории начиная с XVIII в. В 1830-1840-х годах эта же тема получила сложное и разностороннее философско-историческое отражение в петербургских повестях Гоголя и его «Петербургских записках 1836 года», статьях А. И. Герцена и В. Г. Белинского. Особое значение темы Петербурга и «петербургского» периода русской истории приобрели в годы полемики западников и славянофилов. В отличие от позднейшего времени, когда тема Петербурга окрашивается у Достоевского обычно трагически (ср.: «Униженные и оскорбленные», 1861; «Записки из подполья», 1864; «Преступление и наказание», 1866; «Подросток», 1875, и др.), в «Петербургской летописи» господствуют скорее мажорные, утверждающие тона в изображении Петербурга, и отчетливо звучит глубокая вера молодого Достоевского в «современный момент и идею настоящего момента». Достоевский заявляет – в согласии с Белинским и в отличие от славянофилов 1840-х годов – о «силе и благе направления Петрова». Он пишет о Петербурге: «…будущее его еще в идее; но идея эта принадлежит Петру I, она воплощается, растет и укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но во всей России, которая вся живет одним Петербургом».
Период 1848–1859 гг. был насыщен событиями, имевшими важные последствия для личной и творческой биографии Достоевского. Это увлечение писателя идеями утопического социализма, участие в кружках M В. Буташевича-Петрашевского, С. Ф. Дурова и Н. А. Спешнева, арест и заключение в Петропавловской крепости, гражданская казнь, пребывание на сибирской каторге, солдатчина, жизнь на поселении, борьба за право печататься, продолжавшаяся в течение трех лет (1854–1857).
Произведения 1848–1849 гг. созданы в атмосфере разлада с участниками кружка «Современника». Но по своей манере они во многих отношениях близки общему направлению «натуральной школы». П. В. Анненков, написавший после смерти Белинского обзор русской литературы за 1848 г., рассматривал все, что создал в этом году Достоевский, в ряду других произведений гоголевского направления. Впоследствии тот же Анненков признал, что, хотя жизнь и развела Достоевского и Белинского «в разные стороны», «довольно долгое время взгляды и созерцания их были одинаковы». [63]63
Анненков П. В.Литературные воспоминания. М., 1983. С. 271.
[Закрыть]Справедливость слов Анненкова подтверждается, если сопоставить фельетоны «Петербургской летописи» Достоевского, печатавшиеся в «С.-Петербургских ведомостях» с апреля по июнь 1847 г., с суждениями Белинского о «натуральной школе», реформах Петра I, славянофилах и пр., высказанными в критических статьях 1847–1848 гг.
В то же время уже в 1840-х годах своеобразие произведений Достоевского из жизни чиновничьей среды и – особенно – о «петербургских мечтателях» заключалось в том, что в них центральное место занимали нравственно-психологические проблемы. Эту особенность творчества молодого писателя чутко уловил еще В. Н. Майков. Он писал, что в противоположность Гоголю, для которого «индивидуум важен как представитель известного общества или известного круга», Достоевскому «самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума». Нравственные искания «мечтателей» Достоевского, их размышления о всеобщем братстве людей отражали увлечение автора идеями утопического социализма.
Ап. Григорьев писал в 1848 г.: «Вся современная литература есть не что иное, как, выражаясь ее языком, протест в пользу женщин, с одной стороны, и в пользу бедных, с другой; одним словом, в пользу слабейших». [64]64
Григорьев А.Собр. соч. М., 1916. Вып. 8. С. 28.
[Закрыть]В творчестве молодого Достоевского основная социально-психологическая тема «бедных людей» была тесно связана с изображением пробуждения личности женщины и ребенка, требующих от общества глубокого внимания к себе, уважения своих человеческих прав. Начиная с «Елки и свадьбы», «Неточки Незвановой» и «Маленького героя» «детская» тема проходит через все творчество Достоевского, получая наивысшее развитие в последнем его романе «Братья Карамазовы».
В ночь на 23 апреля 1849 г. Достоевский был арестован по делу петрашевцев. Заключение в Петропавловской крепости и даже смертный приговор не сломили его духовно. Впоследствии в «Дневнике писателя» Достоевский признавался: «Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния <…>. И наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга». [65]65
Дневник писателя. 1873. Гл. 16. Одна из современных фальшей.
[Закрыть]
Повесть «Дядюшкин сон» отделяет от «Маленького героя», написанного в Петропавловской крепости, почти десятилетний период, когда Достоевский был лишен возможности писать. В это время в мировосприятии и творческой манере писателя произошли существенные сдвиги. В повести явственно ощущаются не только влияние пушкинской и гоголевской традиций, но и разнообразные широкие связи с русским реализмом 50-х годов; в особенности с повестями друга писателя, А. Н. Плещеева, посвященными сатирическому изображению быта русской предреформенной провинции, произведениями Островского, Писемского, «Губернскими очерками» M. Е. Салтыкова-Щедрина. Впервые Достоевский обращается к сатирической характеристике дворянских верхов, придавая гротескному образу «дядюшки»-князя емкий символический смысл. Он переносит действие из столицы в губернский город, создавая жанр своеобразной гротескно-фантастической «провинциальной хроники», продолжением которого в его творчестве явились «Село Степанчиково и его обитатели» (1859), а впоследствии – роман «Бесы» (1870–1872).
Текст «Петербургской летописи» подготовлен Е. И. Кийко, повести «Дядюшкин сон» – А. В. Архиповой; тексты остальных произведений, вошедших в настоящий том, – Т. И. Орнатской.
Примечания к «Петербургской летописи» составлены Е. И. Кийко, к повести «Слабое сердце», рассказам «Чужая жена и муж под кроватью» и «Маленький герой» – В. Д. Раком, к «сентиментальному роману» «Белые ночи» – Е. И. Семеновым и H. H. Соломиной, к повести «Дядюшкин сон» – А. В. Архиповой. К остальным произведениям примечания составлены Г. М. Фридлендером с использованием примечаний т. 2 «Полного собрания сочинений» Достоевского. Послесловие написано Г. М. Фридлендером при участии Е. И. Кийко. Иллюстрации подобраны Г. Л. Боград, Р. Г. Гальпериной, С. А. Полозковой. Редактор тома Н. Ф. Буданова.








