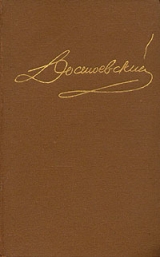
Текст книги "Том 2. Повести и рассказы 1848-1852"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 44 страниц)
– Всё расскажу; но мне теперь не скучно, а весело!
– Нет, уж будут у тебя румяные щеки, как у меня! Ах, кабы завтра поскорей пришло! Тебе хочется спать, Неточка?
– Нет.
– Ну, так давай говорить.
И часа два мы еще проболтали. Бог знает, чего мы не переговорили. Во-первых, княжна сообщила мне все свои планы для будущего и настоящее положение вещей. И вот я узнала, что папу она любит больше всех, почти больше меня. Потом мы порешили обе, что мадам Леотар прекрасная женщина и что она вовсе не строгая. Далее, мы тут же выдумали, что мы будем делать завтра, послезавтра, и вообще рассчитали жизнь чуть ли не на двадцать лет. Катя выдумала, что мы будем так жить: она мне будет один день приказывать, а я всё исполнять, а другой день наоборот – я приказывать, а она беспрекословно слушаться; а потом мы обе будем поровну друг другу приказывать; а там кто-нибудь нарочно не послушается, так мы сначала поссоримся, так, для виду, а потом как-нибудь поскорее помиримся. Одним словом, нас ожидало бесконечное счастие. Наконец мы утомились болтать, у меня закрывались глаза. Катя смеялась надо мной, что я соня, и сама заснула прежде меня. Наутро мы проснулись разом, поцеловались наскоро, потому что к нам входили, и я успела добежать до своей кровати.
Весь день мы не знали, что делать друг с другом от радости. Мы всё прятались и бегали от всех, более всего опасаясь чужого глаза. Наконец я начала ей свою историю. Катя потрясена была до слез моим рассказом.
– Злая, злая ты этакая! Для чего ты мне раньше всего не сказала? Я бы тебя так любила, так любила! И больно тебя мальчики били на улице?
– Больно. Я так боялась их!
– Ух, злые! Знаешь, Неточка, я сама видела, как один мальчик другого на улице бил. Завтра я тихонько возьму Фальстафкину плетку, и уж если один встретится такой, я его так прибью, так прибью!
Глазки ее сверкали от негодования.
Мы пугались, когда кто-нибудь входил. Мы боялись, чтоб нас не застали, когда мы целуемся. А целовались мы в этот день по крайней мере сто раз. Так прошел этот день и следующий. Я боялась умереть от восторга, задыхалась от счастья. Но счастье наше продолжалось недолго.
Мадам Леотар должна была доносить о каждом движении княжны. Она наблюдала за нами целые три дня, и в эти три дня у ней накопилось много чего рассказать. Наконец она пошла к княгине и объявила ей всё, что подметила, – что мы обе в каком-то исступлении, уже целых три дня не разлучаемся друг с другом, поминутно целуемся, плачем, хохочем как безумные, – как безумные без умолку болтаем, тогда как этого прежде не было, что она не знает, чему приписать это всё, но ей кажется, что княжна в каком-нибудь болезненном кризисе, и, наконец, ей кажется, что нам лучше видеться пореже.
– Я давно это думала, – отвечала княгиня, – уж я знала, что эта странная сиротка наделает нам хлопот. Что мне рассказали про нее, про прежнюю жизнь ее, – ужас, настоящий ужас! Она имеет очевидное влияние на Катю. Вы говорите, Катя очень любит ее?
– Без памяти.
Княгиня покраснела от досады. Она уже ревновала ко мне свою дочь.
– Это ненатурально, – сказала она. – Прежде они были так чужды друг другу, и, признаюсь, я этому радовалась. Как бы ни была мала эта сиротка, но я ни за что не ручаюсь. Вы меня понимаете? Она уже с молоком всосала свое воспитание, свои привычки и, может быть, правила. И не понимаю, что находит в ней князь? Я тысячу раз предлагала отдать ее в пансион.
Мадам Леотар вздумала было за меня заступиться, но княгиня уже решила нашу разлуку. Тотчас прислали за Катей и уж внизу объявили ей, что она со мной не увидится до следующего воскресенья, то есть ровно неделю.
Я узнала про всё поздно вечером и была поражена ужасом; я думала о Кате, и мне казалось, что она не перенесет нашей разлуки. Я приходила в исступление от тоски, от горя и в ночь заболела; наутро пришел ко мне князь и шепнул, чтоб я надеялась. Князь употребил все свои усилия, но всё было тщетно: княгиня не изменяла намерения. Мало-помалу я стала приходить в отчаяние, у меня дух захватывало от горя.
На третий день, утром, Настя принесла мне записку от Кати. Катя писала карандашом, страшными каракулями, следующее:
«Я тебя очень люблю. Сижу с maman и всё думаю, как к тебе убежать. Но я убегу – я сказала, и потому не плачь. Напиши мне, как ты меня любишь. А я тебя обнимала всю ночь во сне, ужасно страдала, Неточка. Посылаю тебе конфет. Прощай».
Я отвечала в этом же роде. Весь день проплакала я над запиской Кати. Мадам Леотар замучила меня своими ласками. Вечером я узнала, она пошла к князю и сказала, что я непременно буду больна в третий раз, если не увижусь с Катей, и что она раскаивается, что сказала княгине. Я расспрашивала Настю: что с Катей? Она отвечала мне, что Катя не плачет, но ужасно бледна.
Наутро Настя шепнула мне:
– Ступайте в кабинет к его сиятельству. Спуститесь по лестнице, которая справа.
Всё во мне оживилось предчувствием. Задыхаясь от ожидания, я сбежала вниз и отворила дверь в кабинет. Ее не было. Вдруг Катя обхватила меня сзади и горячо поцеловала. Смех, слезы… Мигом Катя вырвалась из моих объятий, вскарабкалась на отца, вскочила на его плечи, как белка, но, не удержавшись, прыгнула с них на диван. За нею упал и князь. Княжна плакала от восторга.
– Пап а, какой ты хороший человек, пап а!
– Шалуньи вы! что с вами сделалось? что за дружба? что за любовь?
– Молчи, папа, ты наших дел не знаешь.
И мы снова бросились в объятия друг к другу. Я начала рассматривать ее ближе. Она похудела в три дня. Румянец слинял с ее личика, и бледность прокрадывалась на его место. Я заплакала с горя.
Наконец постучалась Настя. Знак, что схватились Кати и спрашивают. Катя побледнела как смерть.
– Полно, дети. Мы каждый день будем сходиться. Прощайте, и да благословит вас господь! – сказал князь.
Он был растроган, на нас глядя; но рассчитал очень худо. Вечером из Москвы пришло известие, что маленький Саша внезапно заболел и при последнем издыхании. Княгиня положила отправиться завтра же. Это случилось так скоро, что я ничего и не знала до самого прощания с княжной. На прощанье настоял сам князь, и княгиня едва согласилась. Княжна была как убитая. Я сбежала вниз не помня себя и бросилась к ней на шею. Дорожная карета уж ждала у подъезда. Катя вскрикнула, глядя на меня, и упала без чувств. Я бросилась целовать ее. Княгиня стала приводить ее в память. Наконец она очнулась и обняла меня снова.
– Прощай, Неточка! – сказала она мне, вдруг засмеявшись, с неизъяснимым движением в лице. – Ты не смотри на меня; это так; я не больна, я приеду через месяц опять. Тогда мы не разойдемся.
– Довольно, – сказала княгиня спокойно, – едем!
Но княжна воротилась еще раз. Она судорожно сжала меня в объятиях.
– Жизнь моя! – успела она прошептать, обнимая меня. – До свиданья!
Мы поцеловались в последний раз, и княжна исчезла – надолго, очень надолго. Прошло восемь лет до нашего свиданья!
· · ·
Я нарочно рассказала так подробно этот эпизод моего детства, первого появления Кати в моей жизни. Но наши истории нераздельны. Ее роман – мой роман. Как будто суждено мне было встретить ее; как будто суждено ей было найти меня. Да и я не могла отказать себе в удовольствии перенестись еще раз воспоминанием в мое детство… Теперь рассказ мой пойдет быстрее. Жизнь моя вдруг впала в какое-то затишье, и я как будто очнулась вновь, когда мне уж минуло шестнадцать лет…
Но – несколько слов о том, что сталось со мною под отъезде княжеского семейства в Москву.
Мы остались с мадам Леотар.
Через две недели приехал нарочный и объявил, что поездка в Петербург отлагается на неопределенное время. Так как мадам Леотар, по семейным обстоятельствам, не могла ехать в Москву, то должность ее в доме князя кончилась; но она осталась в том же семействе и перешла к старшей дочери княгини, Александре Михайловне.
Я еще ничего не сказала про Александру Михайловну, да и видела я ее всего один раз. Она была дочь княгини еще от первого мужа. Происхождение и родство княгини было какое-то темное; первый муж ее был откупщик. Когда княгиня вышла замуж вторично, то решительно не знала, что ей делать со старшею дочерью. На блестящую партию она надеяться не могла. Приданое же давали за нею умеренное; наконец, четыре года назад, сумели выдать ее за человека богатого и в значительных чинах. Александра Михайловна поступила в другое общество и увидела кругом себя другой свет. Княгиня посещала ее в год по два раза; князь, вотчим ее, посещал ее каждую неделю вместе с Катей. Но в последнее время княгиня не любила пускать Катю к сестре, и князь возил ее потихоньку. Катя обожала сестру. Но они составляли целый контраст характеров. Александра Михайловна была женщина лет двадцати двух, тихая, нежная, любящая; словно какая-то затаенная грусть, какая-то скрытая сердечная боль сурово отеняли прекрасные черты ее. Серьезность и суровость как-то не шли к ее ангельски ясным чертам, словно траур к ребенку. Нельзя было взглянуть на нее, не почувствовав к ней глубокой симпатии. Она была бледна и, говорили, склонна к чахотке, когда я ее первый раз видела. Жила она очень уединенно и не любила ни съездов у себя, ни выездов в люди, – словно монастырка. Детей у нее не было. Помню, она приехала к мадам Леотар, подошла ко мне и с глубоким чувством поцеловала меня. С ней был один худощавый довольно Пожилой мужчина. Он прослезился, на меня глядя. Это был скрипач Б. Александра Михайловна обняла меня и спросила, хочу ли я жить у нее и быть ее дочерью. Посмотрев ей в лицо, я узнала сестру моей Кати и обняла ее с глухою болью в сердце, от которой заныла вся грудь моя… как будто кто-то еще раз произнес надо мною: «Сиротка!» Тогда Александра Михайловна показала мне письмо от князя. В нем было несколько строк ко мне, и я прочла их с глухими рыданиями. Князь благословлял меня на долгую жизнь и – на счастье и просил любить другую дочь его. Катя приписала мне тоже несколько строк. Она писала, что не разлучается теперь с матерью!
И вот вечером я вошла в другую семью, в другой дом, к новым людям, в другой раз оторвав сердце от всего, что мне стало так мило, что было уже для меня родное. Я приехала вся измученная» истерзанная от душевной тоски… Теперь начинается новая история.
VI
Новая жизнь моя пошла так безмятежно и тихо, как будто я поселилась среди затворников… Я прожила у моих воспитателей с лишком восемь лет и не помню, чтоб во всё это время, кроме каких-нибудь нескольких раз, в доме был званый вечер, обед или как бы нибудь собралися родные, друзья и знакомые. Исключая двух-трех лиц, которые езжали изредка, музыканта Б., который был другом дома, да тех, которые бывали у мужа Александры Михайловны, почти всегда по делам, в наш дом более никто не являлся. Муж Александры Михайловны постоянно был занят делами и службою и только изредка мог выгадывать хоть сколько-нибудь свободного времени, которое и делилось поровну между семейством и светскою жизнью. Значительные связи, которыми пренебрегать было невозможно, заставляли его довольно часто напоминать о себе в обществе. Почти всюду носилась молва о его неограниченном честолюбии; но так как он пользовался репутацией человека делового, серьезного, так как он занимал весьма видное место, а счастье и удача как будто сами ловили его на дороге, то общественное мнение далеко не отнимало у него своей симпатии. Даже было и более. К нему все постоянно чувствовали какое-то особенное участие, в котором, обратно, совершенно отказывали жене его. Александра Михайловна жила в полном одиночестве; но она как будто и рада была тому. Ее тихий характер как будто создан был для затворничества.
Она привязана была ко мне всей душой, полюбила меня, как родное дитя свое, и я, еще с неостывшими слезами от разлуки с Катей, еще с болевшим сердцем, жадно бросилась в материнские объятия моей благодетельницы. С тех пор горячая моя любовь к ней не прерывалась Она была мне мать, сестра, друг, заменила мне всё на свете и взлелеяла мою юность. К тому же я скоро заметила инстинктом, предчувствием, что судьба ее вовсе не так красна, как о том можно было судить с первого взгляда по ее тихой, казавшейся спокойною, жизни, по видимой свободе, по безмятежно-ясной улыбке, которая так часто светлела на лице ее, и потому каждый день моего развития объяснял мне что-нибудь новое в судьбе моей благодетельницы, что-то такое, что мучительно и медленно угадывалось сердцем моим, и вместе с грустным сознанием всё более и более росла и крепла моя к ней привязанность.
Характер ее был робок, слаб. Смотря на ясные, спокойные черты лица ее, нельзя было предположить с первого раза, чтоб какая-нибудь тревога могла смутить ее праведное сердце. Помыслить нельзя было, чтоб она могла не любить хоть кого-нибудь; сострадание всегда брало в ее душе верх даже над самим отвращением, – а между тем она привязана была к немногим друзьям и жила в полном уединении… Она была страстна и впечатлительна по натуре своей, но в то же время как будто сама боялась своих впечатлений, как будто каждую минуту стерегла свое сердце, не давая ему забыться, хотя бы в мечтанье Иногда вдруг, среди самой светлой минуты, я замечала слезы в глазах ее: словно внезапное тягостное воспоминание чего-то мучительно терзавшего ее совесть вспыхивало в ее душе; как будто что-то стерегло ее счастье и враждебно смущало его. И чем, казалось, счастливее была она, чем покойнее, яснее была минута ее жизни, тем ближе была тоска, тем вероятнее была внезапная грусть, слезы: как будто на нее находил припадок. Я не запомню ни одного спокойного месяца в целые восемь лет. Муж, по-видимому, очень любил ее; она обожала его. Но с первого взгляда казалось, как будто что-то было недосказано между ними. Какая-то тайна была в судьбе ее; по крайней мере я начала подозревать с первой минуты…
Муж Александры Михайловны с первого раза произвел на меня угрюмое впечатление. Это впечатление зародилось в детстве и уже никогда не изглаживалось. С виду это был человек высокий, худой и как будто с намерением скрывавший свой взгляд под большими зелеными очками. Он был несообщителен, сух и даже глаз на глаз с женой как будто не находил темы для разговора. Он видимо тяготился людьми. На меня он не обращал никакого внимания, а между тем я каждый раз, когда, бывало, вечером все трое сойдемся в гостиной Александры Михайловны пить чай, была сама не своя во время его присутствия. Украдкой взглядывала я на Александру Михайловну и с тоскою замечала, что и она вся как будто трепещет пред ним, как будто обдумывает каждое свое движение, бледнеет, если замечает, что муж становится особенно суров и угрюм, или внезапно вся покраснеет, как будто услышав или угадав какой-нибудь намек в каком-нибудь слове мужа. Я чувствовала, что ей тяжело быть с ним вместе, а между тем она, по-видимому, жить не могла без него ни минуты. Меня поражало ее необыкновенное внимание к нему, к каждому его слову, к каждому движению; как будто бы ей хотелось всеми силами в чем-то угодить ему, как будто она чувствовала, что ей не удавалось исполнить своего желания. Она как будто вымаливала у него одобрения: малейшая улыбка на его лице, полслова ласкового – и она была счастлива; точно как будто это были первые минуты еще робкой, еще безнадежной любви. Она за мужем ухаживала как за трудным больным. Когда же он уходил к себе в кабинет, пожав руку Александры Михайловны, на которую, как мне казалось, смотрел всегда с каким-то тягостным для нее состраданием, она вся переменялась. Движения, разговор ее тотчас же становились веселее, свободнее. Но какое-то смущение еще надолго оставалось в ней после каждого свидания с мужем. Она тотчас же начинала припоминать каждое слово, им сказанное, как будто взвешивая все слова его. Нередко обращалась она ко мне с вопросом: так ли она слышала и так ли именно выразился Петр Александрович? – как будто ища какого-то другого смысла в том, что он говорил, и только, может быть, целый час спустя, совершенно ободрялась, как будто убедившись, что он совершенно доволен ею и что она напрасно тревожится. Тогда она вдруг становилась добра, весела, радостна, целовала меня, смеялась со мной или подходила к фортепьяно и импровизировала на них часа два. Но нередко радость ее вдруг прерывалась: она начинала плакать, и когда я смотрела на нее, вся в тревоге, в смущении, в испуге, она тотчас уверяла меня шепотом, как будто боясь, чтоб нас не услышали, что слезы ее так, ничего, что ей весело и чтоб я об ней не мучилась. Случалось, что в отсутствие мужа она вдруг начинала тревожиться, расспрашивать о нем, беспокоиться: посылала узнать, что он делает, разузнавала от своей девушки, зачем приказано подавать лошадей и куда он хочет ехать, не болен ли он, весел или скучен, что говорил и т. д. О делах и занятиях его она как будто не смела с ним сама заговаривать. Когда он советовал ей что-нибудь или просил о чем, она выслушивала его так покорно, так робела за себя, как будто была его раба. Она очень любила, чтоб он похвалил что-нибудь у ней, какую-нибудь вещь, книгу, какое-нибудь ее рукоделье. Она как будто тщеславилась этим и тотчас делалась счастлива. Но радостям ее не было конца, когда он невзначай (что было очень редко) вздумает приласкать малюток детей, которых было двое. Лицо ее преображалось, сияло счастием, и в эти минуты ей случалось даже слишкомувлечься своею радостью перед мужем. Она, например, даже до того простирала смелость, что вдруг сама, без его вызова, предлагала ему, конечно, с робостью и трепещущим голосом, чтоб он или выслушал новую музыку, которую она получила, или сказал свое мнение о какой-нибудь книге, или даже позволил ей прочесть себе страницу-другую какого-нибудь автора, который в тот день произвел на нее особенное впечатление. Иногда муж благосклонно исполнял все желания ее и даже снисходительно ей улыбался, как улыбаются баловнику дитяти, которому не хотят отказать в иной странной прихоти, боясь преждевременно и враждебно смутить его наивность. Но, не знаю почему, меня до глубины души возмущали эта улыбка, это высокомерное снисхождение, это неравенство между ними; я молчала, удерживалась и только прилежно следила за ними с ребяческим любопытством, но с преждевременно суровой думой. В другой раз я замечала, что он вдруг как будто невольно спохватится, как будто опомнится; как будто он внезапно, через силу и против воли, вспомнит о чем-то тяжелом, ужасном, неизбежном; мигом снисходительная улыбка исчезает с лица его и глаза его вдруг устремляются на оторопевшую жену с таким состраданием, от которого я вздрагивала, которое, как теперь сознаю, если б было ко мне, то я бы измучилась. В ту же минуту радость исчезала с лица Александры Михайловны. Музыка или чтение прерывались. Она бледнела, но крепилась и молчала. Наступала неприятная минута, тоскливая минута, которая иногда долго длилась. Наконец муж прерывал ее. Он подымался с места, как будто через силу подавляя в себе досаду и волнение, и, пройдя несколько раз по комнате в угрюмом молчании, жал руку жене, глубоко вздыхал и, в очевидном смущении, сказав несколько отрывистых слов, в которых как бы проглядывало желание утешить жену, выходил из комнаты, а Александра Михайловна ударялась в слезы или впадала в страшную, долгую грусть. Часто он благословлял и крестил ее, как ребенка, прощаясь с ней с вечера, и она принимала его благословение со слезами благодарности и с благоговением. Но не могу забыть нескольких вечеров в нашем доме (в целые восемь лет – двух-трех, не более), когда Александра Михайловна как будто вдруг вся переменялась. Какой-то гнев, какое-то негодование отражались на обыкновенно тихом лице ее вместо всегдашнего самоуничижения и благоговения к мужу. Иногда целый час приготовлялась гроза; муж становился молчаливее, суровее и угрюмее обыкновенного. Наконец больное сердце бедной женщины как будто не выносило. Она начинала прерывающимся от волнения голосом разговор, сначала отрывистый, бессвязный, полный каких-то намеков и горьких недомолвок; потом, как будто не вынося тоски своей, вдруг разрешалась слезами, рыданиями, а затем следовал взрыв негодования, укоров, жалоб, отчаяния, – словно она впадала в болезненный кризис. И тогда нужно было видеть, с каким терпением выносил это муж, с каким участием склонял ее успокоиться, целовал ее руки и даже, наконец, начинал плакать вместе с нею; тогда вдруг она как будто опомнится, как будто совесть крикнет на нее и уличит в преступлении. Слезы мужа потрясали ее, и она, ломая руки, в отчаянии, с судорожными рыданиями, у ног его вымаливала о прощении, которое тотчас же получала. Но еще надолго продолжались мучения ее совести, слезы и моления простить ее, и еще робче, еще трепетнее становилась она перед ним на целые месяцы. Я ничего не могла понять в этих укорах и упреках; меня же и высылали в это время из комнаты, и всегда очень неловко. Но скрыться совершенно от меня не могли. Я наблюдала, замечала, угадывала, и с самого начала вселилось в меня темное подозрение, что какая-то тайна лежит на всем этом, что эти внезапные взрывы уязвленного сердца не простой нервный кризис, что недаром же всегда хмурен муж, что недаром это как будто двусмысленное сострадание его к бедной, больной жене, что недаром всегдашняя робость и трепет ее перед ним и эта смиренная, странная любовь, которую она даже не смела проявить пред мужем, что недаром это уединение, эта монастырская жизнь, эта краска и эта внезапная смертная бледность на лице ее в присутствии мужа.
Но так как подобные сцены с мужем были очень редки так как жизнь наша была очень однообразна и я уже слишком близко к ней присмотрелась; так как, наконец, я развивалась и росла очень быстро и много уж начало пробуждаться во мне нового, хотя бессознательного, отвлекавшего меня от моих наблюдений, то я и привыкла наконец к этой жизни, к этим обычаям и к характерам, которые меня окружали. Я, конечно, не могла не задумываться подчас, глядя на Александру Михайловну, но думы мои покамест не разрешались ничем. Я же крепко любила ее, уважала ее тоску и потому боялась смущать ее подымчивое сердце своим любопытством. Она понимала меня и сколько раз готова была благодарить меня за мою к ней привязанность! То, заметив заботу мою, улыбалась нередко сквозь слезы и сама шутила над частыми слезам своими; то вдруг начнет рассказывать мне, что она очень довольна, очень счастлива, что к ней все так добры, что все те, которых она знала, до сих пор так любили ее, что ее очень мучит то, что Петр Александрович вечно тоскует о ней, о ее душевном спокойствии, тогда как она, напротив, так счастлива, так счастлива!.. И тут она обнимала меня с таким глубоким чувством, такою любовью светилось лицо ее, что сердце мое, если можно сказать, как-то болело сочувствием к ней.
Черты лица ее никогда не изгладятся из моей памяти. Они были правильны, а худоба и бледность, казалось, еще более возвышали строгую прелесть ее красоты. Густейшие черные волосы, зачесанные гладко книзу, бросали суровую, резкую тень на окраины щек; но, казалось, тем любовнее поражал вас контраст ее нежного взгляда, больших детски ясных голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого, бледного лица, на котором отражалось подчас так много наивного, несмелого, как бы незащищенного, как будто боявшегося за каждое ощущение, за каждый порыв сердца – и за мгновенную радость, и за частую тихую грусть. Но в иную счастливую, нетревожную минуту в этом взгляде, проницавшем в сердце, было столько ясного, светлого, как день, столько праведно-спокойного; эти глаза, голубые как небо, сияли такою любовью, смотрели так сладко, в них отражалось всегда такое глубокое чувство симпатии ко всему, что было благородно, ко всему, что просило любви, молило о сострадании, – что вся душа покорялась ей, невольно стремилась к ней и, казалось, О нее же принимала и эту ясность, и это спокойствие духа и примирение, и любовь. Так в иной раз засмотришься на голубое небо и чувствуешь, что готов пробыть целые часы в сладостном созерцании и что свободнее, спокойнее становится в эти минуты душа, точно в ней, как будто в тихой пелене воды, отразился величавый купол небесный. Когда же – и это так часто случалось – одушевление нагоняло краску на ее лицо и грудь ее колыхалась от волнения, тогда глаза ее блестели как молния, как будто метали искры, как будто вся ее душа, целомудренно сохранившая чистый пламень прекрасного, теперь ее воодушевившего, переселялась в них. В эти минуты она была как вдохновенная. И в таких внезапных порывах увлечения, в таких переходах от тихого, робкого настроения духа к просветленному, высокому одушевлению, к чистому, строгому энтузиазму вместе с тем было столько наивного, детски скорого, столько младенческого верования, что художник, кажется, полжизни бы отдал, чтоб подметить такую минуту светлого восторга и перенесть это вдохновенное лицо на полотно.
С первых дней моих в этом доме я увидела, что она даже обрадовалась мне в своем уединении. Тогда еще у ней было только одно дитя и только год как она была матерью. Но я вполне была ее дочерью, и различий между мной и своими она делать не могла. С каким жаром она принялась за мое воспитание! Она так заторопилась вначале, что мадам Леотар невольно улыбалась, на нее глядя. В самом деле, мы было взялись вдруг за всё, так что и не поняли было друг друга. Например, она взялась учить меня сама и вдруг очень многому, но так многому, что выходило с ее стороны больше горячки, больше жара, более любовного нетерпения, чем истинной пользы для меня. Сначала она была огорчена своим неуменьем; но, рассмеявшись, мы принялись сызнова, хотя Александра Михайловна, несмотря на первую неудачу, смело объявила себя против системы мадам Леотар. Они спорили смеясь, но новая воспитательница моя наотрез объявила себя против всякой системы, утверждая, что мы с нею ощупью найдем настоящую дорогу, что нечего мне набивать голову сухими познаниями и что весь успех зависит от уразумения моих инстинктов и от уменья возбудить во мне добрую волю, – и она была права, потому что вполне одерживала победу. Во-первых, с самого начала совершенно исчезли роли ученицы и наставницы. Мы учились, как две подруги, и иногда делалось так, что как будто я учила Александру Михайловну, не замечая хитрости. Так, между нами часто рождались споры, и я из всех сил горячилась, чтоб доказать дело, как я его понимаю, и незаметно Александра Михайловна выводила меня на настоящий путь. Но кончалось тем, что, когда мы доберемся до истины, я тотчас догадывалась, изобличала уловку Александры Михайловны, взвесив все ее старания со мной, нередко целые часы, пожертвованные таким образом для моей пользы, я бросалась к ней на шею и крепко обнимала ее после каждого урока. Моя чувствительность изумляла и трогала ее даже до недоумения. Она с любопытством начинала расспрашивать о моем прошедшем, желая услышать его от меня, и каждый раз после моих рассказов становилась со мной нежнее и серьезнее, – серьезнее, потому что я, с моим несчастным детством, внушала ей, вместе с состраданием как будто какое-то уважение. После моих признаний мы пускались обыкновенно в долгие разговоры, которыми она мне же объясняла мое прошлое, так что я действительно как будто вновь переживала его и многому вновь научалась. Мадам Леотар часто находила эти разговоры слишком серьезными и, видя мои невольные слезы, считала их совсем не у места. Я же думала совершенно напротив, потому что после этих уроковмне становилось так легко и сладко, как будто и не было в моей судьбе ничего несчастного. Сверх того, я была слишком благодарна Александре Михайловне за то, что с каждым днем она всё более и более заставляла так любить себя. Мадам Леотар и невдомек было, что таким образом, мало-помалу, уравнивалось и приходило в стройную гармонию всё, что прежде поднималось из души неправильно, преждевременно-бурно и до чего доходило мое детское сердце, всё изъязвленное, с мучительною болью, так что несправедливо ожесточалось оно и плакалось на эту боль, не понимая, откуда удары.
День начинался тем, что мы обе сходились в детской у ее ребенка, будили его, одевали, убирали, кормили его, забавляли, учили его говорить. Наконец мы оставляли ребенка и садились за дело. Учились мы многому, но бог знает, какая это была наука. Тут было всё, и вместе с тем ничего определенного. Мы читали, рассказывали друг другу свои впечатления, бросали книгу для музыки, и целые часы летели незаметно. По вечерам часто приходил Б., друг Александры Михайловны, приходила мадам Леотар; нередко начинался разговор самый жаркий, горячий об искусстве, о жизни (которую мы в нашем кружке знали только понаслышке), о действительности, об идеалах, о прошедшем и будущем, и мы засиживались за полночь. Я слушала из всех сил, воспламенялась вместе с другими, смеялась или была растрогана, и тут-то узнала я в подробности всё то, что касалось до моего отца и до моего первого детства. Между тем я росла; мне нанимали учителей, от которых, без Александры Михайловны, я бы ничему не научилась. С учителем географии я бы только ослепла, отыскивая на карте города и реки. С Александрой Михайловной мы пускались в такие путешествия, перебывали в таких странах, видели столько диковин, пережили столько восторженных, столько фантастических часов и так сильно было обоюдное рвение, что книг, прочитанных ею, наконец решительно недостало: мы принуждены были приняться за новые книги. Скоро я могла сама показывать моему учителю географии, хотя все-таки, нужно отдать ему справедливость, он до конца сохранил передо мной превосходство в полном и совершенно определительном познании градусов, под которыми лежал какой-нибудь городок, и тысяч, сотен и даже тех десятков жителей, которые в нем заключались. Учителю истории платились деньги тоже чрезвычайно исправно; но, по уходе его, мы с Александрой Михайловной историю учили по-своему: брались за книги и зачитывались иногда до глубокой ночи, или, лучше сказать, читала Александра Михайловна, потому что она же и держала цензуру. Никогда я не испытывала более восторга, как после этого чтения. Мы одушевлялись обе, как будто сами были героями. Конечно, между строчками читалось больше, чем в строчках; Александра же Михайловна, кроме того, прекрасно рассказывала, так, как будто при ней случилось всё, о чем мы читали. Но пусть будет, пожалуй, смешно, что мы так воспламенялись и просиживали за полночь, я – ребенок, она – уязвленное сердце, так тяжело переносившее жизнь! Я знала, что она как будто отдыхала подле меня. Припоминаю, что подчас я странно задумывалась, на нее глядя, я угадывала, и, прежде чем я начала жить, я уже угадала многое в жизни.








