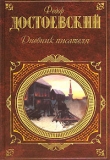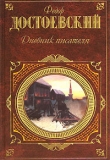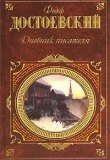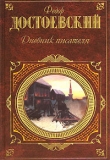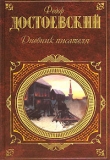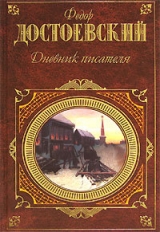
Текст книги "Дневник писателя 1873. Статьи и очерки"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
VII
«Смятенный вид»
Я кое-что прочел из текущей литературы и чувствую, что «Гражданин» обязан упомянуть о ней на своих страницах. Но – какой я критик? Я действительно хотел было писать критическую статью, но, кажется, я могу сказать кое-что лишь «по поводу» Всего я прочел: «Запечатленного ангела» г-на Лескова*, поэму Некрасова и статью г-на Щедрина*. Прочел я тоже статьи г-д Скабичевского и H. M. в «Отечественных записках». Обе эти статьи в некотором смысле были для меня как бы новым откровением, когда-нибудь непременно надо поговорить о них.* А теперь начну с начала, то есть в том порядке, как читал, именно с «Запечатленного ангела».
Это рассказ г-на Лескова в «Русском вестнике». Известно, что сочинение это многим понравилось здесь в Петербурге и что очень многие его прочли.* Действительно, оно того стоит: и характерно и занимательно. Это повесть, рассказанная одним бывшим раскольником на станции в рождественскую ночь, о том, как все они, раскольники, человек сто пятьдесят, целою артелью перешли в православие вследствие чуда. Эта артель работников строила мост в одном большом русском городе и года три жила в отдельных бараках на берегу реки. Была у них своя часовня, а в ней множество древних образов, освященных еще до времен патриарха Никона*. Очень занимательно рассказано, как одному господину, не совершенно маловажному чиновнику, захотелось сорвать с артели взятку, тысяч в пятнадцать. Наехав вдруг в часовню со властью, он потребовал по ста рублей с иконы выкупа. Дать не могли. Тогда он арестовал образа. В них просверлили дырья, нанизали их на железные спицы, как бублики, и унесли куда-то в подвал. Но тут была икона ангела, древняя и особо уважаемая, считаемая артелью за чудотворную. Чтобы поразить, отмстить и оскорбить, чиновник, раздраженный упорством неплатящих раскольников, взял сургуч и в виду всего собрания накапал его на лик образа и приложил казенную печать. Местный архиерей*, увидав запечатленный лик святыни, изрек: «Смятенный вид» – и распорядился поставить поруганную икону в соборе на окно. Г-н Лесков уверяет, что слова архиерея и распоряжение отнести поруганную икону в собор, а не в подвал, будто бы очень понравились раскольникам.
Затем началась запутанная и занимательная история о том, как был выкраден этот «Ангел» из собора. С раскольниками связался англичанин, барин и, кажется, подрядчик по строящемуся мосту, полюбил их и, так как с ним они были откровенны, то взялся им помогать. Особенно выдаются в рассказе беседы раскольников с англичанином об иконной живописи. Это место серьезно хорошо, лучшее во всем рассказе. Всё кончается тем, что за всенощной икону наконец выкрали из собора, ангела распечатлели, подменили иконою новою, еще не освященною, которую взялась «запечатлеть», наподобие первой, жена англичанина. И вот в критическую минуту случилось чудо от новой запечатленной иконы видели свет (правда, видел один только человек), а икона, когда ее принесли, оказалась незапечатленною, то есть без сургуча на лике. Это так поразило принесшего ее раскольника, что он тут же отправился в собор к архиерею и во всем ему покаялся, причем владыко простил и изрек: «Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее: вы, говорит, плутовством с своего ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел».*
Чудо так поразило раскольников, что они всею артелью, сто пятьдесят или около человек, перешли в православие.
Но тут автор не удержался и кончил повесть довольно неловко. (К этим неловкостям г-н Лесков способен, вспомним только конец диакона Ахиллы в его «Соборянах»*). Он, кажется, испугался, что его обвинят в наклонности к предрассудкам, и поспешил разъяснить чудо. Сам же рассказчик, то есть мужичок, бывший раскольник, «весело» у него сознается, что на другой день после их обращения в православие доискались, почему распечатлелся ангел. Англичанка не осмелилась закапать лик хотя и не освященной иконы, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада. В дороге бумажка, конечно, соскользнула, и ангел распечатлелся. Таким образом, отчасти и непонятно, почему раскольники остались в православии, несмотря на разъяснение чуда? Конечно, от умиления и от ласки простившего их архиерея? Но взяв в соображение твердость и чистоту их прежних верований, взяв в соображение посрамление их святыни и надругание над святынею их собственных чувств, взяв в соображение, наконец, вообще характер нашего раскола, вряд ли можно объяснить обращение раскольников одним умилением, – да и к чему, к кому? В благодарность за одно только прощение архиерея? Ведь понимали же они – даже лучше других, – что именно на самом деле должна бы означать власть архиерея в церкви, а потому и не могли бы умилиться чувством к той церкви, где архиерей после такого неслыханного, всенародно-бесстыдного и самоуправного святотатства, которое позволил себе взяточник-чиновник, касающегося как раскольников, так равно и всех православных, ограничивается лишь тем, что говорит с воздыханием: «Смятенный вид!» – и не в силах остановить да же второстепенного чиновника от таких зверских и ругательных для религии действий.
И вообще в этом смысле повесть г-на Лескова оставила во мне впечатление болезненное и некоторое недоверие к правде описанного. Она, конечно, отлично рассказана и заслуживает многих похвал, но вопрос: неужели это всё правда? Неужели это всё у нас могло произойти? То-то и есть, что рассказ, говорят, основан на действительном факте*. Вообразим только такой случай: положим, где-нибудь теперь, в какой-нибудь православной церкви, находится древняя чудотворная икона, повсеместно чтимая всем православием. Представим, что какая-нибудь артель раскольников, целым скопом, выкрадывает эту икону из собора, собственно чтобы иметь эту древнюю святыню у себя, в своей моленной. Все это, конечно, могло бы случиться. Представим, что лет через десять какой-нибудь чиновник находит эту икону, торгуется с раскольниками, чтобы добыть знатную взятку, они такой суммы дать не в силах, и вот он берет сургуч и капает его на лик святыни с приложением казенной печати. Неужели оттого только, что икона побыла некоторое время в руках раскольников, она потеряла свою святыню? Ведь и икона «Ангела», о которой рассказывает г-н Лесков, была древле освященною православною иконою, чтимою до раскола всем православием? И неужели при сем местный архиерей не мог и не имел бы права поднять хоть палец в защиту святыни, а лишь с воздыханием проговорил: «Смятенный вид». Мои тревожные вопросы могут показаться нашим образованным людям мелкими и предрассудочными; но я того убеждения, что оскорбление народного чувства во всем, что для него есть святого, есть страшное насилие и чрезвычайная бесчеловечность. Неужели раскольникам не пришла в голову мысль: «Что же, как бы сей православный владыко защитил церковь, если бы обидчиком было еще более важное лицо?» Могли ли они с почтением отнестись к той церкви, в которой высшая духовная власть, как описано в повести, так мало имеет власти? Ибо чем же объяснить поступок архиерея, как не малою властью его? Неужели равнодушием и леностью и неслыханным предположением, что он, забыв обязанность своего сана, обратился в чиновника от правительства? Ведь если уж такая нелепость зайдет в головы духовных чад его, то уж это всего хуже: православные дети его постепенно потеряют всякую энергию в деле веры, умиление и преданность к церкви, а раскол будет смотреть на православную церковь с презрением. Ведь значит же что-нибудь пастырь? Ведь понимают же это раскольники?
Итак, вот какие мысли приходят в голову после чтения прекрасного рассказа г-на Лескова; так что мы, повторяем, наклонны считать этот рассказ, в некоторых подробностях, почти неправдоподобным. Между тем в одном из недавних №№ «Голоса» прочел я следующее известие:
«Один из деревенских священников Орловской губернии пишет в газету „Современность“: „Занимаясь обучением детей своих прихожан грамоте почти с самого уничтожения крепостного права, я оставил эту обязанность только тогда, когда наше д-ское земство приняло на себя вознаграждение и пожелало иметь свободных от других занятий наставников. Но в начале нынешнего 1872 – 73 учебного года оказался недостаток народных учителей в нашем уезде. Я, не желая закрытия училища в своем селе, решился изъявить свое желание занять должность наставника и обратился в училищный совет с прошением об утверждении меня в этой должности. Совет ответил мне, что “я тогда буду утвержден в должности наставника, когда на то изъявит свое согласие общество». Общество пожелало и составило о том приговор. Обращаюсь в волостное правление для засвидетельствования приговора, как требовал того училищный совет. Волостное правление, имея во главе невежественного писаря M. С. и во всем послушного ему старшину, не восхотело засвидетельствовать приговора, ссылаясь на то, что мне учить некогда, но в душе руководясь другими побуждениями. Я обращаюсь к мировому посреднику. Посредник Π. высказал мне в глаза следующие достопримечательные слова: «Правительство вообще не расположено к тому, чтобы народное образование было в руках духовенства». «Почему бы так?» – спрашиваю я. «Потому, – отвечает посредник, – что духовенство праводит суеверие»».*
Как вам нравится, господа, это сообщение? Ведь оно, конечно в косвенном смысле, почти восстановляет правдоподобность рассказа г-на Лескова, в которой мы так усумнились и упорно продолжаем сомневаться. Тут важно не то, что случился такой посредник: что за нужда, что какой-нибудь глупец скажет с ветру глупое слово? И какое нам дело до его убеждений? Тут важно то, что это так откровенно и со властью высказано; с такою сознательною властью, с такою небеспокоющеюся бесцеремонностью. Он высказывает свое премудрое убеждение уже прямо и не обинуясь, в глаза и, кроме того, имеет дерзость навязывать такие убеждения правительству и говорить от лица правительства.
Ну, осмелился бы это сказать не то что какой-то посредник, а в десять раз высшее его по власти лицо какому-нибудь хоть, например, остзейскому пастору?* Господи, какой бы этот пастор затеял крик и какой бы в самом деле поднялся крик! У нас священник смиренно обличает дерзкого путем гласности. Но приходит мысль: если бы это лицо было повыше посредника (что ведь очень может быть, потому что у нас всё может случиться), то ведь, может быть, пастырь добрый и не стал бы совсем обличать его, зная, что из этого выйдет один лишь «смятенный вид» и ничего более. Да и нельзя же требовать от него энергии первых веков христианства, хотя бы и желалось того. Мы вообще наклонны обвинять наше духовенство в равнодушии к святому делу; но как же и быть ему при иных обстоятельствах? А между тем помощь духовенства народу никогда еще не была так настоятельно необходима. Мы переживаем самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа.
Очень странное явление случилось недавно в одном углу России – немецкое протестантство в среде православия, новая секта штундистов.* «Гражданин» о ней сообщал своевременно.* Явление почти уродливое, но в нем как бы слышится нечто пророческое.
В Херсонской губернии какой-то пастор Бонекетберг пожалел от доброго сердца тамошний русский народ, видя его непросвещенным и духовно оставленным, и стал проповедовать ему христианскую веру, но держась православия и сам уговаривая его от православия не отступать. Но случилось иначе: проповедь имела полный успех, но новые христиане тотчас же начали тем, что отстали от православия, поставили себе это первым и непременным условием, отвернулись от обрядов, икон, стали собираться по-лютерански и петь псалмы по книжке; иные выучились даже немецкому языку. Секта распространяется с фанатическою быстротой, переходит в другие уезды и губернии. Сектанты изменили образ жизни, не пьянствуют. Они так, например, рассуждают:
– У них (то есть у немецких, лютеранских штундистов), – у них потому хорошо и потому они так честно и благообразно живут, что нет постов…
Логика мизерная, но какой-то есть смысл, как хотите, особенно если смотреть на пост как на один лишь обряд. А откудова бедный человек мог бы узнать спасительную, глубокую цель поста? Да он и всю свою прежнюю веру знал как один лишь обряд.
Значит, против обряда и протестовал.
Это, положим, понятно. Но почему он так вдруг схватился протестовать? Где причина, его подвигнувшая?
Причина, может быть, очень общая – та, что воссияла ему свет новой жизни с 19 февраля. Он мог споткнуться и упасть с первых шагов на новом пути; но очнуться надо было непременно, а очнувшись, он вдруг увидал, как он «жалок и беден, и слеп, и нищ, и наг»*. Главное, правды захотелось, правды во что бы ни стало, даже жертвуя всем, что было до сих пор ему свято. Потому что никаким развратом, никаким давлением и никаким унижением не истребишь, не замертвишь и не искоренишь в сердце народа нашего жажду правды, ибо эта жажда ему дороже всего. Он может страшно упасть; но в момент самого полного своего безобразия он всегда будет помнить, то он всего только безобразник и более ничего; но что есть где-то высшая правда и что эта правда выше всего.
Вот явление. Явление это, может быть, пока единичное, с краю, но вряд ли случайное. Оно может затихнуть и зачерстветь в самом начале и опять-таки преобразиться в какую-нибудь обрядность, подобно большинству русских сект, особенно если их не трогать. Но, как хотите, в явлении этом, повторяю, может все-таки заключаться как бы нечто пророческое. В настоящее время, когда всё будущное так загадочно, позволительно иногда даже верить в пророчества.
Ну что, если нечто подобное развернется уже по всей Руси? Не это самое, не штундисты (тем более что, говорят, уже приняты надлежащие меры), а только нечто подобное? Что, если весь народ вдруг скажет себе, дойдя до краев своего безобразия и разглядев свою нищету: «Не хочу безобразия, не хочу пить вина, а хочу правды и страха божьего, а главное правды, правды прежде всего».
Что возжаждет он правды – в том, конечно, явление отрадное. А между тем вместо правды может выйти чрезвычайная ложь, как и у штундистов.
Ну какой в самом деле наш народ протестант и какой он немец? И к чему ему учиться по-немецки, чтобы петь псалмы? И не заключается ли всё, всё, чего ищет он, в православии? Не в нем ли одном и правда и спасение народа русского, а в будущих веках и для всего человечества? Не в православии ли одном сохранился божественный лик Христа во всей чистоте? И может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтоб сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои!
Да, но покамест это всё сбудется, пастор-то вот встал пораньше, с первыми птицами, да и пришел к народу, чтобы сказать ему правду – православную правду, он был очень совестлив; Но народ пошел за ним, а не за православием, не из благодарности только, а за то, что от него первую правду увидел. Ну и вышло, что «у него потому хорошо, что постов нет». Заключение очень понятное, коли замешалась личность.
Ну а кстати что же наши священники? Что об них то слышно?
А наши священники тоже, говорят, просыпаются. Духовное наше сословие, говорят, давно уже начало обнаруживать признаки жизни. С умилением читаем мы назидания владык по церквам своим о проповедничестве и благообразном житии. Наши пастыри, по всем известиям, решительно принимаются за сочинение проповедей и готовятся произнести их.
Поспеют ли только вовремя? Поспеют ли проснуться с первыми птицами? Пастор все-таки птица иная, залетная, да и гарантирован иначе. Ну да и служба совсем другая, начальство и проч. Так-то так, да ведь не чиновник же в самом деле и наш священник! И не проповедник ли он единой великой Истины, имеющей обновить весь мир?
Пастор поспел раньше него, это всё правда; но что же и делать, однако, было священнику в случае, например, хоть штундистов? Мы вот всё наклонны обвинять наших священников, а вникнем, однако неужели ограничиться лишь доносом начальству? О, конечно, нет, добрых пастырей у нас много, может быть, более даже чем можем надеяться или сами того заслуживаем. Но все-таки, что же он стал бы тут проповедовать? (приходит мне иногда в голову как светскому человеку, с делом незнакомому). О преимуществе православия перед лютеранством? Но ведь мужики люди темные ничего не поймут и, пожалуй, не убедятся. Доброе поведение и добрые нравы, говоря вообще и не слишком пускаясь в подробности? Но какие же тут «добрые нравы», когда народ пьян с утра до вечера. Воздержание от вина в таком случае, чтобы истребить зло в самом корне? Без сомнения так, хотя тоже не слишком пускаясь в подробности, ибо… ибо все-таки надо иметь в соображении величие России как великой державы, которое так дорого стоит.* Ну а ведь уж это в некотором роде почти то же, что и «смятенный вид-с». Остается, стало быть, проповедовать, чтобы народ пил немножко только поменьше.
Ну а пастору какое дело до величия России как вели кой европейской державы? И не боится он никакого «смятенного вида», и служба у него совсем другая. А потому дело и осталось за ним.
VIII
Полписьма «одного лица»
Ниже я помещаю письмо, или, лучше сказать, полписьма «одного лица», в редакцию «Гражданина», всё письмо напечатать было никак невозможно. Это всё то же «лицо», вот тот самый, который уже отличился раз в «Гражданине» насчет «могилок»*. Признаюсь, печатаю, единственно чтобы от него отвязаться. Редакция буквально задавлена его статьями. Во-первых, это «лицо» решительно выступает моим защитником против литературных «врагов» моих*. Он написал уже за меня и в пользу мою три «антикритики», две «заметки», три «случайные заметки», одно «по поводу» и, наконец, «наставление как вести себя»*. В этом последнем полемическом сочинении своем он под видом наставления «врагам» моим нападает уже на меня самого и нападает в таком даже тоне, что я ничего подобного по энергии и ярости не встречал даже и у «врагов» моих. Он хочет, чтобы я это всё напечатал! Я решительно заявил ему, что, во-первых, «врагов моих» никаких не имею и что всё это только так и призраки; во-вторых, что и время уже прошло, ибо весь этот гам журналистов, раздавшийся с появления первого № «Гражданина» сего 1873 года с такою неслыханною литературною яростью, беспардонностью и простодушием приемов атаки, теперь, недели две, даже три тому назад, вдруг и неизвестно почему прекратился, точно так же как неизвестно почему и начался*. Наконец, что если бы я и вздумал кому отвечать, то сумел бы это сделать сам, без его помощи.
Он рассердился и, поссорясь со мною, вышел. Я даже был рад тому. Это человек болезненный… Он в напечатанной у нас еще прежде статье уже сообщил отчасти некоторые черты из своей биографии: человек огорченный и ежедневно себя «огорчающий». Но, главное, меня пугает эта непомерная сила «гражданской энергии» сего сотрудника*. Представьте, он с первых слов заявил мне, что не требует ни малейшего гонорария, а пишет единственно из «гражданского долга». Даже признался мне с гордою, но вредящею себе откровенностью, что писал вовсе не для того, чтобы защищать меня, а единственно чтобы провести при сем случае свои мысли, так как их ни в одной редакции не принимают. Он просто-запросто питал сладкую надежду отмежевать себе, хоть задаром, постоянный уголок в нашем журнале, чтобы иметь возможность постоянно излагать свои мысли. Какие же это мысли? Пишет он обо всем, отзывается на всё с горечью, с яростью, с ядом и со «слезой умиления». «Девяносто процентов на яд и один процент на слезу умиления!» – объявляет он сам в одной своей рукописи. Начнется новый журнал или новая газета, и он уже немедленно тут: поучает и дает наставления. Это совершенная правда, что в одну газету он отослал до сорока писем с наставлениями, то есть как издавать, как вести себя, об чем писать и на что обращать внимание. В нашей редакции накопилось его писем, в два с половиною месяца, до двадцати осьми штук. Пишет он всегда за своею полною подписью, так что его везде уже знают, и мало того, что тратит последние копейки на франкировку, но еще в письма же вкладывает свежие марки, предполагая, что добьется-таки своего и затеет гражданскую переписку с редакциями. Всего более удивляет меня, что я никак не мог, даже из двадцати восьми его писем, открыть, какого он направления и чего, собственно, так добивается?* Это какой-то сумбур… Рядом с грубостью приемов, с цинизмом красного носа и «огорченного запаха» исступленного слога и разорванных сапогов мелькает какая-то скрытая жажда нежности, чего-то идеального, вера в красоту, Sehnsucht[8]8
томление, тоска (нем.).
[Закрыть] по чему-то утраченному*, и всё это выходит как-то до крайности в нем отвратительно. И вообще он мне надоел. Правда, он грубит открыто и денег за это не требует, стало быть, отчасти лицо благородное; но бог с ним и с его благородством! Не далее как три дня после нашей ссоры он явился опять, с «последнею уже попыткой», и принес вот это «Письмо „одного лица“» Нечего делать, я взял и должен теперь напечатать.
Первую половину письма решительно нельзя напечатать. Это одни только личности и ругательства чуть не всем петербургским и московским изданиям, выходящие изо всякой мерки. Ни одно из упрекаемых им изданий не возвышалось до такого цинизма в ругательствах. И главное, сам-то он их ругает единственно за цинизм и за дурной тон их полемики. Я просто отрезал ножницами всю первую часть письма и возвратил ему. Заключительную же часть печатаю лишь потому, что тут, так сказать, тема общая: это некое увещание какому-то воображаемому фельетонисту, – увещание даже пригодное для фельетонистов всех веков и народов, до того оно общее. Слог возвышенный, причем сила слога равняется лишь наивности изложенных мыслей. Обращаясь с увещанием к фельетонисту, он говорит ему ты, как в одах старого времени. Он ни за что не хотел, чтобы я начал с точки, и настоял на том, чтобы печатание полуписьма его началось с полуфразы, именно так, как отрезалось ножницами: пусть, дескать, увидят, как меня исказили! Он же отстоял и заглавие: я хотел все-таки написать «Письмо „одного лица“», он непременно потребовал, чтобы озаглавлено было «Полписьма „одного лица“».
Итак, вот эти полписьма:
Полписьма «одного лица»
..и неужели в слове «свинья» заключается столь магический и заманчивый смысл, что ты тотчас же и несомненно принимаешь его на свой счет? Я давно уже стал замечать, что в русской литературе это словцо постоянно имеет некоторый особенный и даже как бы мистический смысл. Даже дедушка Крылов, понимая это, употреблял с особою любовью «свинью» в своих апологах. Читающий литератор, даже в уединении и про себя, встретившись с словом сим, немедленно вздрагивает и тотчас же начинает задумываться: «Не я ли это? Не про меня ли написано?» Согласен, что словцо энергическое, но зачем же подразумевать непременно себя и даже себя одного? Есть и другие кроме тебя. Уж не имеешь ли тайных причин к сему? Ибо чем иначе могу объяснить твою мнительность?*[9]9
Это несомненно преувеличено, но отчасти и верно. Тут намек собственно на то, что в первом № «Гражданина» я имел несчастие привести одну древнейшую индийскую басню о дуэли льва и свиньи, причем ловко отклонил даже самую возможность предположения, что слово «лев» не скромно отношу на свой счет. И что же? Действительно многие выказали чрезвычайную и поспешную мнительность. Даже было нечто вроде феномена в редакцию пришло письмо одного подписчика из одной далекой окраины России, подписчик дерзко и азартно укоряет редакцию за то, что под словом «свинья» она будто бы несомненно подразумевает своих подписчиков – предположение до того нелепое, что даже иные и петербургские фельетонисты не решились им воспользоваться в своих обвинениях… а это уже мера всему. Ред.
[Закрыть]
Второе, что замечу тебе, о друг мой фельетонист, это то, что ты невоздержан в планировке своих фельетонов. Ты напихиваешь в столбцы свои столько генералов, акционеров, князей, в тебе и в острых словах твоих имеющих нужду, что поневоле заключаю, читая, что за обилием многих не имеешь ни одного. Здесь ты присутствуешь на значительном заседании совета и изрекаешь бонмо, свысока и небрежно, но тем бросаешь луч света, и совет немедленно и торопливо переменяется к лучшему. Там в глаза осмеял одного богатого князя, за что он немедленно зовет тебя на обед, но ты проходишь мимо и гордо, но либерально от обеда отказываешься. Там заезжему милорду, в интимном разговоре в салоне, в шутку открываешь всю тайную подкладку России: он в страхе и в восхищении тут же телеграфирует в Лондон и на другой же день министерство Виктории* падает. Там, на Невском, на прогулке от двух до четырех ты разрешаешь государственную, задачу трем отставным, но бегущим за тобою министрам; встречаешь проигравшегося гвардейского ротмистра и бросаешь ему двести рублей взаймы; с ним едешь к Фифине для благородного (будто бы?) негодования… Одним словом, ты тут, ты там, ты везде; ты рассыпан в обществе, тебя рвут нарасхват; глотаешь трюфели, ешь конфекты, разъезжаешь на извозчиках, в дружбе с половыми у Палкина* – словом, без тебя ничего. Столь высокая обстановка твоя является, наконец, подозрительною. Тихий читатель провинции сочтет тебя, может быть, и вправду за обойденного наградой или по крайней мере за отставного министра, желающего вновь путем свободной, но оппозиционной печати возвратить свою должность. Но опытный житель обеих столиц знает иное: ибо знает он, что ты не более как нанятой борзописец у антрепренера-издателя; ты нанят и обязан его защищать.* Он же (но никто другой) натравливает тебя на кого ему вздумается.
Итак, весь этот гнев и азарт в тебе, весь этот лай твой – всё это лишь наемное и натравленное чужою рукой. И добро бы ты сам за себя стоял! Напротив, чему всего более удивляюсь в тебе – это тому, что ты, наконец, горячишься действительно, принимаешь к сердцу как будто в самом деле свое, ругаешься с фельетонистом-соперником как бы из-за какой-то любимой идеи, из-за дорогого тебе убеждения. Между тем знаешь сам, что своих идей не имеешь, а убеждений и подавно. Или, может быть, вследствие многолетней горячки и упоения смрадным успехом своим ты возмечтал наконец, что у тебя есть идея, что и ты способен иметь убеждение? Если так, то как же рассчитываешь после сего на мое уважение?
Некогда ты был честным и благообразным юношей… О, вспомни у Пушкина, если не ошибаюсь, с персидского: почтенный старец говорит рвущемуся сразиться юноше:
Я боюсь, среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда.*
Увы, ты всё это и давно уже навсегда утратил! Смотри сам, как ты споришь с фельетонным врагом твоим, и пойми, до чего вы наконец доругались! Ибо вовсе вы уже не так подлы, как друг друга рисуете. Вспомни, что в детском возрасте дети дерутся наиболее потому, что не научились еще разумно излагать свои мысли. Ты же, седое дитя, за неимением мыслей бранишься всеми словами разом, – худой прием! Именно за неимением убеждений и настоящей учености ты стараешься более вникнуть в частную жизнь своего соперника; с жадностью узнаешь проступки его, искажаешь их и предаешь их благодетельной гласности.* Не жалеешь жены и детей его. Предполагая друг друга умершими, пишете каждый и обоюдно один другому, в виде пашквиля, по надгробному слову. Скажи же, кто поверит тебе, наконец? Читая фельетон твой, обрызганный слюной и чернилами, я невольно наклонен подумать, что ты не прав, что в фельетоне твоем особый и секретный смысл, что вы, верно, где-нибудь подрались на даче и не можете позабыть сего. Невольно заключаю в пользу твоего соперника, и эффект твой манкирован. А к тому ли стремился ты?
И какая детская неумелость в тебе? Обругав соперника, ты заключаешь свой фельетон словами: «Вижу вас, господин NN, как вы, прочитав эти строки, бегаете вне себя по комнате, рвете ваши волосы, кричите на вбежавшую в испуге жену свою, гоните прочь детей и, скрежеща зубами, колотите в стену кулаком от бессильного бешенства…*»
Друг мой, простодушный, но исступленный страдалец своего фиктивного, напускного в пользу антрепренера бешенства, о друг мой, фельетонист! Скажи: прочитав в твоем фельетоне подобные строки будто бы о твоем сопернике, неужели я не догадаюсь, что это ты, ты сам, а не соперник твой, бегаешь по своей комнате, рвешь свои волосы, бьешь вбежавшего в испуге лакея, если он есть у тебя и с 19 февраля еще не утратил первобытной невинности; с визгом и скрежетом кидаешься ты на стену и отбиваешь в кровь кулаки свои! Ибо кто поверит, что можно послать такие строки сопернику, не отбив в кровь своих собственных кулаков предварительно? Таким образом, сам выдаешь себя.
Очнись же и приобрети стыд. Приобретя стыд, приобретешь и уменье писать фельетоны – вот выгода.
Представлю тебе аллегорию. Ты вдруг публикуешь в афишке, что на будущей неделе в четверг или в пятницу (словом, представь себе день, в который пишешь свои фельетоны) в театре Берга* или в особо устроенном для того помещении будешь показывать себя нагишом и даже в совершенной подробности. Верю, что найдутся любители; такие зрелища особенно привлекают современное общество. Верю, что съедутся и даже во множестве, но для того ли, чтобы уважать тебя? А если так, то в чем же твое торжество?
Теперь рассуди, если можешь: не то ли самое изображают твои фельетоны? Не выходишь, ли каждую неделю, в такой-то имено день, нагишом и со всеми подробностями перед публику?* И для чего, для кого ты стараешься?
Тут смешнее всего, что вся публика знает весь секрет войны вашей, знает и знать не хочет, проходит мимо вас равнодушно; вы же рветесь из себя и думаете, что все берут в вас участие. Человек простодушный! Публике слишком известно, что антрепренер столичной газеты, когда по примеру его основалась другая газета, в испуге сказал себе, схватясь за карман: «Эта новооснованная негодница может лишить меня двух или двух с половиною тысяч подписчиков. Найму же кудлашку и натравлю на соперницу». Кудлашка – ведь это ты!
Антрепренер тобою доволен; он гладит свои бакенбарды и после завтрака с улыбкою думает: «Как я, однако же, натравил его!»
Помнишь ли ты Антропку в Тургеневе? Сия вещь любимого писателя публики поистине гениальная.* Антропка есть провинциальный мальчишка, или, вернее, брат другого провинциального мальчишки, и уже Антропки (а первый, положим, Нефед), скрывшегося из избы в темную летнюю ночь по поводу сделанной шалости. Строгий отец послал старшего мальчика привести нашалившего братишку домой. И вот над обрывом оврага раздаются раздирательные вопли:
– Антропка! Антропка!
Долго не откликается виноватый шалун, но наконец «как бы с того света» раздается дрожащий и робкий голосенок его с другой стороны оврага:
– Чиво-о?
– А тебя тятенька выси-ичь хочи-ит! – с злобною и торопливою радостью подхватывает старший братишка.
Голос «с того света», разумеется, затихает. Но вот с надрывом и с бессильным, самоскребущим озлоблением всё еще слышатся в темную ночь бесконечные, но бессильные вопли:
– Антропка-а! Антропка-а-а!
Сей гениальный возглас к Антропке и – что главное – бессильный, но злобный надрыв его может повториться не только среди провинциальных мальчишек, но и между взрослыми, дошедшими до почтенных седин, членами современного, но взволнованного реформами общества. И не напоминает ли тебе хотя бы что-либо сих Антропок в столице? Ибо между сими двумя антрепренерами столичных изданий не замечаешь ли нечто антропочное? Ты и соперник твой – не высланы ли вы оба своими хозяевами для отыскания Антропок? Антропки – не те ли это из предполагаемых вами новых подписчиков, которые могли бы поверить вашей невинности? Вы знаете оба, что вся ваша ярость, весь надрыв и старания ваши останутся втуне, что не отзовется Антропка, что не отобьете вы друг у друга ни одного подписчика, что у каждого будет довольно и без того; но вы уже так въелись в игру сию и так нраится вам этот скребущий сердца ваши до крови фельетонный бессильный надрыв, что вы уже не можете удержаться! И вот еженедельно и в известные дни среди темной ночи, объявшей нашу литературу, с надрывом и с яростью раздается: «Антропка-а! Антропка-а!» И мы это слушаем.