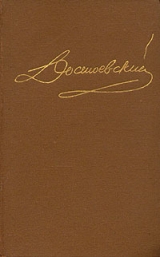
Текст книги "Том 4. Произведения 1861-1866"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 61 страниц)
Я снова начал ее уговаривать и разуверять и наконец, кажется, разуверил. Она отвечала, что боится теперь заснуть, потому что дедушку увидит. Наконец крепко обняла меня…
– А все-таки я не могу тебя покинуть, Ваня! – сказала она мне, прижимаясь к моему лицу своим личиком. – Если б и дедушки не было, я всё с тобой не расстанусь.
В доме все были испуганы припадком Нелли. Я потихоньку пересказал доктору все ее грезы и спросил у него окончательно, как он думает о ее болезни?
– Ничего еще неизвестно, – отвечал он, соображая, – я покамест догадываюсь, размышляю, наблюдаю, но… ничего неизвестно. Вообще выздоровление невозможно. Она умрет. Я им не говорю, потому что вы так просили, но мне жаль, и я предложу завтра же консилиум. Может быть, болезнь примет после консилиума другой оборот. Но мне очень жаль эту девочку, как дочь мою… Милая, милая девочка! И с таким игривым умом!
Николай Сергеич был в особенном волнении.
– Вот что, Ваня, я придумал, – сказал он, – она очень любит цветы. Знаешь что? Устроим-ка ей завтра, как она проснется, такой же прием, с цветами, как она с этим Генрихом для своей мамаши устроила, вот что сегодня рассказывала… Она это с таким волнением рассказывала…
– То-то с волнением, – отвечал я. – Волнения-то ей теперь вредны…
– Да, но приятные волнения другое дело! Уж поверь, голубчик, опытности моей поверь, приятные волнения ничего; приятные волнения даже излечить могут, на здоровье подействовать…
Одним словом, выдумка старика до того прельщала его самого, что он уже пришел от нее в восторг. Невозможно было и возражать ему. Я спросил совета у доктора, но прежде чем тот собрался сообразить, старик уже схватил свой картуз и побежал обделывать дело.
– Вот что, – сказал он мне, уходя, – тут неподалеку есть одна оранжерея; богатая оранжерея. Садовники распродают цветы, можно достать, и предешево!.. Удивительно даже, как дешево! Ты внуши это Анне Андреевне, а то она сейчас рассердится за расходы… Ну, так вот… Да! вот что еще, дружище: куда ты теперь? Ведь отделался, кончил работу, так чего ж тебе домой-то спешить? Ночуй у нас, наверху, в светелке: помнишь, как прежде бывало. И тюфяк твой и кровать – всё там на прежнем месте стоит и не тронуто. Заснешь, как французский король. А? останься-ка. Завтра проснемся пораньше, принесут цветы, и к восьми часам мы вместе всю комнату уберем. И Наташа поможет: у ней вкусу-то ведь больше, чем у нас с тобой… Ну, соглашаешься? Ночуешь?
Решили, что я останусь ночевать. Старик обделал дело. Доктор и Маслобоев простились и ушли. У Ихменевых ложились спать рано, в одиннадцать часов. Уходя, Маслобоев был в задумчивости и хотел мне что-то сказать, но отложил до другого раза. Когда же я, простясь с стариками, поднялся в свою светелку, то, к удивлению моему, увидел его опять. Он сидел в ожидании меня за столиком и перелистывал какую-то книгу.
– Воротился с дороги, Ваня, потому лучше уж теперь рассказать. Садись-ка, Видишь, дело-то всё такое глупое, досадно даже…
– Да что такое?
– Да подлец твой князь разозлил еще две недели тому назад; да так разозлил, что я до сих пор злюсь.
– Что, что такое? Разве ты всё еще с князем в сношениях?
– Ну, вот уж ты сейчас: «что, что такое?», точно и бог знает что случилось. Ты, брат Ваня, ни дать ни взять, моя Александра Семеновна, и вообще всё это несносное бабье… Терпеть не могу бабья!.. Ворона каркнет – сейчас и «что, что такое?»
– Да ты не сердись.
– Да я вовсе не сержусь, а на всякое дело надо смотреть обыкновенными глазами, не преувеличивая… вот что.
Он немного помолчал, как будто всё еще сердясь на меня. Я не прерывал его.
– Видишь, брат, – начал он опять, – напал я на один след… то есть в сущности вовсе не напал и не было никакого следа, а так мне показалось… то есть из некоторых соображений я было вывел, что Нелли… может быть… Ну, одним словом, Князева законная дочь.
– Что ты!
– Ну, и заревел сейчас: «что ты!» То есть ровно ничего говорить нельзя с этими людьми! – вскричал он, неистово махнув рукой. – Я разве говорил тебе что-нибудь положительно, легкомысленная ты голова? Говорил я тебе, что она доказанная законнаяКнязева дочь? Говорил или нет?..
– Послушай, душа моя, – прервал я его в сильном волнении, – ради бога, не кричи и объясняйся точно и ясно. Ей-богу, пойму тебя. Пойми, до какой степени это важное дело и какие последствия…
– То-то последствия, а из чего? Где доказательства? Дела не так делаются, и я тебе под секретом теперь говорю. А зачем я об этом с тобой заговорил – потом объясню. Значит, так надо было. Молчи и слушай и знай, что всё это секрет…
Видишь, как было дело. Еще зимой, еще прежде, чем Смит умер, только что князь воротился из Варшавы, и начал он это дело. То есть начато оно было и гораздо раньше, еще в прошлом году. Но тогда он одно разыскивал, а теперь начал разыскивать другое. Главное дело в том, что он нитку потерял. Тринадцать лет, как он расстался в Париже с Смитихой и бросил ее, но все эти тринадцать лет он неуклонно следил за нею, знал, что она живет с Генрихом, про которого сегодня рассказывали, знал, что у ней Нелли, знал, что сама она больна; ну, одним словом, всё знал, только вдруг и потерял нитку. А случилось это, кажется, вскоре по смерти Генриха, когда Смитиха собралась в Петербург. В Петербурге он, разумеется, скоро бы ее отыскал, под каким бы именем она ни воротилась в Россию; да дело в том, что заграничные его агенты его ложным свидетельством обманули: уверили его, что она живет в одном каком-то заброшенном городишке в южной Германии; сами они обманулись по небрежности: одну приняли за другую. Так и продолжалось год или больше. По прошествии года князь начал сомневаться: по некоторым фактам ему еще прежде стало казаться, что это не та. Теперь вопрос: куда делась настоящая Смитиха? И пришло ему в голову (так, даже безо всяких данных): не в Петербурге ли она? Покамест за границей шла одна справка, он уже здесь затеял другую, но, видно, не хотел употреблять слишком официального пути и познакомился со мной. Ему меня рекомендовали: так и так, дескать, занимается делами, любитель, – ну и так далее, и так далее…
Ну, так вот и разъяснил он мне дело; только темно, чертов сын, разъяснил, темно и двусмысленно. Ошибок было много, повторялся несколько раз, факты в различных видах в одно и то же время передавал… Ну, известно, как ни хитри, всех ниток не спрячешь. Я, разумеется, начал с подобострастия и простоты душевной, – словом, рабски предан; а по правилу, раз навсегда мною принятому, а вместе с тем и по закону природы (потому что это закон природы) сообразил, во-первых: ту ли надобность мне высказали? Во-вторых: не скрывается ли под высказанной надобностью какой-нибудь другой, недосказанной? Ибо в последнем случае, как, вероятно, и ты, милый сын, можешь понять поэтической своей головой, – он меня обкрадывал: ибо одна надобность, положим, рубль стоит, а другая вчетверо стоит; так дурак же я буду, если за рубль передам ему то, что четырех стоит. Начал я вникать и догадываться и мало-помалу стал нападать на следы; одно у него самого выпытал, другое – кой от кого из посторонних, насчет третьего своим умом дошел. Спросишь ты неравно: почему именно я так вздумал действовать? Отвечу: хоть бы по тому одному, что князь слишком уж что-то захлопотал, чего-то уж очень испугался. Потому в сущности – чего бы, кажется, пугаться? Увез от отца любовницу, она забеременела, а он ее бросил. Ну, что тут удивительного? Милая, приятная шалость и больше ничего. Не такому человеку, как князь, этого бояться! Ну, а он боялся… Вот мне и сомнительно стало. Я, брат, на некоторые прелюбопытные следы напал, между прочим через Генриха. Он, конечно, умер; но от одной из кузин его (теперь за одним булочником здесь, в Петербурге), страстно влюбленной в него прежде и продолжавшей любить его лет пятнадцать сряду, несмотря на толстого фатера-булочника, с которым невзначай прижила восьмерых детей, – от этой-то кузины, говорю, я и успел, через посредство разных многосложных маневров, узнать важную вещь: Генрих писал ей по немецкому обыкновению письма и дневники, а перед смертью прислал ей кой-какие свои бумаги. Она, дура, важного-то в этих письмах не понимала, а понимала в них только те места, где говорится о луне, о мейн либер Августине и о Виланде * еще, кажется. Но я-то сведения нужные получил и через эти письма на новый след напал. Узнал я, например, о господине Смите, о капитале, у него похищенном дочкой, о князе, забравшем в свои руки капитал; наконец, среди разных восклицаний, обиняков и аллегорий проглянула мне в письмах и настоящая суть: то есть, Ваня, понимаешь! Ничего положительного. Дурачина Генрих нарочно об этом скрывал и только намекал, ну, а из этих намеков, из всего-то вместе взятого, стала выходить для меня небесная гармония: князь ведь был на Смитихе-то женат! Где женился, как, когда именно, за границей или здесь, где документы? – ничего неизвестно. То есть, брат Ваня, я волосы рвал с досады и отыскивал-отыскивал, то есть дни и ночи разыскивал!
Разыскал я наконец и Смита, а он вдруг и умри. Я даже на него живого-то и не успел посмотреть. Тут, по одному случаю, узнаю я вдруг, что умерла одна подозрительная для меня женщина на Васильевском острове, справляюсь – и нападаю на след. Стремлюсь на Васильевский, и, помнишь, мы тогда встретились. Много я тогда почерпнул. Одним словом, помогла мне тут во многом и Нелли…
– Послушай, – прервал я его, – неужели ты думаешь, что Нелли знает…
– Что?
– Что она дочь князя?
– Да ведь ты сам знаешь, что она дочь князя, – отвечал он, глядя на меня с какою-то злобною укоризною, – ну, к чему такие праздные вопросы делать, пустой ты человек? Главное не в этом, а в том, что она знает, что она не просто дочь князя, а законнаядочь князя, – понимаешь ты это?
– Быть не может! – вскричал я.
– Я и сам говорил себе «быть не может» сначала, даже и теперь иногда говорю себе «быть не может»! Но в том-то и дело, что это быть можети, по всей вероятности, есть.
– Нет, Маслобоев, это не так, ты увлекся, – вскричал я. – Она не только не знает этого, но она и в самом деле незаконная дочь. Неужели мать, имея хоть какие-нибудь документы в руках, могла выносить такую злую долю, как здесь в Петербурге, и, кроме того, оставить свое дитя на такое сиротство? Полно! Этого быть не может.
– Я и сам это думал, то есть это даже до сих пор стоит передо мной недоумением. Но опять-таки дело в том, что ведь Смитиха была сама по себе безумнейшая и сумасброднейшая женщина в мире. Необыкновенная она женщина была; ты сообрази только все обстоятельства: ведь это романтизм, – всё это надзвездные глупости в самом диком и сумасшедшем размере. Возьми одно: с самого начала она мечтала только о чем-то вроде неба на земле и об ангелах, влюбилась беззаветно, поверила безгранично и, я уверен, с ума сошла потом не оттого, что он ее разлюбил и бросил, а оттого, что в нем она обманулась, что он способен былее обмануть и бросить; оттого, что ее ангел превратился в грязь, оплевал и унизил ее. Ее романтическая и безумная душа не вынесла этого превращения. А сверх того и обида: понимаешь, какая обида! В ужасе и, главное, в гордости она отшатнулась от него с безграничным презрением. Она разорвала все связи, все документы; плюнула на деньги, даже забыла, что они не ее, а отцовы, и отказалась от них, как от грязи, как от пыли, чтоб подавить своего обманщика душевным величием, чтоб считать его своим вором и иметь право всю жизнь презирать его, и тут же, вероятно, сказала, что бесчестием себе почитает называться и женой его. У нас развода нет, но de facto [17]17
фактически (лат.).
[Закрыть]они развелись, и ей ли было после умолять его о помощи! Вспомни, что она, сумасшедшая, говорила Нелли уже на смертном одре: не ходи к ним, работай, погибни, но не ходи к ним, кто бы ни звал тебя(то есть она и тут мечтала еще, что ее позовут,а следственно, будет случай отметить еще раз, подавить презрением зовущего, – одним словом, кормила себя вместо хлеба злобной мечтой). Много, брат, я выпытал и у Нелли; даже и теперь иногда выпытываю. Конечно, мать ее была больна, в чахотке; эта болезнь особенно развивает озлобление и всякого рода раздражения; но, однако ж, я наверно знаю, через одну куму у Бубновой, что она писала к князю, да, к князю, к самому князю…
– Писала! И дошло письмо? – вскричал я с нетерпением.
– Вот то-то и есть, не знаю, дошло ли оно. Раз Смитиха сошлась с этой кумой (помнишь, у Бубновой девка-то набеленная? – теперь она в смирительном доме), ну и посылала с ней это письмо и написала уж его, да и не отдала, назад взяла; это было за три недели до ее смерти… Факт значительный: если раз уж решалась послать, так всё равно, хоть и взяла обратно: могла другой раз послать. Итак, посылала ли она письмо или не посылала – не знаю; но есть одно основание предположить, что не посылала, потому что князь узнал наверно,что она в Петербурге и где именно, кажется, уже после смерти ее. То-то, должно быть, обрадовался!
– Да, я помню, Алеша говорил о каком-то письме, которое его очень обрадовало, но это было очень недавно, всего каких-нибудь два месяца. Ну, что ж дальше, дальше, как же ты-то с князем?
– Да что я-то с князем? Пойми: полнейшая нравственная уверенность и ни одного положительного доказательства, – ни одного,как я ни бился. Положение критическое! Надо было за границей справки делать, а где за границей? – неизвестно. Я, разумеется, понял, что предстоит мне бой, что я только могу его испугать намеками, прикинуться, что знаю больше, чем в самом деле знаю…
– Ну, и что ж?
– Не дался в обман, а, впрочем, струсил, до того струсил, что трусит и теперь. У нас было несколько сходок; каким он Лазарем было прикинулся * ! Раз, по дружбе, сам мне всё принялся рассказывать. Это когда думал, что я всёзнаю. Хорошо рассказывал, с чувством, откровенно – разумеется, бессовестно лгал. Вот тут я и измерил, до какой степени он меня боялся. Прикидывался я перед ним одно время ужаснейшим простофилей, а наружу показывал, что хитрю. Неловко его запугивал, то есть нарочно неловко; грубостей ему нарочно наделал, грозить ему было начал, – ну, всё для того, чтоб он меня за простофилю принял и как-нибудь да проговорился. Догадался, подлец! Другой раз я пьяным прикинулся, тоже толку не вышло: хитер! Ты, брат, можешь ли это понять, Ваня, мне всё надо было узнать, в какой степени он меня опасается, и второе: представить ему, что я больше знаю, чем знаю в самом деле…
– Ну, что ж наконец-то?
– Да ничего не вышло. Надо было доказательств, фактов, а их у меня не было. Одно только он понял, что я все-таки могу сделать скандал. Конечно, он только скандала одного и боялся, тем более что здесь связи начал заводить. Ведь ты знаешь, что он женится?
– Нет…
– В будущем году! Невесту он себе еще в прошлом году приглядел; ей было тогда всего четырнадцать лет, теперь ей уж пятнадцать, кажется, еще в фартучке ходит, бедняжка. Родители рады! Понимаешь, как ему надо было, чтоб жена умерла? Генеральская дочка, денежная девочка – много денег! Мы, брат Ваня, с тобой никогда так не женимся… Только чего я себе во всю жизнь не прощу, – вскричал Маслобоев, крепко стукнув кулаком по столу, – это – что он оплел меня, две недели назад… подлец!
– Как так?
– Да так. Я вижу, он понял, что у меня нет ничего положительного,и, наконец, чувствую про себя, что чем больше дело тянуть, тем скорее, значит, поймет он мое бессилие. Ну, и согласился принять от него две тысячи.
– Ты взял две тысячи!..
– Серебром, Ваня; скрепя сердце взял. Ну, двух ли тысяч такое дело могло стоить! С унижением взял. Стою перед ним, как оплеванный; он говорит: я вам, Маслобоев, за ваши прежние труды еще не заплатил (а за прежние он давно заплатил сто пятьдесят рублей, по условию), ну, так вот я еду; тут две тысячи, и потому, надеюсь, всёнашедело совершенно теперь кончено. Ну, я и отвечал ему: «Совершенно кончено, князь», а сам и взглянуть в его рожу не смею; думаю: так и написано теперь на ней: «Что, много взял? Так только, из благодушия одного дураку даю!» Не помню, как от него и вышел!
– Да ведь это подло, Маслобоев! – вскричал я, – что ж ты сделал с Нелли?
– Это не просто подло, это каторжно, это пакостно… Это… это… да тут и слов нет, чтобы выразить!
– Боже мой! Да ведь он по крайней мере должен бы хоть обеспечить Нелли!
– То-то должен. А чем принудить? Запугать? Небось не испугается: ведь я деньги взял. Сам, сам перед ним признался, что всего страху-то у меня на две тысячи рублей серебром, сам себя оценил в эту сумму! Чем его теперь напугаешь?
– И неужели, неужели дело Нелли так и пропало? – вскричал я почти в отчаянии.
– Ни за что! – вскричал с жаром Маслобоев и даже как-то весь встрепенулся. – Нет, я ему этого не спущу! Я опять начну новое дело, Ваня: я уж решился! Что ж, что я взял две тысячи? Наплевать. Я, выходит, за обиду взял, потому что он, бездельник, меня надул, стало быть, насмеялся надо мною. Надул, да еще насмеялся! Нет, я не позволю над собой смеяться… Теперь я, Ваня, уж с самой Нелли начну. По некоторым наблюдениям, я вполне уверен, что в ней заключается вся развязка этого дела. Она всёзнает, всё…Ей сама мать рассказала. В горячке, в тоске могла рассказать. Некому было жаловаться, подвернулась Нелли, она ей и рассказала. А может быть, и на документики какие-нибудь нападем, – прибавил он в сладком восторге, потирая руки. – Понимаешь теперь, Ваня, зачем я сюда шляюсь? Во-первых, из дружбы к тебе, это само собою; но главное – наблюдаю Нелли, а в-третьих, друг Ваня, хочешь не хочешь, а ты должен мне помогать, потому что ты имеешь влияние на Нелли!..
– Непременно, клянусь тебе, – вскричал я, – и надеюсь, Маслобоев, что ты, главное, для Нелли будешь стараться – для бедной, обиженной сироты, а не для одной только собственной выгоды…
– Да тебе-то какое дело, для чьей выгоды я буду стараться, блаженный ты человек? Только бы сделать – вот что главное! Конечно, главное для сиротки, это и человеколюбие велит. Но ты, Ванюша, не осуждай меня безвозвратно, если я и об себе позабочусь. Я человек бедный, а он бедных людей не смей обижать. Он у меня мое отнимает, да еще и надул, подлец, вдобавок. Так я, по-твоему, такому мошеннику должен в зубы смотреть? Морген-фри! *
Но цветочный праздник наш на другой день не удался. Нелли сделалось хуже, и она уже не могла выйти из комнаты.
И уж никогда больше она не выходила из этой комнаты.
Она умерла две недели спустя. В эти две недели своей агонии она уже ни разу не могла совершенно прийти в себя и избавиться от своих странных фантазий. Рассудок ее как будто помутился. Она твердо была уверена, до самой смерти своей, что дедушка зовет ее к себе и сердится на нее, что она не приходит, стучит на нее палкою и велит ей идти просить у добрых людей на хлеб и на табак. Часто она начинала плакать во сне и, просыпаясь, рассказывала, что видела мамашу.
Иногда только рассудок как будто возвращался к ней вполне. Однажды мы оставались одни: она потянулась ко мне и схватила мою руку своей худенькой, воспаленной от горячечного жару ручкой.
– Ваня, – сказала она мне, – когда я умру, женись на Наташе!
Это, кажется, была постоянная и давнишняя ее идея. Я молча улыбнулся ей. Увидя мою улыбку, она улыбнулась сама, с шаловливым видом погрозила мне своим худеньким пальчиком и тотчас же начала меня целовать.
За три дня до своей смерти, в прелестный летний вечер, она попросила, чтоб подняли штору и отворили окно в ее спальне. Окно выходило в садик; она долго смотрела на густую зелень, на заходящее солнце и вдруг попросила, чтоб нас оставили одних.
– Ваня, – сказала она едва слышным голосом, потому что была уже очень слаба, – я скоро умру. Очень скоро, и хочу тебе сказать, чтоб ты меня помнил. На память я тебе оставлю вот это (и она показала мне большую ладонку, которая висела у ней на груди вместе с крестом). Это мне мамаша оставила, умирая. Так вот, когда я умру, ты и сними эту ладонку, возьми себе и прочти, что в ней есть. Я и всем им сегодня скажу, чтоб они одному тебе отдали эту ладонку. И когда ты прочтешь, что в ней написано, то поди к немуи скажи, что я умерла, а егоне простила. Скажи ему тоже, что я Евангелие недавно читала. Там сказано: прощайте всем врагам своим. Ну, так я это читала, а еговсе-таки не простила, потому что когда мамаша умирала и еще могла говорить, то последнее, что она сказала, было: «Проклинаю его»,ну так и я егопроклинаю, не за себя, а. за мамашу проклинаю… Расскажи же ему, как умирала мамаша, как я осталась одна у Бубновой; расскажи, как ты видел меня у Бубновой, всё, всё расскажи и скажи тут же, что я лучше хотела быть у Бубновой, а к нему не пошла…
Говоря это, Нелли побледнела, глаза ее сверкали и сердце начало стучать так сильно, что она опустилась на подушки и минуты две не могла проговорить слова.
– Позови их, Ваня, – сказала она наконец слабым голосом, – я хочу с ними со всеми проститься. Прощай, Ваня!..
Она крепко-крепко обняла меня в последний раз. Вошли все наши. Старик не мог понять, что она умирает; допустить этой мысли не мог. Он до последнего времени спорил со всеми нами и уверял, что она выздоровеет непременно. Он весь высох от заботы, он просиживал у кровати Нелли по целым дням и даже ночам… Последние ночи он буквально не спал. Он старался предупредить малейшую прихоть, малейшее желание Нелли и, выходя от нее к нам, горько плакал, но через минуту опять начинал надеяться и уверять нас, что она выздоровеет. Он заставил цветами всю ее комнату. Один раз купил он целый букет прелестнейших роз, белых и красных, куда-то далеко ходил за ними и принес своей Нелличке… Всем этим он очень волновал ее. Она не могла не отзываться всем сердцем своим на такую всеобщую любовь. В этот вечер, в вечер прощанья ее с нами, старик никак не хотел прощаться с ней навсегда. Нелли улыбнулась ему и весь вечер старалась казаться веселою, шутила с ним, даже смеялась… Мы все вышли от нее почти в надежде, но на другой день она уже не могла говорить. Через два дня она умерла.
Помню, как старик убирал ее гробик цветами и с отчаянием смотрел на ее исхудалое мертвое личико, на ее мертвую улыбку, на руки ее, сложенные крестом на груди. Он плакал над ней, как над своим родным ребенком. Наташа, я, мы все утешали его, но он был неутешен и серьезно заболел после похорон Нелли.
Анна Андреевна сама отдала мне ладонку, которую сняла с ее груди. В этой ладонке было письмо матери Нелли к князю. Я прочитал его в день смерти Нелли. Она обращалась к князю с проклятием, говорила, что не может простить ему, описывала всю последнюю жизнь свою, все ужасы, на которые оставляет Нелли, и умоляла его сделать хоть что-нибудь для ребенка. «Он ваш, – писала она, – это дочь ваша,и вы сами знаете,что она ваша, настоящая дочь.Я велела ей идти к вам, когда я умру, и отдать вам в руки это письмо. Если вы не отвергнете Нелли, то, может быть, тамя прощу вас, и в день суда сама стану перед престолом божиим и буду умолять Судию простить вам грехи ваши. Нелли знает содержание письма моего; я читала его ей; я разъяснила ей всё,она знает всё, всё…»
Но Нелли не исполнила завещания: она знала всё, но не пошла к князю и умерла непримиренная.
Когда мы воротились с похорон Нелли, мы с Наташей пошли в сад. День был жаркий, сияющий светом. Через неделю они уезжали. Наташа взглянула на меня долгим, странным взглядом.
– Ваня, – сказала она. – Ваня, ведь это был сон!
– Что было сон? – спросил я.
– Всё, всё, – отвечала она, – всё, за весь этот год. Ваня, зачем я разрушила твое счастье? И в глазах ее я прочел: «Мы бы могли быть навеки счастливы вместе!»








