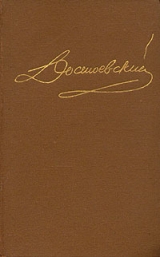
Текст книги "Том 4. Произведения 1861-1866"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 61 страниц)
– Теперь, друг, еще одно слово, – продолжал он. – Слышал я, как твоя слава сперва прогремела; читал потом на тебя разные критики (право, читал; ты думаешь, я уж ничего не читаю); встречал тебя потом в худых сапогах, в грязи без калош, в обломанной шляпе и кой о чем догадался. По журналистам теперь промышляешь?
– Да, Маслобоев.
– Значит, в почтовые клячи записался?
– Похоже на то.
– Ну, так на это я, брат, вот что скажу: пить лучше! Я вот напьюсь, лягу себе на диван (а у меня диван славный, с пружинами) и думаю, что вот я, например, какой-нибудь Гомер или Дант, или какой-нибудь Фридрих Барбаруса * , – ведь всё можно себе представить. Ну, а тебе нельзя представлять себе, что ты Дант или Фридрих Барбаруса, во-первых, потому что ты хочешь быть сам по себе, а во-вторых, потому что тебе всякое хотение запрещено, ибо ты почтовая кляча. У меня воображение, а у тебя действительность. Послушай же откровенно и прямо, по-братски (не то на десять лет обидишь и унизишь меня), – не надо ли денег? Есть. Да ты не гримасничай. Деньги возьми, расплатись с антрепренерами * , скинь хомут, потом обеспечь себе целый год жизни и садись за любимую мысль, пиши великое произведение! А? Что скажешь?
– Слушай, Маслобоев! Братское твое предложение ценю, но ничего не могу теперь отвечать – а почему – долго рассказывать. Есть обстоятельства. Впрочем, обещаюсь: всё расскажу тебе потом, по-братски. За предложение благодарю: обещаюсь, что приду к тебе и приду много раз. Но вот в чем дело: ты со мной откровенен, а потому и я решаюсь спросить у тебя совета, тем более что ты в этих делах мастак.
И я рассказал ему всю историю Смита и его внучки, начиная с самой кондитерской. Странное дело: когда я рассказывал, мне по глазам его показалось, что он кой-что знает из этой истории. Я спросил его об этом.
– Нет, не то, – отвечал он. – Впрочем, так кой-что о Смите я слышал, что умер какой-то старик в кондитерской. А об мадам Бубновой я действительно кой-что знаю. С этой дамы я уж взял два месяца тому назад взятку. Je prends mon bien, où je le trouve 1и только в этом смысле похож на Мольера * . Но хотя я и содрал с нее сто рублей, все-таки я тогда же дал себе слово скрутить ее уже не на сто, а на пятьсот рублей. Скверная баба! Непозволительными делами занимается. Оно бы ничего, да иногда уж слишком до худого доходит. Ты не считай меня, пожалуйста, Дон-Кихотом. Дело всё в том, что может крепко мне перепасть, и когда я, полчаса тому назад, Сизобрюхова встретил, то очень обрадовался. Сизобрюхова, очевидно, сюда привели, и привел его пузан, а так как я знаю, по какого рода делам пузан особенно промышляет, то и заключаю… Ну, да уж я его накрою! Я очень рад, что от тебя про эту девочку услыхал; теперь я на другой след попал. Я ведь, брат, разными частными комиссиями занимаюсь, да еще с какими людьми знаком! Разыскивал я недавно одно дельце, для одного князя, так я тебе скажу – такое дельце, что от этого князя и ожидать нельзя было. А то, хочешь, другую историю про мужнюю жену расскажу? Ты, брат, ко мне ходи, я тебе таких сюжетов наготовил, что, опиши их, так не поверят тебе…
– А как фамилия того князя? – перебил я его, предчувствуя что-то.
– А тебе на что? Изволь: Валковский.
– Петр?
– Он. Ты знаком?
– Знаком, да не очень. Ну, Маслобоев, я об этом господине к тебе не раз понаведаюсь, – сказал я, вставая, – ты меня ужасно заинтересовал.
– Вот видишь, старый приятель, наведывайся сколько хочешь. Сказки я умею рассказывать, но ведь до известных пределов, – понимаешь? Не то кредит и честь потеряешь, деловую то есть, ну и так далее.
– Ну, насколько честь позволит.
Я был даже в волнении. Он это заметил.
– Ну, что ж теперь скажешь мне про ту историю, которую я сейчас тебе рассказал. Придумал ты что или нет?
– Про твою историю? А вот подожди меня две минутки; я расплачусь.
Он пошел к буфету и там, как бы нечаянно, вдруг очутился вместе с тем парнем в поддевке, которого так бесцеремонно звали Митрошкой. Мне показалось, что Маслобоев знал его несколько ближе, чем сам признавался мне. По крайней мере, видно было, что сошлись они теперь не в первый раз. Митрошка был с виду парень довольно оригинальный. В своей поддевке, в шелковой красной рубашке, с резкими, но благообразными чертами лица, еще довольно моложавый, смуглый, с смелым сверкающим взглядом, он производил и любопытное и не отталкивающее впечатление. Жест его был как-то выделанно удалой, а вместе с тем в настоящую минуту он, видимо, сдерживал себя, всего более желая себе придать вид чрезвычайной деловитости и солидности.
– Вот что, Ваня, – сказал Маслобоев, воротясь ко мне, – наведайся-ка ты сегодня ко мне в семь часов, так я, может, кой-что и скажу тебе. Один-то я, видишь ли, ничего не значу; прежде значил, а теперь только пьяница и удалился от дел. Но у меня остались прежние сношения; могу кой о чем разведать, с разными тонкими людьми перенюхаться; этим и беру; правда, в свободное, то есть трезвое, время и сам кой-что делаю, тоже через знакомых… больше по разведкам… Ну, да что тут! Довольно… Вот и адрес мой: в Шестилавочной. А теперь, брат, я уж слишком прокис. Пропущу еще золотую, да и домой. Полежу. Придешь – с Александрой Семеновной познакомлю, а будет время, о поэзии поговорим.
– Ну, а о том-то?
– Ну, и о том, может быть.
– Пожалуй, приду, наверно приду…
Глава VIАнна Андреевна уже давно дожидалась меня. То, что я вчера сказал ей о записке Наташи, сильно завлекло ее любопытство, и она ждала меня гораздо раньше утром, по крайней мере часов в десять. Когда же я явился к ней во втором часу пополудни, то муки ожидания достигли в бедной старушке последней степени своей силы. Кроме того, ей очень хотелось объявить мне о своих новых надеждах, возродившихся в ней со вчерашнего дня, и об Николае Сергеиче, который со вчерашнего дня прихворнул, стал угрюм, а между тем и как-то особенно с нею нежен. Когда я появился, она приняла было меня с недовольной и холодной складкой в лице, едва цедила сквозь зубы и не показывала ни малейшего любопытства, как будто чуть не проговорила: «Зачем пришел? Охота тебе, батюшка, каждый день шляться». Она сердилась за поздний приход. Но я спешил и потому без дальнейших проволочек рассказал ей всю вчерашнюю сцену у Наташи. Как только старушка услышала о посещении старшего князя и о торжественном его предложении, как тотчас же соскочила с нее вся напускная хандра. Недостает у меня слов описать, как она обрадовалась, даже как-то потерялась, крестилась, плакала, клала перед образом земные поклоны, обнимала меня и хотела тотчас же бежать к Николаю Сергеичу и объявить ему свою радость.
– Помилуй, батюшка, ведь это он всё от разных унижений и оскорблений хандрит, а вот теперь узнает, что Наташе полное удовлетворение сделано, так мигом всё позабудет.
Насилу я отговорил ее. Добрая старушка, несмотря на то что двадцать пять лет прожила с мужем, еще плохо знала его. Ей ужасно тоже захотелось тотчас же поехать со мной к Наташе. Я представил ей, что Николай Сергеич не только, может быть, не одобрит ее поступка, но еще мы этим повредим всему делу. Насилу-то она одумалась, но продержала меня еще полчаса лишних и всё время говорила только сама. «С кем же я-то теперь останусь, – говорила она, – с такой радостью да сидя одна в четырех стенах?» Наконец я убедил ее отпустить меня, представив ей, что Наташа теперь ждет меня не дождется. Старушка перекрестила меня несколько раз на дорогу, послала особое благословение Наташе и чуть не заплакала, когда я решительно отказался прийти в тот же день еще раз, вечером, если с Наташей не случится чего особенного. Николая Сергеича в этот раз я не видал: он не спал всю ночь, жаловался на головную боль, на озноб и теперь спал в своем кабинете.
Тоже и Наташа прождала меня всё утро. Когда я вошел, она, по обыкновению своему, ходила по комнате, сложа руки и о чем-то раздумывая. Даже и теперь, когда я вспоминаю о ней, я не иначе представляю ее, как всегда одну в бедной комнатке, задумчивую, оставленную, ожидающую, с сложенными руками, с опущенными вниз глазами, расхаживающую бесцельно взад и вперед.
Она тихо, всё еще продолжая ходить, спросила, почему я так поздно? Я рассказал ей вкратце все мои похождения, но она меня почти и не слушала. Заметно было, что она чем-то очень озабочена. «Что нового?» – спросил я. «Нового ничего», – отвечала она, но с таким видом, по которому я тотчас догадался, что новое у ней есть и что она для того и ждала меня, чтоб рассказать это новое, но, по обыкновению своему, расскажет не сейчас, а когда я буду уходить. Так всегда у нас было. Я уж применился к ней и ждал.
Мы, разумеется, начали разговор о вчерашнем. Меня особенно поразило то, что мы совершенно сходимся с ней в впечатлении нашем о старом князе: ей он решительно не нравился, гораздо больше не нравился, чем вчера. И когда мы перебрали по черточкам весь его вчерашний визит, Наташа вдруг сказала:
– Послушай, Ваня, а ведь так всегда бывает, что вот если сначала человек не понравится, то уж это почти признак, что он непременно понравится потом. По крайней мере, так всегда бывало со мною.
– Дай бог так, Наташа. К тому же вот мое мнение, и окончательное: я всё перебрал и вывел, что хоть князь, может быть, и иезуитничает, но соглашается он на ваш брак вправду и серьезно.
Наташа остановилась среди комнаты и сурово взглянула на меня. Всё лицо ее изменилось; даже губы слегка вздрогнули.
– Да как же бы он мог в такомслучае начать хитрить и… лгать? – спросила она с надменным недоумением.
– То-то, то-то! – поддакнул я скорее.
– Разумеется, не лгал. Мне кажется, и думать об этом нечего. Нельзя даже предлога приискать к какой-нибудь хитрости. И, наконец, что ж я такое в глазах его, чтоб до такой степени смеяться надо мной? Неужели человек может быть способен на такую обиду?
– Конечно, конечно! – подтверждал я, а про себя подумал: «Ты, верно, об этом только и думаешь теперь, ходя по комнате, моя бедняжка, и, может, еще больше сомневаешься, чем я».
– Ах, как бы я желала, чтоб он поскорее воротился! – сказала она. – Целый вечер хотел просидеть у меня, и тогда… Должно быть, важные дела, коль всё бросил да уехал. Не знаешь ли, какие, Ваня? Не слыхал ли чего-нибудь?
– А господь его знает. Ведь он всё деньги наживает. Я слышал, участок в каком-то подряде здесь в Петербурге берет. Мы, Наташа, в делах ничего не смыслим.
– Разумеется, не смыслим. Алеша говорил про какое-то письмо вчера.
– Известие какое-нибудь. А был Алеша?
– Был.
– Рано?
– В двенадцать часов: да ведь он долго спит. Посидел. Я прогнала его к Катерине Федоровне; нельзя же, Ваня.
– А разве сам он не собирался туда?
– Нет, и сам собирался…
Она хотела что-то еще прибавить и замолчала. Я глядел на нее и выжидал. Лицо у ней было грустное. Я бы и спросил ее, да она очень иногда не любила расспросов.
– Странный этот мальчик, – сказала она наконец, слегка искривив рот и как будто стараясь не глядеть на меня.
– А что! Верно, что-нибудь у вас было?
– Нет, ничего; так… Он был, впрочем, и милый… Только уж…
– Вот теперь все его горести и заботы кончились, – сказал я.
Наташа пристально и пытливо взглянула на меня. Ей, может быть, самой хотелось бы ответить мне: «Немного-то было у него горестей и забот и прежде»; но ей показалось, что в моих словах та же мысль, она и надулась.
Впрочем, тотчас же опять стала и приветлива, и любезна. В этот раз она была чрезвычайно кротка. Я просидел у ней более часу. Она очень беспокоилась. Князь пугал ее. Я заметил по некоторым ее вопросам, что ей очень бы хотелось узнать наверно, какое именно произвела она на него вчера впечатление? Так ли она себя держала? Не слишком ли она выразила перед ним свою радость? Не была ли слишком обидчива? Или, наоборот, уж слишком снисходительна? Не подумал бы он чего-нибудь? Не просмеял бы? Не почувствовал бы презрения к ней?.. От этой мысли щеки ее вспыхнули как огонь.
– Неужели можно так волноваться из-за того только, что дурной человек что-нибудь подумает? Да пусть его думает! – сказал я.
– Почему же он дурной? – спросила она.
Наташа была мнительна, но чиста сердцем и прямодушна. Мнительность ее происходила из чистого источника. Она была горда, и благородно горда, и не могла перенести, если то, что считала выше всего, предалось бы на посмеяние в ее же глазах. На презрение человека низкого она, конечно, отвечала бы только презрением, но все-таки болела бы сердцем за насмешку над тем, что считала святынею, кто бы ни смеялся. Не от недостатка твердости происходило это. Происходило отчасти и от слишком малого знания света, от непривычки к людям, от замкнутости в своем угле. Она всю жизнь прожила в своем угле, почти не выходя из него. И, наконец, свойство самых добродушных людей, может быть перешедшее к ней от отца, – захвалить человека, упорно считать его лучше, чем он в самом деле, сгоряча преувеличивать в нем все доброе – было в ней развито в сильной степени. Тяжело таким людям потом разочаровываться; еще тяжеле, когда чувствуешь, что сам виноват. Зачем ожидал более, чем могут дать? А таких людей поминутно ждет такое разочарование. Всего лучше, если они спокойно сидят в своих углах и не выходят на свет; я даже заметил, что они действительно любят свои углы до того, что даже дичают в них. Впрочем, Наташа перенесла много несчастий, много оскорблений. Это было уже больное существо, и ее нельзя винить, если только в моих словах есть обвинение.
Но я спешил и встал уходить. Она изумилась и чуть не заплакала, что я ухожу, хотя всё время, как я сидел, не показывала мне никакой особенной нежности, напротив, даже была со мной как будто холоднее обыкновенного. Она горячо поцеловала меня и как-то долго посмотрела мне в глаза.
– Послушай, – сказала она, – Алеша был пресмешной сегодня и даже удивил меня. Он был очень мил, очень счастлив с виду, но влетел таким мотыльком, таким фатом, всё перед зеркалом вертелся. Уж он слишком как-то без церемонии теперь… да и сидел-то недолго. Представь: мне конфет привез.
– Конфет? Что ж, это очень мило и простодушно. Ах, какие вы оба! Вот уж и пошли теперь наблюдать друг за другом, шпионить, лица друг у друга изучать, тайные мысли на них читать (а ничего-то вы в них и не понимаете!). Еще он ничего. Он веселый и школьник по-прежнему. А ты-то, ты-то!
И всегда, когда Наташа переменяла тон и подходила, бывало, ко мне или с жалобой на Алешу, или для разрешения каких-нибудь щекотливых недоумений, или с каким-нибудь секретом и с желанием, чтоб я понял его с полслова, то, помню, она всегда смотрела на меня, оскаля зубки и как будто вымаливая, чтоб я непременно решил как-нибудь так, чтоб ей тотчас же стало легче на сердце. Но помню тоже, я в таких случаях всегда как-то принимал суровый и резкий тон, точно распекая кого-то, и делалось это у меня совершенно нечаянно, но всегда удавалось.Суровость и важность моя были кстати, казались авторитетнее, а ведь иногда человек чувствует непреодолимую потребность, чтоб его кто-нибудь пораспек. По крайней мере, Наташа уходила от меня иногда совершенно утешенная.
– Нет, видишь, Ваня, – продолжала она, держа одну свою ручку на моем плече, другою сжимая мне руку, а глазками заискивая в моих глазах, – мне показалось, что он был как-то мало проникнут… он показался мне таким уж mari, [8]8
мужем (франц.).
[Закрыть]– знаешь, как будто десять лет женат, но всё еще любезный с женой человек. Не рано ли уж очень?.. Смеялся, вертелся, но как будто это всё ко мне только так, только уж отчасти относится, а не так, как прежде… Очень торопился к Катерине Федоровне… Я ему говорю, а он не слушает или об другом заговаривает, знаешь, эта скверная, великосветская привычка, от которой мы оба его так отучали. Одним словом, был такой… даже как будто равнодушный… Но что я! Вот и пошла, вот и начала! Ах, какие мы все требовательные, Ваня, какие капризные деспоты! Только теперь вижу! Пустой перемены в лице человеку не простим, а у него еще бог знает отчего переменилось лицо! Ты прав, Ваня, что сейчас укорял меня! Это я одна во всем виновата! Сами себе горести создаем, да еще жалуемся… Спасибо, Ваня, ты меня совершенно утешил. Ах, кабы он сегодня приехал! Да чего! Пожалуй, еще рассердится за давешнее.
– Да неужели вы уж поссорились! – вскричал я с удивлением.
– И виду не подала! Только я была немного грустна, а он из веселого стал вдруг задумчивым и, мне показалось, сухо со мной простился. Да я пошлю за ним… Приходи и ты, Ваня, сегодня.
– Непременно, если только не задержит одно дело.
– Ну вот, какое там дело?
– Да навязал себе! А впрочем, кажется, непременно приду.
Глава VIIРовно в семь часов я был у Маслобоева. Он жил в Шестилавочиой, в небольшом доме, во флигеле, в довольно неопрятной квартире о трех комнатах, впрочем не бедно меблированных. Виден был даже некоторый достаток и в то же время чрезвычайная нехозяйственность. Мне отворила прехорошенькая девушка лет девятнадцати, очень просто, но очень мило одетая, очень чистенькая и с предобрыми, веселыми глазками. Я тотчас догадался, что это и есть та самая Александра Семеновна, о которой он упомянул вскользь давеча, подманивая меня с ней познакомиться. Она спросила: кто я, и, услышав фамилию, сказала, что он ждет меня, но что теперь спит в своей комнате, куда меня и повела. Маслобоев спал на прекрасном, мягком диване, накрытый своею грязною шинелью, с кожаной истертой подушкой и головах. Сон у него был очень чуткий; только что мы вошли, он тотчас же окликнул меня по имени.
– А! Это ты? Жду. Сейчас во сие видел, что ты пришел и меня будишь. Значит, пора. Едем.
– Куда едем?
– К даме.
– К какой? Зачем?
– К мадам Бубновой, затем чтобы ее раскассировать. А какая красотка-то! – протянул он, обращаясь к Александре Семеновне, и даже поцеловал кончики пальцев при воспоминании о мадам Бубновой.
– Ну уж пошел, выдумал! – проговорила Александра Семеновна, считая непременным долгом немного рассердиться.
– Незнаком? Познакомься, брат: вот, Александра Семеновна, рекомендую тебе, это литературный генерал; их только раз в год даром осматривают, а в прочее время за деньги.
– Ну, вот дуру нашел. Вы его, пожалуйста, не слушайте, всё смеется надо мной. Какие они генералы?
– Я про то вам и говорю, что особенные. А ты, ваше превосходительство, не думай, что мы глупы; мы гораздо умнее, чем с первого взгляда кажемся.
– Да не слушайте его! Вечно-то застыдит при хороших людях, бесстыдник. Хоть бы в театр когда свез.
– Любите, Александра Семеновна, домашние свои… А не забыли, что любить-то надо? Словечко-то не забыли? Вот которому я вас учил?
130
– Конечно, не забыла. Вздор какой-нибудь значит.
– Ну, да какое ж словечко-то?
– Вот стану я страмиться при госте. Оно, может быть, страм какой значит. Язык отсохни, коли скажу.
– Значит, забыли-с?
– А вот и не забыла; пенаты * ! Любите свои пенаты… ведь вот что выдумает! Может, никаких пенатов и не было; и за что их любить-то? Всё врет!
– Зато у мадам Бубновой…
– Тьфу ты с своей Бубновой! – и Александра Семеновна выбежала в величайшем негодовании. – Пора! идем! Прощайте, Александра Семеновна!
Мы вышли.
– Видишь, Ваня, во-первых, сядем на этого извозчика. Так. А во-вторых, я давеча, как с тобой простился, кой-что еще узнал и узнал уж не по догадкам, а в точности. Я еще на Васильевском целый час оставался. Этот пузан – страшная каналья, грязный, гадкий, с вычурами и с разными подлыми вкусами. Эта Бубнова давно уж известна кой-какими проделками в этом же роде. Она на днях с одной девочкой из честного дома чуть не попалась. Эти кисейные платья, в которые она рядила эту сиротку (вот ты давеча рассказывал), не давали мне покоя; потому что я кой-что уже до этого слышал. Давеча я кой-что еще разузнал, правда совершенно случайно, но, кажется, наверно. Сколько лет девочке?
– По лицу лет тринадцать.
– А по росту меньше. Ну, так она и сделает. Коли надо, скажет одиннадцать, а то пятнадцать. И так как у бедняжки ни защиты, ни семейства, то…
– Неужели?
– А ты что думал? Да уж мадам Бубнова из одного сострадания не взяла бы к себе сироту. А уж если пузан туда повадился, так уж так. Он с ней давеча утром виделся. А болвану Сизобрюхову обещана сегодня красавица, мужняя жена, чиновница и штаб-офицерка. Купецкие дети из кутящих до этого падки; всегда про чин спросят. Это как в латинской грамматике, помнишь: значение предпочитается окончанию. А впрочем, я еще, кажется, с давешнего пьян. Ну, а Бубнова такими делами заниматься не смей. Она и полицию надуть хочет; да врешь! А потому я и пугну, так как она знает, что я по старой памяти… ну и прочее – понимаешь?
Я был страшно поражен. Все эти известия взволновали мою душу. Я всё боялся, что мы опоздаем, и погонял извозчика.
– Не беспокойся; меры приняты, – говорил Маслобоев. – Там Митрошка. Сизобрюхов ему поплатится деньгами, а пузатый подлец – натурой. Это еще давеча решено было. Ну, а Бубнова на мой пай приходится… Потому она не смей…
Мы приехали и остановились у ресторации; но человека, называвшегося Митрошкой, там не было. Приказав извозчику нас дожидаться у крыльца ресторации, мы пошли к Бубновой. Митрошка поджидал нас у ворот. В окнах разливался яркий свет, и слышался пьяный, раскатистый смех Сизобрюхова.
– Там они все, с четверть часа будет, – известил Митрошка. – Теперь самое время.
– Да как же мы войдем? – спросил я.
– Как гости, – возразил Маслобоев. – Она меня знает; да и Митрошку знает. Правда, всё на запоре, да только не для нас.
Он тихо постучал в ворота, и они тотчас же отворились. Отворил дворник и перемигнулся с Митрошкой. Мы вошли тихо; в доме нас не слыхали. Дворник провел нас по лесенке и постучался. Его окликнули; он отвечал, что один: «дескать, надоть». Отворили, и мы все вошли разом. Дворник скрылся.
– Ай, кто это? – закричала Бубнова, пьяная и растрепанная, стоявшая в крошечной передней со свечою в руках.
– Кто? – подхватил Маслобоев. – Как же вы это, Анна Трифоновна, дорогих гостей не узнаете? Кто же, как не мы?.. Филипп Филиппыч.
– Ах, Филипп Филиппыч! это вы-с… дорогие гости… Да как же вы-с… я-с… ничего-с… пожалуйте сюда-с.
И она совсем заметалась.
– Куда сюда? Да тут перегородка… Нет, вы нас принимайте получше. Мы у вас холодненького выпьем, да машерочек * нет ли?
Хозяйка мигом ободрилась.
– Да для таких дорогих гостей из-под земли найду; из китайского государства выпишу.
– Два слова, голубушка Анна Трифоновна: здесь Сизобрюхов?
– З… здесь.
– Так его-то мне и надобно. Как же он смел, подлец, без меня кутить!
– Да он вас, верно, не позабыл. Всё кого-то поджидал, верно, вас.
Маслобоев толкнул дверь, и мы очутились в небольшой комнате, в два окна, с геранями, плетеными стульями и с сквернейшими фортепианами; всё как следовало. Но еще прежде, чем мы вошли, еще когда мы разговаривали в передней, Митрошка стушевался. Я после узнал, что он и не входил, а пережидал за дверью. Ему было кому потом отворить. Растрепанная и нарумяненная женщина, выглядывавшая давеча утром из-за плеча Бубновой, приходилась ему кума.
Сизобрюхов сидел на тоненьком диванчике под красное дерево, перед круглым столом, покрытым скатертью. На столе стояли две бутылки теплого шампанского, бутылка скверного рому; стояли тарелки с кондитерскими конфетами, пряниками и орехами трех сортов. За столом, напротив Сизобрюхова, сидело отвратительное существо лет сорока и рябое, в черном тафтяном платье и с бронзовыми браслетами и брошками. Это была штаб-офицерка, очевидно поддельная. Сизобрюхов был пьян и очень доволен. Пузатого его спутника с ним не было.
– Так-то люди делают! – заревел во всё горло Маслобоев, – а еще к Дюссо приглашает!
– Филипп Филиппыч, осчастливили-с! – пробормотал Сизобрюхов, с блаженным видом подымаясь нам навстречу.
– Пьешь?
– Извините-с.
– Да ты не извиняйся, а приглашай гостей. С тобой погулять приехали. Вот привел еще гостя: приятель! – Маслобоев указал на меня.
– Рады-с, то есть осчастливили-с… Кхи! – Ишь, шампанское называется! На кислые щи похоже.
– Обижаете-с.
– Знать, ты к Дюссо-то и показываться не смеешь; а еще приглашает!
– Он сейчас рассказывал, что в Париже был, – подхватила штаб-офицерка, – вот врет-то, должно быть!
– Федосья Титишна, не обижайте-с. Были-с. Ездили-с.
– Ну, такому ли мужику в Париже быть?
– Были-с. Могли-с. Мы там с Карпом Васильичем отличались. Карпа Васильича изволите знать-с?
– А на что мне знать твоего Карпа Васильича?
– Да уж так-с… из политики дело-с. А мы с ним там, в местечке Париже-с, у мадам Жубер-с, англицкую трюму разбили-с.
– Что разбили?
– Трюму-с. Трюма такая была, во всю стену до потолка простиралась; а уж Карп Васильич так пьян, что уж с мадам Жубер-с по-русски заговорил. Он это у трюмы стал, да и облокотился. А Жуберта-то и кричит ему, по-свойски то есть: «Трюма семьсот франков стоит (по-нашему четвертаков), разобьешь!» Он ухмыляется да на меня смотрит; а я супротив сижу на канапе * , и красота со мной, да не такое рыло, как вот ефта-с, а с киксом, словом сказать-с. Он и кричит: «Степан Терентьич, а Степан Терентьич! Пополам идет, что ли?» Я говорю: «Идет!» – как он кулачищем-то по трюме-то стукнет – дзынь! Только осколки посыпались. Завизжала Жуберта, так в рожу ему прямо и лезет: «Что ты, разбойник, куда пришел?» (по-ихнему то есть). А он ей: «Ты, говорит, мадам Жубер-с, деньги бери, а ндраву моему не препятствуй * », да тут же ей шестьсот пятьдесят франков и отвалил. Полсотни выторговали-с.
В эту минуту страшный, пронзительный крик раздался где-то за несколькими дверями, за две или за три комнатки от той, в которой мы были. Я вздрогнул и тоже закричал. Я узнал этот крик: это был голос Елены. Тотчас же вслед за этим жалобным криком раздались другие крики, ругательства, возня и наконец ясные, звонкие, отчетливые удары ладонью руки по лицу. Это, вероятно, расправлялся Митрошка по своей части. Вдруг с силой отворилась дверь и Елена, бледная, с помутившимися глазами, в белом кисейном, но совершенно измятом и изорванном платье, с расчесанными, но разбившимися, как бы в борьбе, волосами, ворвалась в комнату. Я стоял против дверей, а она бросилась прямо ко мне и обхватила меня руками. Все вскочили, все переполошились. Визги и крики раздались при ее появлении. Вслед за ней показался в дверях Митрошка, волоча за волосы своего пузатого недруга в самом растерзанном виде. Он доволок его до порога и вбросил к нам в комнату.
– Вот он! Берите его! – произнес Митрошка с совершенно довольным видом.
– Слушай, – проговорил Маслобоев, спокойно подходя ко мне и стукнув меня по плечу, – бери нашего извозчика, бери девочку и поезжай к себе, а здесь тебе больше нечего делать. Завтра уладим и остальное.
Я не заставил себе повторять два раза. Схватив за руку Елену, я вывел ее из этого вертепа. Уж не знаю, как там у них кончилось. Нас не останавливали: хозяйка была поражена ужасом. Всё произошло так скоро, что она и помешать не могла. Извозчик нас дожидался, и через двадцать минут я был уже на своей квартире.
Елена была как полумертвая. Я расстегнул крючки у ее платья, спрыснул ее водой и положил на диван. С ней начался жар и бред. Я глядел на ее бледное личико, на бесцветные ее губы, на ее черные, сбившиеся на сторону, но расчесанные волосок к волоску и напомаженные волосы, на весь ее туалет, на эти розовые бантики, еще уцелевшие кой-где на платье, – и понял окончательно всю эту отвратительную историю. Бедная! Ей становилось всё хуже и хуже. Я не отходил от нее и решился не ходить этот вечер к Наташе. Иногда Елена подымала свои длинные ресницы и взглядывала на меня, и долго и пристально глядела, как бы узнавая меня. Уже поздно, часу в первом ночи, она заснула. Я заснул подле нее на полу.








