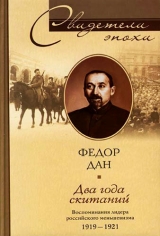
Текст книги "Два года скитаний. Воспоминания лидера российского меньшевизма 1919-1921"
Автор книги: Федор Дан
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Между тем я мирно занимался сдачей дел моему предполагаемому заместителю и подготовкой его к предстоящей ему деятельности. Прошло четыре-пять дней. Член коллегии все не удосуживался (а может быть, и не хотел) переговорить с Семашкой об официальной отсрочке моего отъезда. Вдруг, 10 или 11 июня, точно не помню, часа в три дня мне позвонили все те же доброжелатели из Военно-санитарного управления и сообщили, что управление получило свирепейшую бумагу от Семашки, который, узнав, что я еще не уехал, сделал управлению строжайший выговор и потребовал, чтобы меня сегодня же под конвоем доставили на вокзал и отправили в Екатеринбург. Меня предупреждали, что через полчаса прибудет ко мне человек со всеми нужными бумагами, который посадит меня в вагон и не покинет до отхода поезда – в шесть часов вечера. Сообщение это взорвало меня. Я схватил трубку и позвонил секретарю ВЦИКа Енукидзе. Не особенно выбирая выражения, я сказал ему, что такому дикому самодурству никогда не подчинюсь, а доведу дело до самого крупного скандала. Смущенный Енукидзе старался успокоить меня: ему самому, видно, было неловко за своих "министров". Он обещал все уладить.
Тем временем прибыл человек в военной форме с бумагами и железнодорожным билетом. Я объяснил ему положение и попросил его подождать. И действительно, через полчаса из Военно-санитарного управления позвонили, что получили новую телефонограмму от Семашки, отменяющую его утреннюю бумагу. Конвойный ушел, а на следующий день я "свободно" садился в поезд, идущий в Екатеринбург.
Глава II
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Ехал я очень удобно. Кое-кто из сильных мира сего позаботился доставить мне место в международном спальном вагоне. Спутниками моими в купе были два "спеца", командированные ВСНХ для налаживания уральских и сибирских каменноугольных копей, и актер из Челябинска, возвращавшийся из Москвы со съезда сценических деятелей.
У актера в петлице пиджака были вдеты какие-то красные значки, миниатюрные портреты Маркса, Ленина, Троцкого. Он без устали декламировал о своих сценических успехах, с одной стороны, о прелестях коммунизма, покровительствующего искусству и заботящегося об актерах, – с другой. Видно было, что это – один из Несчастливцевых, много намытарившийся на своем веку, исколесивший всю Россию и ныне успокоившийся в лоне Челябинского агитпросвета и местного парткома. В промежутках между хвастовством своими успехами и хвалами большевизму он с одинаковым увлечением рассказывал, какой славный домик у него в Челябинске, какая хорошая корова, какой прекрасный огород и как везде и всюду, в особенности в РТЧК (районная транспортная, то есть железнодорожная, ЧК), он свой человек, могущий оказать протекцию и помочь устроиться пришельцу, который соблазнится сравнительной дешевизной припасов в Челябинске и захочет там осесть.
"Спецы" были другого типа люди. Оба они большевистский режим явно не одобряли. Но один был сдержан, другой же, более нервный и, судя по отдельным его словам, огорченный вынужденной разлукой не то с невестой, не то с женой, то и дело ввязывался в спор с актером. Спор был довольно бестолковый. Актер в коммунизме, социализме, революции, рабочем движении и прочих высоких материях, о которых говорил с пафосом, понимал весьма мало и то и дело сбивался с возвышеннейших всемирно-исторических рассуждений к умилению перед тем пайком, который он теперь получает, и тем почетом, которым пользуется "даже в РТЧК". "Спец" также в политике звезд с неба не хватал, и "критика" его сводилась преимущественно к нудному и злобному перечислению всех претерпенных им обывательских обид и огорчений. Но за спорами время проходило отлично, и, поиикировав-шись час-другой, спорщики раскрывали свои саквояжи, вынимали кое-какую снедь и начинали закусывать, мирно угощая друг друга белыми булочками, маслом и другими деликатесами, какие у кого оказались. Раз как-то в спор со "спецом" ввязался зашедший из соседнего купе молодой человек в высоких сапогах, брюках галифе, френче, шишаке с огромной красной звездой и прочих атрибутах военного звания, – как выяснилось впоследствии, какой-то из чинов железнодорожно-че-кистского ведомства Этот оказался политически окончательно безграмотным, и спор принял совершенно комически-бестолковый характер: спорщики не слушали друг друга, говорили о разных вещах, перескакивали с предмета на предмет. Наконец молодой воин, отчаявшийся победить своего соперника в словесном турнире, возопил; "Да вы скажите мне, кто вы: меньшевик или эсер?" – "Я – беспартийный". – "Так давно бы и сказали, я и разговаривать бы с вами не стал. Как спорить с меньшевиками и эсерами, я знаю: нас этому обучали. А то – беспартийный! Тут не знаешь, с какой стороны и подступиться!" И, махнув рукой, бравый полемист вышел из нашего купе.
На станциях толпились мужики, бабы, ребята с хлебом, молоком, маслом, творогом, жареным мясом, птицей. Временами люди с винтовками ловили их, арестовывали, продавцы разбегались, но затем осторожно протискивались снова к вагонам, держа товар под полой, или уходили за угол станционного здания, на другую сторону полотна и т. д. и подманивали туда покупателей. Были тяжелые сцены: оборванный мальчик с несколькими кусками жареной баранины, жалобно вопивший: "Отпустите, дяденька!", когда непреклонный милицейский или продотрядчик, уж не знаю кто, тащил его в кутузку; бледный, растерявшийся железнодорожный рабочий, которого поймали на месте "преступления" с двумя бидонами конопляного масла, и т. д. Но в общем все сходило благополучно: вооруженные люди, стоявшие на страже тогдашней экономической политики, и торговцы, эту политику нарушавшие, как-то мирно улаживали свои дела и уживались друг с другом. А в некоторых городах, например Вятке, у самого вокзала был раскинут обширный базар с порядочным количеством съестных припасов.
Купить что-либо на станции у мужиков и баб за деньги было трудно. Требовали в обмен на продукты мануфактуру, мыло, соль, спички и табак. Особенно велик был спрос на табак – махорку. Мужики брали иногда даже в уплату за свои товары насквозь прокуренные старые трубки, чтобы, искрошив их, пустить в ход – уже как курево! Забегая вперед, отмечу, что, когда я через два с половиной месяца на обратном пути, руководясь опытом первого путешествия, запасся для "товарообмена" махоркой, я был жестоко обманут: махорку не брали нипочем. Мужики насмешливо заявляли, что теперь в табаке не нуждаются: засеяли и собрали свою собственную махорку. Бросались также в глаза бесчисленные крохотные полоски льна, ярким зеленым пятном врезывавшиеся в пожелтевшие уже поля. Маленькая иллюстрация к тому, как на неподходящую ей экономическую политику деревня отвечала возвращением от товарного хозяйства к натуральному."
Приехали мы в Екатеринбург в четвертом часу дня. Мне сказали, что для получения комнаты в гостинице надо обратиться в жилищный отдел местного Совета. Отправился туда и после часового ожидания, проверки моей служебной командировки, разговоров дежурной барышни по телефону с различными гостиницами, носившими громкие названия "Гранд-отель", "Пале-Рояль" и пр. (официальные названия – 1-е советское общежитие, 2-е и т. д. – не употреблялись в самих советских учреждениях), получил ордер на "Пале-Рояль". Поехал в "отель" и, оставив вещи в конторе, пошел с конторщиком осматривать отводимое мне помещение. Лестницы, коридоры, которыми мы шли, – все это было грязно, заплевано, забросано окурками и заставлядо не ожидать ничего хорошего. Но когда меня ввели в отведенный мне "номер", я ахнул: в комнате среднего размера стояло пять топчанов, на них валялись шинели, вещевые мешки и прочий скарб, – они были явно уже кем-то заняты. Я с недоумением обратился к своему провожатому: "Где же мне тут поместиться?" – "А вот пока здесь, – указал он на крохотную, согнутую полукругом козетку, вся обивка которой была содрана и из которой торчали грязная мочала, пружины, обрывки веревок, и пояснил: – Тут пять делегатов еще помещаются, на красноармейский съезд приехали, но съезд скоро кончится..."
Оставаться тут явно не было возможности, тем более что и не особенно зоркими глазами можно было заметить клопов и вшей, в изобилии ползавших по топчанам и шинелям. Что делать? Наша партийная организация в Екатеринбурге – я знал это еще до отъезда из Москвы – была по случаю выборов в местный Совет арестована в полном составе, и вместе с нею арестован и член нашего ЦК т. Далин, по служебным делам (а заодно и с партийными поручениями) приехавший на две недели в Екатеринбург. Никакими "посторонними" адресами я, ввиду скоропалительности своего отъезда, не запасся, да и поопасался бы обременить своей крамольной особой посторонних людей в провинциальном городе, где все на виду и на счету и где у местной ЧК своя рука владыка. Куда деться? Я твердо решил провести ночь на стуле в конторе или хотя бы на улице, но ни в коем случае не ложиться на отведенное мне "по ордеру" ложе.
К счастью, я вспомнил, что в Екатеринбурге находится НИ. Суханов, тогда еще товарищ по партии, которого Троцкий, увлекавшийся очередным "спасительным" средством – трудовыми армиями, привез в своем поезде и уговорил войти, в качестве представителя Народного комиссариата земледелия, в местный Сов-трударм – Совет трудовой армии Приуральского округа (о нем – после). Я бросился разыскивать его. Пошел в Совтрударм. Там служебная работа уже закончилась, и меня направили в Атамановские номера, значительно более опрятные, чем мой несчастный "Пале-Рояль", но отведенные исключительно для проживания приезжих и местных нотаблей, не имеющих собственной квартиры. Но и в номерах Суханова не оказалось: он переехал со своей семьей на дачу в Шар-таш, верстах в семи от города. По счастью, я нашел в гостинице молодого человека М., приятеля Суханова, вместе с ним приехавшего в Екатеринбург и вместе с ним застрявшего в Совтрударме, а теперь проклинавшего судьбу, занесшую его в эту дыру и в это никчемное, бесплодное учреждение. М. был настолько мил, что не только указал мне место жительства Суханова, но и согласился проводить меня к нему. Мы взяли за очень высокую по тогдашним временам цену лихача, каковых оказалось в Екатеринбурге несколько, и покатили чудесной лесной дорогой к Шарташскому озеру.
К семи часам вечера я добрался до Суханова, изумленно выпучившего глаза при виде меня: с трудом объяснил я ему, каким ветром занесло меня на Урал. Гостеприимная семья сейчас же устроила меня у себя, и временно я обосновался на даче. Тут же оказался и Далин, выпущенный недавно на свободу и хлопотавший по разным инстанциям об освобождении других арестованных товарищей: все они, один за другим, действительно вышли вскоре на волю.
Прошло несколько дней, пока я вошел в свою новую службу и с величайшим трудом нашел в городе крохотную комнатушку. И в Екатеринбурге свирепствовал, разумеется, квартирный кризис. Причиною его были наличность большого количества войск и обилие широко расположившихся казенных учреждений, а отнюдь не умножение местного населения или процветание промышленности и торговли.
Гранильная фабрика в городе совсем стояла. Бывший монетный двор был занят каким-то другим производством при самом ограниченном количестве рабочих. Громадный Верхне-Исетский завод почти совершенно бездействовал. Крохотная починочная медико-инструментальная мастерская в здании гранильной фабрики; две мастерские каучуковых штемпелей; пара портняжных мастерских – вот, кажется, почти все, что функционировало. Национализировано (кроме каучуковых штемпелей и нескольких портных) было все вплоть до парикмахерских и столовых. "Свободная торговля" производилась на базаре, куда крестьяне привозили кое-какие продукты, и на толкучке, где торговали и хлебом, и пирогами, и кусочками сахара, и спичками, и табаком, и всякой новой, а больше подержанной рухлядью – сапогами, рубахами, гимнастерками и т. д. Торговцами на толкучке являлись зачастую солдаты, сбывавшие полученный в пайке сахар или махорку, чтобы купить хлеба. Цены при мне на все непрерывно росли, но в то время как в Екатеринбурге мука стоила 3-4 тысячи рублей иуд, в уездном городе той же Екатеринбургской губернии Кургане цена ей стояла всего 300 рублей за пуд. То же и с маслом и другими продуктами. Но привозить было нельзя – мешали заградительные отряды.
За те два с половиной месяца, что я пробыл в Екатеринбурге, раза три на базаре и толкучке производилась облава: громадная площадь внезапно оцеплялась войсками; начинался шум, крик, крестьяне быстро складывали свои продукты в телеги и, нахлестывая лошадей, пытались удирать; публика – торговцы и покупатели – в панике разбегалась. Попавшихся в оцепленный круг сортировали, выпуская поодиночке: имеющих нужный ассортимент документов отпускали, не имеющих отправляли в милицию для удостоверения личности, вылавливали дезертиров, трудовых и военных, каких всегда оказывалась масса, нормированные продукты отбирали, а тех, у кого оные оказывались, – главным образом женщин – отправляли на несколько дней на принудительные работы, как паразитические элементы. На этой почве, между прочим, постоянно обострялось недовольство рабочих, жены которых нередко под тем или другим предлогом забирались прямо с базара на работу. После облавы два-три дня на базаре и толкучке было тихо, а там понемногу все входило в колею, и только цены делали внезапный скачок в гору.
Коренное население города сильно уменьшилось за годы Гражданской войны: кто был перебит, кто уходил с белыми, кто с красными при переходе города из рук в руки. То и дело, обращаясь к кому-нибудь на улице за указанием, как пройти туда-то, получал в ответ: "Да я сам не здешний, сам недавно приехал". Найти же даже правительственные учреждения было трудно и старожилу, так как почти все улицы были переименованы и доски со старыми названиями сняты. Названы были окраинные улицы по именам погибших мировых знаменитостей социализма – Розы Люксембург, Карла Либкнехта и др. и местных деятелей Гражданской войны – Якова Вайнера, рабочего Ивана Загвозкина, матроса Хохрякова и т. д., главные же две улицы города, как водится, были посвящены прижизненному чествованию Ленина и Троцкого. Их же именами, как именами Дзержинского и других, были окрещены клубы и пр.
По обилию военного элемента и сравнительной немногочисленности гражданского город имел вид настоящего военного лагеря. Множество лучших домов в самом центре города было отведено под постой красноармейцев и под различные военные учреждения. С утра до вечера по всем направлениям маршировали отдельные части и слышались солдатские песни:
Смело мы и бой пойдем
За власть Советов
И с радостью умрем
Мы за все что!...
[Последние две строки звучат, как известно; "И как один умрем / В борьбе – .]
Ложась поздно ночью спать и просыпаясь рано утром, непременно слышал, как откуда-то издалека доносилась эта песня. Однажды довелось наблюдать курьез: навстречу мне двигалась какая-то большая колонна, распевавшая все эти же советско-патриотические слова. Когда колонна подошла ближе, я увидел, что это человек сто-сто пятьдесят дезертиров, окруженных конвоем и по приказу командира изъявляющих свою готовность умереть «за все это». Так умела казенщина опошлить все, в чем когда-то сказывался порыв наивного, но, несомненно, искреннего энтузиазма...
В центре же города помещалась и Чрезвычайка или, вернее, две Чрезвычайки: как город военный, Екатеринбург кроме обычной губернской – Губчека – имел еще Особый отдел ВЧК, правда, объединенные личной унией под главенством некоего Тунгузкова, человека крайне грубого и жестокого, но имеющие каждый свой штат и свои помещения. Особый отдел ведал главным образом армией и искоренением бывшего колчаковского офицерства; Губчека – прочими гражданами. Губчека занимала уже несколько домов, но перед моим отъездом говорили, что она требует очищения еще двух-трех соседних зданий, так как ей-де тесно. Заключенные в обеих ЧК содержались в подвалах. Окна подвала Губчека выходили на улицу, и летом, когда окна были открыты, можно было заглянуть в глубь этого ужасного помещения, где в невероятной тесноте и грязи сидели заключенные с бледными, измученными голодом лицами, покрытые всевозможными паразитами. Один из знакомых местных коммунистов рассказывал мне – передаю лишь то, что от него слыхал, – что расстрелы производятся тут же, на дворе, под окнами заключенных. Он же утверждал, будто для операции расстрела мобилизуются по очереди все члены местной коммунистической организации. Я не решился спросить его, доходила ли очередь до него самого...
За время моего пребывания ЧК инсценировала как-то, в агитационно-устрашительных целях, гласное разбирательство дела о каких-то крупных хищениях. Разбиралось дело в городском театре, вмещающем несколько сот человек. Судились инженеры, заведующие складами и т. д. Несчастные были приговорены к расстрелу. Какая публика собралась на этот процесс и как вела себя, сказать не могу, ибо пойти на это зрелище, о котором возвещалось громадными афишами, у меня духу не хватило...
Ко времени моего приезда город имел приукрашенный вид: красовались разноцветные плакаты, высились в ряде мест наспех воздвигнутые триумфальные арки – из дерева, покрытого размалеванным холстом. Это был след недавнего визита Троцкого, и, когда я уезжал, украшения, полинявшие от дождей и потрепанные ветром, все еще оставались на своих местах. Забавны были две арки. Одна – на улице Ленина – была украшена наверху по четырем углам портретами. С одной стороны – Ленин и Троцкий, с другой – главы Интернационала: 1-го Карл Маркс и 3-го... Григорий Зиновьев, а посредине между ними, на фронтоне, – кучи ядер, винтовки, пулеметы и жерла пушек! Бедный Маркс! Довелось ему пострадать и на другой арке, воздвигнутой у выезда с площади Народной Мести – площади, где стоит над обрывом дом купца Ипатьева, в котором были убиты Николай II и его семья, а теперь помещался коммунистический клуб. Наверху этой арки была картина: красноармейцы взбираются на скалу, на вершине которой стоит Карл Маркс... в красной рубахе навыпуск, шароварах и сапогах бутылками, с красным знаменем в руке, на котором написано: "Красный Урал".
В городе были воздвигнуты многочисленные памятники и статуи: голова Маркса на мраморном цоколе (площадь Народной Мести), памятник коммуне, жертвам борьбы с Колчаком, уральский рабочий и т. д. Большинство этих памятников принадлежало резцу довольно известного скульптора Ерзи, из крестьян-мордвин, которого хорошо знала парижская эмигрантская колония в 1910-1912 годах и который как-то получил даже в Риме премию. Несмотря на это, большинство скульптурных произведений, украшавших Екатеринбург, было крайне неудачно, особенно памятник жертвам борьбы с Колчаком, где на громадном глобусе, обитом железными листами, возлежала обнаженная женская фигура, повернувшаяся спиною к тут же расположенному небольшому кладбищу с могилами этих жертв. Более удачна была совершенно обнаженная фигура человека, пытливо всматривающегося в даль, поставленная перед собором. Но и эту фигуру портило то, что она была поставлена на не соответствующий ей, чрезмерно маленький цоколь, с которого был снят бюст Екатерины II. Кроме того, фигура возбуждала негодование религиозных людей: голый мужик перед собором, да еще задом к нему!
Ко времени моего приезда Ерзи рке не было в Екатеринбурге: его выжили более левые художнические элементы, которые и взяли в свои руки дело украшения города. Украшение это заключалось главным образом в саженных холщовых плакатах-картинах, ярко размалеванных, кричащих, последующих определенные агитационные цели и во множестве облеплявших стены зданий или расставленных по улицам. Были плакаты постоянные, например внушавшие прохожему уверенность, что "крестьянин даст рабочему хлеб, рабочий даст крестьянину товары", прославлявшие Красную армию (красноармеец, наступивший ногой на истекающего кровью толстого генерала в эполетах и орденах), и т. д. Были плакаты и временные – по случаю "недели помощи крестьянину", постройки Казанско-Екатерин-бургской железной дороги и т. д. Все это было лубочно, наивно, но пестротой своей несколько скрашивало унылый вид города, где чуть не 9/10 населения было одето в опостылевшее хаки, и, главное, вокруг всего этого, видимо, кормилось порядочно народу.
А жилось в городе из рук вон скучно. Партийная работа наша была сведена до минимума, сначала арестом всего местного комитета, затем, по выходе членов его из тюрьмы, невозможными полицейскими условиями и широко разлившейся апатией рабочих. При отсутствии малейших проблесков свободы печати, слова, собраний, союзов, при невозможности собираться двум десяткам человек без того, чтобы об этом тотчас же не узнала ЧК, при постоянной слежке за членами комитета и за мной (приставленные ко мне шпики сидели обычно на камушке против моих окон и иногда имели глупость расспрашивать обо мне обитателей соседних домов, которые и передавали мне об этом) – при всех таких условиях организация имела возможность сколько-нибудь широко развертывать работу только в особо праздничных случаях, как, например, выборы в Совет, платя за это каждый раз очередным арестом своих членов. Профессиональные союзы не представляли собою и подобия той организации, которая известна под этим именем в Европе и Америке. Они занимали обширный дом – бывший окружной суд, громко названный Дворцом труда, но по существу являлись унылыми и тихими канцеляриями, куда рабочие заглядывали едва ли не только чтобы судиться за "труддезертирство", "лодырничество" и т. п., преступления в товарищеском дисциплинарном суде, приговаривавшем их либо к принудительным работам, либо к более или менее длительному заключению.
Книг нельзя было доставать никаких и нигде. Библиотек не было; книжные магазины блистали пустыми полками, да и продажа из них производилась только по особым ордерам для учреждений. Местная газета "Уральский рабочий" представляла собой самый жалкий, политически безграмотный листок. При таком полном отсутствии умственной пищи лакомством казались даже московские "Известия" и "Правда", которые мне посчастливилось регулярно доставать благодаря высокому служебному положению Суханова, а уж о книгах, которые удавалось изредка получать из Москвы, нечего и говорить.
Сношения с Москвой были единственным источником, поддерживавшим умственную жизнь. Но сношения эти удалось наладить не сразу, и приходилось ждать оказий, так как на почту никак нельзя было положиться: даже заказные письма пропадали сплошь и рядом. Секрет этих пропаж рассказала нашим товарищам, сидевшим в тюрьме, одна девица, служившая в черном кабинете ЧК. Молодой человек, ухаживавший за этой особой, хотел получить от своих родных из Омска сапоги. Зная, что письма задерживаются отправкой с почты в черный кабинет и иногда пропадают там, он вручил письмо для отправки непосредственно своей любезной. Девица не удержалась, чтобы не рассказать об этом своим подругам. В результате и она, и ее поклонник очутились в тюрьме. По словам этой девицы, перлюстрация производилась так. Все письма (приходящие и уходящие) направлялись с почты в черный кабинет и распределялись пачками в несколько сот штук по сотрудникам и сотрудницам – большей частью самой зеленой молодежи. Согласно инструкции, сотрудник должен был выбрать из пачки для просмотра: 1) конверты, надписанные очень хорошим почерком (предполагаемая переписка белогвардейцев), 2) конверты, надписанные очень плохим почерком и безграмотно (предполагаемая переписка красноармейцев с деревней), и, наконец, 3) известное количество конвертов наудачу – кроме, конечно, адресов, просмотр которых был обязателен. О просмотренных письмах и найденной в них крамоле (тоже по особой инструкции) сотрудник должен был представлять письменный доклад по начальству, которое и распоряжалось окончательно, какие письма задержать, с каких снять копии, по каким возбудить дело и т. п. Желая сократить свою работу, юные сотрудники часто попросту известную часть переданных им писем уничтожали, благо никто не считал. По неизреченной провинциальной наивности на просмотренные конверты накладывали кроме круглого почтового штемпеля еще овальный. И действительно, просматривая получаемые мною письма, я всегда находил на конвертах этот овальный штемпель, дата которого зачастую оказывалась на два-три дня позднее даты обычного почтового штемпеля.
Высшим органом власти в Екатеринбурге формально считался Совтрударм – Совет трудовой армии. После того как – третья, если не ошибаюсь, – армия, расположенная на Урале, была переведена на "трудовое" положение, проектировалось все управление Приуральским краем построить на ее основе. Таковы были, по крайней мере, планы Троцкого, полагавшего, что в трудовых армиях он нашел новое и вернейшее средство "спасти Советскую Россию". Превращение армий в трудовые делалось с большой помпой, в газеты летели телеграммы, печатались торжественные резолюции, хвалебные передовицы и даже ежедневные сводки работ, произведенных этими армиями. Увы, и это очередное увлечение лопнуло как мыльный пузырь! Кто теперь помнит и говорит о трудовых армиях, хотя на бумаге они существуют, кажется, и до сих пор? Когда наша партия критиковала трудармейскую утопию, предсказывала, что из этой затеи ничего не выйдет, кроме нового чудовищного расточения народных сил и мучительства, – эта критика ее служила для большевистских официозов новым доказательством нашего "социал-предательства" и "измены". Однако никакие дутые отчеты чиновников, желавших порадовать начальство докладами о дутых мнимых успехах, не могли изменить того грустного факта, что с самого начала производительность трудовых армий была ничтожна, а стоимость их содержания громадна; что мужики из дальних губерний, загнанные в качестве трудармейцев на Урал, никак не могли понять, почему теперь, когда война с Колчаком кончилась, они должны рубить лес, косить траву и т. д. здесь, на чужбине, под военную команду, а не могут делать этого свободно у себя дома, и потому разбегались массами, а местные мужики, в свою очередь обозленные хозяйничаньем у них пришельцев, то и дело поджигали наваленные трудармейца-ми штабеля леса или копны сена. Весь трудармейский план оказался праздной бюрократической затеей.
Это выяснилось уже к тому времени, когда я прибыл в Екатеринбург, и об этом открыто говорили в Совтруд-арме. Но коммунистическому народу надо было сохранить веру, и потому публично и в печати "все обстояло благополучно" и продолжалась шумная кампания. Продолжалась и попытка сделать Совет трудовой армии чем-то вроде областного правительства Урала. Но так как вся постройка была воздвигнута на гнилом фундаменте, то Совтрударм не только не превращался во властное учреждение, а со дня на день хирел. Действительная же власть в области сосредоточивалась в руках областного бюро ЦК РКП, а на месте – в руках местного комитета коммунистической партии.
Построен был Совтрударм таким образом, что в состав его входили назначенные из центра представители различных комиссариатов. В качестве представителя Комиссариата земледелия был членом Совтрударма и Н. Суханов. Но незадолго до моего приезда, ввиду ареста нашей местной партийной организации и обыска, произведенного лично у него, члена "высшего правительственного установления", Чрезвычайкой, этому установлению якобы подчиненной, он послал Троцкому заявление об отставке, в состав Совтрударма больше не входил и исполнял лишь обязанности представителя Комиссариата земледелия в ожидании все затягивавшейся присылки ему преемника.
Помещался Совтрударм в очень большом доме, над крыльцом которого висел портрет Ленина... с неугасимой лампадой перед ним в виде горевшей днем и ночью электрической лампочки. Ближе ни с кем из членов Совтрударма, как и вообще ни с кем из местных большевиков и чиновников, мне сходиться не приходилось: я был слишком заметной крамольной фигурой в городе, где все на виду, чтобы на более близкое знакомство со мною могли рискнуть лица, занимавшие официальное положение. И я провел слишком мало времени в Екатеринбурге, чтобы, присматриваясь издалека, составить себе определенное представление о местном правящем персонале.
Пора, однако, рассказать о моей службе. Явившись в Военно-санитарное управление, я узнал, что имеется телеграмма Семашки об оставлении меня в самом Екатеринбурге. Это было, при данных условиях, приятной неожиданностью. Начальником управления оказался коммунист, молодой еще доктор А., человек необычайно трудолюбивый и аскетически настроенный, но сухой и невероятный формалист. Сам он корпел над "делами" с утра до поздней ночи, но "дела" – то эти при ближайшем рассмотрении оказались бесплодным ворошением неисчерпаемой бумажной груды, приводившей в движение грузную канцелярскую машину, но, увы, не дававшей никаких реальных результатов, так как во всем была нехватка: не было медикаментов и инструментов, не было достаточно пищи, белья, платья для больных, не было строительных материалов для ремонта лечебных зданий и т. д. и т. п. И чем меньше было презренной "материи", тем необъятное становилась переписка по поводу ее и количество возникающих канцелярских "дел", в которые с наслаждением погружался А., следя за строгим соблюдением всяких форм, расписаний, раскладок, сроков и пр. Помощником А. был доктор Г., из старых врачей, назубок знавший все приказы, циркуляры, инструкции и пр., томившийся в опостылевшей ему работе, но боявшийся хоть чем-нибудь проявить свою самостоятельность перед лицом тщательно надзиравших за ним коммунистов.
Сразу возник вопрос, куда меня деть, так как от чисто врачебной деятельности, которой я уже несколько лет вовсе не занимался, я отказался. Доктор А, старавшийся, надо отдать ему справедливость, устроить меня получше, предложил мне работу в санитарно-просветительном отделе – читать лекции красноармейцам. Мне это не очень улыбалось, так как я полагал, что трудно будет говорить о вопросах санитарии в современной России, не касаясь общих экономических и социальных условий, а следовательно. – Категорически отказался я от этой работы после разговора с помощником А. по политической части. Сам А., как коммунист, считался одновременно и политическим комиссаром, политкомом, при Военно-санитарном управлении, но у него для этой области был помощник, помполитком, на обязанности которого лежал политический надзор над всем канцелярским и врачебным персоналом, подчиненным управлению; у этого же помощника, в свою очередь, был помощник, которого я в шутку называл "помпомполитком"; оба были из аптекарских учеников. Так вот, после разговора с одним из юных фармацевтов, деликатно внушавшим мне, в каком духе должен я читать лекции, я счел за благо решительно отказаться от "санитарного просвещения".








