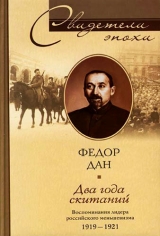
Текст книги "Два года скитаний. Воспоминания лидера российского меньшевизма 1919-1921"
Автор книги: Федор Дан
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Тогда меня назначили помощником заведующего врачебным отделом. Заведующим, моим непосредственным начальником, был молодой – лет двадцати восьми – врач Л., коммунист. Коммунизм его был довольно своеобразный. Из его рассказов я узнал, что он – врач "военного времени", то есть ускоренного выпуска Попал сразу с университетской скамьи на фронт. После революции ему очень не понравились "всякие армейские комитеты", как он выражался, во все совавшие свой нос и нарушавшие субординацию и дисциплину. Наоборот, большевики ему очень нравились тем, что "все эти комитеты" разогнали, всякую "демократию" прекратили и ввели строгую дисциплину – А у них в полку дисциплина и чинопочитание всегда сохранялись. И Л. рассказывал мне фантастическую историю, как, перейдя после октябрьского переворота 1917 года на сторону большепиков, полк решил покинуть фронт, но сделал это "организованно" и "дисциплинированно": действовали под командой офицеров, которые, несмотря на большевистские приказы, сохранили погоны; захватывали целые составы поездов и двигались через всю Россию, кое-где пробивая путь силой, устраивая целые сражения с другими какими-то частями, которые тоже называли себя большевистскими, тоже куда-то двигались и перехватывали друг у друга вагоны и паровозы. Кто с кем сражался, Л. и сам точно не знал, но в результате полк очутился в месте формирования, и все постепенно разошлись по домам.
В рабочем или просто революционном движении Л. никогда не только не участвовал, но даже нисколько не интересовался им. С трогательной наивностью он иногда осторожно расспрашивал меня: "А кто такой был Жорес? Чем знаменит Бебель?" – и т. д. Коммунистом он стал исключительно потому, что это удобно в служебном и житейском отношении, да еще восхищала его у большевиков строгость и отсутствие всякого "слюнтяйства" и "гуманничанья". Впрочем, раз он попробовал "идейно" обосновать свой коммунизм и указал, что вот когда он, человек холостой, жил один, то питался плохо, а теперь устроился с другими товарищами коммуной, и оказалось очень удобно: горячие обеды и пр.
О том, кто такой я и меньшевики вообще, он ничего не знал; слыхал только смутно, что "предатели". Вообще, кроме политического невежества, меня поражала в этом отпрыске эпохи третьедумской реакции и "военного времени" крайняя неинтеллигентность вообще, полное отсутствие умственных интересов. А это был ведь врач, да еще вдобавок – сын профессора!
В житейском отношении Л. оказался парнем добродушным и покладистым. Работали мы с ним без трений. Правда, и "работа" же это была! Во все лечебные заведения посылались бесчисленные бланки и анкеты, которые тучей возвращались по заполнении обратно к нам, подшивались и затем бесследно тонули в пучинах канцелярских шкафов, или же подсчитывались, сводились в таблицы и пр. и посылались в Главное военно-санитарное управление. Там они либо тоже бесшумно подшивались к делам, которых никто не читает, или же служили основанием для запросов нам, наших запросов на места, ответов с мест и т. д. – порочный канцелярский круг без всякого намека на какое-нибудь реальное дело. Иногда эта монотонная "работа" перемежалась составлением всяких проектов по приказанию начальства: то проектов приказов по Военно-санитарному управлению, то проектов "сети банно-пропускных пунктов" и т. п. Собирались комиссии, составляли идеальный проект сети бань, прачечных и т. п. идеальнейшего типа, составляли сметы и пр., хорошо зная, что нет ни малейшей возможности ни построить нужных зданий, ни оборудовать их, ни снабдить мылом, бельем и пр. Но канцелярская машина вертелась, служебного времени не хватало, назначались сверхурочные работы, "дело кипело", и начальство было довольно.
Я, признаться, никак не мог войти во вкус этого толчения воды в ступе. Обязанности заведующего отделом и мои, как его помощника, сводились к "руководству" всем этим бумажным коловращением и писанию вышеупомянутых проектов. Как на "писателя", у которого предполагается легкое перо (что высоко ценится в советских канцеляриях), на меня особенно охотно возлагали составление проектов. Но за всем тем, преодолевая невыносимую скуку от этого организованного безделья, я никак не мог потратить больше часа в день на самое добросовестное исполнение возложенных на меня дел: их спокойно можно было возложить на любого деревенского писаря. Тратить же свои силы на "инициативу", то есть на создание новых ворохов чисто бумажных дел, у меня не было ни малейшей охоты. Будь у меня достаточно книг и газет, можно было бы плодотворно употреблять служебные часы на чтение. Но материал для чтения был крайне скуден, и мне не оставалось ничего другого, как стараться приходить возможно позже и уходить возможно раньше. Но и при этом начальство мое удивлялось, как быстро я "освоился с делом": столь важной и трудной казалась ему бездна канцелярской премудрости!
Мое манкирование службой не осталось, однако, без возмездия. "Политическая часть" в лице упомянутого мною "помпомполиткома" тщательно следила за соблюдением "трудовой дисциплины", то есть за тем, чтобы все являлись на службу и уходили с нее в точно назначенное время. Для этого ежедневно выставлялись листы, на которых служащие должны были собственноручно расписываться; листы эти через пять минут после назначенного срока отбирались и шли к начальству. Служащие, желавшие начальству угодить, являлись даже раньше срока. Они же, в качестве добровольцев, усердно ходили по субботам после службы на устраиваемые коммунистами субботники, то есть шли куда-нибудь за город или на вокзал ворочать бревна или разгружать вагоны. На не посещавших субботники, – а к числу их принадлежал и я – "помпомполитком" смотрел косо.
Этот "помпом", некий М., был юнец с лошадиной физиономией и таковой же глупостью. Когда я только приехал, он добродушно обратился ко мне: "Бросили бы вы, товарищ Дан, ваш меньшевизм да поступили бы к нам в ячейку: лекции бы нам читали!" – и был очень огорчен, когда я отклонил предложенную мне честь. М. тщательно следил "за настроением", имел своих наушников, во все совал свой нос Он же решил принять радикальные меры для упрочения "трудовой дисциплины". Придя однажды – по обыкновению, с сильным запозданием – на службу, я увидел на стене громадный картон, разделенный на две части. На одной красными чернилами было написано: "Слава честным труженикам!" – и под этою надписью следовали фамилии особо усердных чиновников; на другой – черными буквами: "Позор лентяям и лодырям!" – и дальше на первом месте моя фамилия. Внизу картона – подпись "М". Я искренне расхохотался этому неожиданному производству меня в "лентяи" на сорок девятом году жизни! Разумеется, я ни в чем поведения своего не изменил, М. ни о чем со мной не заговаривал, но красная и черная доски висели до самого моего отъезда, покрывая меня "позором".
В начале августа по военному ведомству был отдан приказ, чтобы в определенный день все без исключения служащие военных учреждений, кроме больных по докторским свидетельствам, приняли участие в заготовке дров. На каждого было назначено по одной кубической сажени. Заготовка должна была производиться по субботам после обеда и воскресеньям, верстах в десяти– двенадцати от города.
В первую назначенную субботу площадь перед станцией Екатеринбург-П была заполнена подходившими со всех сторон отрядами отдельных учреждений. Всего собралось до 3 тысяч человек. На спинах люди несли котомки со съестными припасами. Постепенно один эшелон за другим садились в подаваемые товарные поезда. Дошла очередь и до нас. Мы погрузились и поехали. Выйдя из вагонов посреди леса, построились в колонну и пошли пешком версты за две. Поляна, на которой расположились в живописном беспорядке мужчины и женщины, старики и молодежь, напоминала табор; дымились костры, пыхтели кипятилки, ржали лошади, привязанные к телегам. На опушке леса гремел военный оркестр. Было оживленно и даже весело. Хуже стало, когда началась работа.
Вызывали на работу по учреждениям, разделяя всех на группы по шесть человек. Каждой группе вручалось несколько топоров и одна пила. Лесники отводили ей участок, на котором надо было поставить куб трехаршинных дров. Участки все были рядом друг с другом. Надо было свалить деревья, и притом так, чтобы они падали в определенную сторону, обрубить сучья, распилить, дрова сложить в правильный куб и сучья собрать в кучу.
Для непривычных людей – работа крайне трудная, а здесь были ведь не только мужчины, никогда не державшие топора в руках, но и сотни женщин и девушек – машинисток, канцеляристок и т. д. Рукавиц было очень мало, и через час руки начинали покрываться ссадинами и волдырями. Ночевать надо было тут же, на месте, чтобы продолжать работу в воскресенье, а ночи были уже холодные. Не обошлось и без несчастных случаев: одну девушку неладно упавшим деревом убило насмерть, одному служащему переломило бедро, мелких поранений была масса, и для оказания помощи был устроен перевязочный пункт.
Мне на помощь пришли партийные товарищи, так что у меня была своя группа, взявшаяся общими силами поставить приходящийся на мою долю куб. Пока дошла до нас очередь, стало уже седьмой час, и мы в сумерках приступили к работе. К счастью, среди моих товарищей были люди, которых суровая советская жизнь уже не раз заставляла собственноручно заготавливать в лесу дрова для своих семей, так что у них был уже некоторый опыт. Мы работали до четырех часов утра с короткими перерывами для чаепития. Затем разложили костер и, улегшись вокруг него, часа два поспали, а там снова работали до двенадцати часов дня. За это время нам удалось поставить полкуба. Решив отложить вторую половину на другую субботу, взяли у лесника билет с отметкой произведенных нами работ и пешком отправились по домам – в Екатеринбург.
Однако этой второй половины нам так и не пришлось отработать, ибо прозябанию моему в Екатеринбурге неожиданно наступил конец.
Я знал, что на двадцатые числа августа наш ЦК созывает партийную конференцию. Созывалась конференция совершенно легально, и известия о ней печатались даже в советских газетах. Формально наша партия и вообще существовала и действовала легально. У нас не было печати; местные организации то и дело громились Чрезвычайками; обыски и аресты членов партии не прекращались. Но в то же время в Москве у ЦК было официальное помещение с клубом при нем, в котором собирались члены местной московской организации, иногда в количестве до двухсот человек и более. Иногда Чрезвычайка делала налет и на это помещение, опечатывала его, забирала бумаги, арестовывала собравшихся. Но наша партия не сдавала своих позиций. Мы печатали, когда нужно и можно было, при содействии рабочих-печатников листки и воззвания за подписью ЦК, игнорируя все большевистские запреты, выступали от имени партии на съездах, собраниях, митингах и всеми возможными способами отстаивали свое право на открытую деятельность. И – по крайней мере, в центре, в Москве, – ЧК не в силах была справиться с нами, так как значительная часть самих большевиков, особенно большевиков-рабочих, в глубине души чувствовали, что в лице нашей партии преследуются наиболее сознательные, революционно настроенные рабочие и что эти преследования "– неизгладимый позор для коммунистической партии, претендующей на название рабочей. В результате арестованные через два-три месяца освобождались (так было, например, в марте-июне 1919 года, когда я, в числе прочих товарищей, был впервые арестован большевиками), помещение распечатывалось, и жизнь организации снова начинала идти своим чередом. Скажу кстати, что не было, кажется, ни одного крупного провала членов нашей партии в Москве, о котором заранее не сообщили бы т. Мартову или мне по телефону неизвестные доброжелатели, – и это несмотря на то, что ЧК не раз грозилась "поймать и расстрелять этих мерзавцев", телефонные разговоры которых с нами не оставались для нее секретом: наши телефоны находились под непрерывным наблюдением, разговоры записывались и представлялись в ЧК, которая иногда не стеснялась предъявлять эти записи при допросах. Но мы приняли за правило обмениваться по телефону мнениями так свободно, как будто никакие чужие уши нас не слушали, – не называя, конечно, тех имен, адресов и специально конспиративных подробностей, доводить которых до сведения ЧК не желали...
Итак, августовская конференция готовилась совершенно открыто, и в переписке с Москвою мы условились, что ЦК примет меры, чтобы попытаться дать возможность и мне принять в ней участие. Как-то днем – вскоре после рубки леса – Суханов принес мне телеграмму от Мартова с сообщением, что мне разрешено ехать в Москву на конференцию и что об этом послана телеграмма моему начальству. До конференции осталось очень немного дней, а поездка требовала трех суток. Между тем на службе мне ничего не говорили о получении телеграммы, и я стал беспокоиться, что опоздаю. Решил справиться.
Начальник управления А. был в это время в отъезде – в Москве. Заменял его по административной части доктор Г., а по политической – пресловутый "пом-пом" М. На мой вопрос о телеграмме оба сказали мне, что ничего нет. Прошло еще два дня, и тут один из служащих открыл мне секрет, что на самом деле телеграмма была, но что М. отправил по поводу ее почтой какой-то запрос в Москву. Положение мое было довольно затруднительно: сказать, что я знаю о телеграмме, значило выдать с головой моего осведомителя; молчать – значило наверное опоздать, так как ответ на почтовый запрос мог прийти самое раннее через восемь-десять дней, а конференция должна была уже открыться дня через три-четыре.
Пришлось прибегнуть к хитрости. Я пришел к М. и заявил ему, будто в Совтрударме мне сказали, что у них имеется сообщение о решении высшей московской власти вызвать меня в Москву, о чем-де и послано распоряжение в Военно-санитарное управление, и что члены Совтрударма удивляются, почему это распоряжение не приводится в исполнение. М. перепугался и признался мне, что действительно была телеграмма от Семашки о предоставлении мне немедленно двухнедельного отпуска для поездки в Москву. Но так как по военному времени (шла война с Польшей) отпуски военнослужащим запрещены, то он отправил в Москву письменный запрос, как следует телеграмму понимать, и до получения ответа ничего сделать не может. На мое требование написать в таком случае не "отпуск", а "командировку" он ответил отказом.
Мы с Сухановым побежали тогда разыскивать М-ва, коммуниста, бывшего московского рабочего, исполнявшего в данный момент обязанности председателя Совтрударма. Было уже половина четвертого, до окончания служебного дня оставалось всего полчаса. М-в, которому мы рассказали все дело и объяснили причины, не позволяющие мне медлить с отъездом, возмутился явным саботажем "помпома". Он сейчас же послал записку командующему войсками округа, от которого без пяти минут четыре получили в Военно-санитарном управлении распоряжение: 1) выдать мне обязательно сегодня же командировку в Москву "по делу, известному Совнаркому" и 2) посадить "помпома" на семь суток под арест за явную волокиту и неисполнение распоряжений начальства.
Что думал бедный "помпом" насчет этого неожиданного финала его попытки ущемить крамольника, я не знаю, но в семь часов вечера мне были вручены все необходимые бумаги. Выехать удалось, однако, лишь на следующий день вечером, так как в этот день в поезде не оказалось места
По приезде в Москву я узнал, что своей волокитой "номпом" оказал мне услугу. Еще до начала первого заседания конференции делегаты, собравшиеся в помещении нашего партийного клуба, были арестованы. Спаслись только те, которые не успели прийти или которых предупредили члены нашего Союза молодежи, немедленно расставившие пикеты по всем окрестным улицам и на этой работе также отдавшие две-три жертвы в руки ЧК. Все арестованные были, правда, недели через три-четыре выпущены. Но не опоздай я благодаря "помпому", в моей тюремной биографии могла бы прибавиться лишняя страничка...
Что означало такое противоречивое поведение большевиков, я и сейчас не знаю. Была ли это сознательная провокация, в частности по отношению ко мне, получившему возможность приехать "на конференцию" по постановлению самого ЦК коммунистической партии? Или ЧК еще раз хотела показать, что у нее своя рука владыка и никто ей не указ? Повторяю, я этого не знаю. Но конференция не состоялась. Жизнь московской организации была на несколько недель парализована. А в то же время Мартов получил разрешение на выезд за границу, куда ЦК спешил отправить его для участия в съезде Германской независимой социалистической партии в Галле, где должен был решаться вопрос об отношении к коммунизму и 3-му Интернационалу-
Глава III
НА ФРОНТ?
В Москве я застрял недели на три. Велись разговоры о возвращении меня в Москву. Об этом ходатайствовало мое прежнее начальство по Наркомздраву. Этого требовал наш ЦК. Но ничто не помогало. Семашко дал мне высочайшую аудиенцию. Изложив свою горькую обиду на то, что я так резко отверг его заботы об участи моей семьи, он заявил, что оставить меня в Москве никак не может; уверял даже, что это для моего блага, намекал, что ЧК непременно арестует меня. Он соглашался, однако, на Урал меня не возвращать, предоставляя мне выбрать любое место службы, кроме Москвы.
Выбор, однако, был невелик. Ехать в один из крупных городов юга – Киев, Харьков или Ростов-на-Дону – нельзя было, так как отдаленность от Москвы сильно затруднила бы мои сношения с ЦК. Любой же город Центральной России во всех отношениях оказался бы ничуть не лучше Екатеринбурга: то же вынужденное безделье, та же мертвечина, та же удушающая атмосфера произвола мелких провинциальных диктаторов...
Подумав несколько, я решил проситься на русско-польский фронт. Там, по крайней мере, будет новая среда и новые впечатления, которые несколько скрасят убогую серость провинциальной жизни. Хотелось также присмотреться к Красной армии. Я знал, разумеется, что большевистская атмосфера террора, наушничества, доносов не даст мне возможности ближе сойтись с красноармейцами и говорить с ними по душам, что придется ограничиться ролью "стороннего наблюдателя", но все-таки...
Со стороны Семашки препятствий не встретилось, и по выполнении всех нужных формальностей я покатил в Минск, где находился в то время штаб фронта В кармане у меня было письмо начальника Главного военно-санитарного управления к начальнику Военно-санитарного управления Западного фронта с просьбой дать мне назначение административного характера Насчет езды мне опять посчастливилось. По знакомству я попал в один из "собственных" вагонов, какие в громадном количестве имелись в распоряжении различных ведомств. Вагон был четвертого класса, но чистый. В нем была печка, на которой проводники кипятили воду и даже готовили обед. Народу было всего человек двенадцать, и ехать было очень удобно.
В Минск я прибыл в последних числах сентября. После разгрома под Варшавой Красная армия отхлынула далеко назад, и с первого же дня я услышал разговоры о возможной в близком будущем эвакуации Минска.
По внешнему виду Минск весьма отличался от Екатеринбурга. Как это ни странно на первый взгляд, но, несмотря на близость фронта и изобилие военных учреждений, Минск имел гораздо менее военный вид и не был окрашен в сплошной цвет хаки. Чувствовалось, что здесь имеется прочное, оседлое население, которое и вчера жило своей жизнью, живет ею сегодня и будет жить завтра, а не поглощается почти без остатка бюрократически-милитаристской волной. Улицы были оживленны. Открыто много лавок – и опять-таки странность: в то время как магазины платья, обуви, металлических изделий и т. д. уже опечатаны и национализированы, открыты и свободно торгуют именно лавки со съестными припасами, везде в Советской России первыми падавшие жертвами коммунизма: по-видимому, именно близость фронта и нежелание раздражать красноармейцев сыграли свою роль в этом попустительстве. И самый подбор товаров в этих лавках поражал советского обывателя прочей России: масло, колбаса, мясо, белый хлеб и булки, сахар, пирожные и даже швейцарский шоколад! Все это стоило очень дорого, но на все это находились покупатели, и в числе их видную роль играли красноармейцы, у многих из которых, не знаю откуда, было много денег. Мне говорили, что многие красноармейцы получают массу денег из деревни, где скопились целые груды советских бумажек. Цена на эти бумажки сильно колебалась. Действительной денежной единицей был в то время в Минске царский рубль. Но так как биржа, хоть и нелегальная, функционировала каким-то образом совершенно регулярно, то ежедневно к полудню курс царских денег был точно известен, и соответственно переоценивались и товары.
Достать в Минске квартиру или хотя бы комнату было очень трудно. Все было забито фронтовыми учреждениями и их бесчисленными служащими. Но, кроме того, значительная часть окраин Минска с фабриками и заводами была разрушена и, как мне говорили, нарочно подожжена при их уходе поляками, которые мешали тушить пожар. Однако мне и в этом отношении повезло благодаря привезенным из Москвы рекомендациям и помощи партийных товарищей: на следующий же день по приезде у меня была великолепная комната
Товарищей в Минске оказалось довольно много. Здесь были, с одной стороны, минчане, преимущественно из местной группы Бунда (социал-демократы), с другой стороны, смоленские социал-демократы, мобилизованные по случаю войны с Польшей в партийном порядке и работавшие в различных фронтовых учреждениях.
Дела местной организации обстояли довольно плохо. Еврейские рабочие – главный контингент местного пролетариата – в массе своей увлекались коммунизмом. Для того были, сколько я мог убедиться из наблюдений и разговоров, достаточные объективные основания. Положение рабочих домашней промышленности и мелкого ремесла – а таковыми было большинство еврейских рабочих – на первых порах большевистского режима не ухудшалось, а скорее даже несколько улучшалось: об ухудшении вообще трудно говорить там, где уровень существования стоял на самой низкой ступени, где царила потогонная система и где техническая и экономическая отсталость соединялась с национальным бесправием, чтобы придавить к земле голову еврейского пролетариата. Большевизм освобождал раба домашней промышленности и ремесла, превращая его в рабочего, работающего непосредственно на казну. Он освобождал его также от национальной приниженности и непосредственно поднимал его социальное положение, открывая бойким, интеллигентным, имеющим за собою вековую городскую культуру еврейским рабочим доступ ко всевозможным административным должностям. Развернуть все свои отрицательные стороны большевизм в Белоруссии не успел. Его губительное влияние на хозяйство сказывалось в непрерывном росте цен, но вместе с тем через армию вливались в население крупные денежные средства. Буржуазия, у которой конфисковывали предприятия, и крестьяне, подвергавшиеся реквизициям хлеба и скота, конечно, уже стонали под игом коммунистической политики: его чувствовали и немногочисленные рабочие крупной промышленности, остановившейся почти совсем. Но для массы еврейских рабочих-ремесленников розы большевизма пока бросались в глаза сильнее, чем шипы его. Немудрено, что в этой массе коммунизм пользовался еще широкими симпатиями и что при расколе Бунда огромное большинство организованных рабочих пошло за его коммунистической частью.
Правда, кое-какие признаки похмелья уже замечались. Видный деятель коммунистического Бунда с горечью рассказывал мне, как при первом же бое был почти уничтожен коммунистический еврейский батальон, составленный по партийной мобилизации из цвета организованных еврейских рабочих. Мой собеседник думал, что в этом истреблении была не без вины и политика, внушившая военному командованию мысль возложить на необстрелянный и неопытный батальон задачу, явно ему непосильную и обрекавшую его на гибель. Члены коммунистического Бунда (Вайнштейн, Э. Фрумкина) входили в состав белорусского правительства. Это не мешало официальной прессе травить коммунистический Бунд так же, как газеты Советской России травят социал-демократов, за то, что он желает сохранить особую организацию и тем обнаруживает свою буржуазную и предательскую природу. Ежедневно печатались письма "прозревших", которые покидали ряды Бунда и заявляли о своем переходе в партию большевиков. Бундисты чувствовали, что почва ускользает из-под их ног и что недалек час, когда организация их будет уничтожена. Как известно, это вскоре и случилось. По решению Коминтерна Бунд был распущен, и члены его вошли в Российскую коммунистическую партию. А еще через некоторое время, по случаю партийной чистки, множество бундистов было из РКП исключено, как "бывшие меньшевики". Другие были сняты с мест, где долголетняя деятельность связывала их с местным пролетариатом, и, например, тот же Вайнштейн, один из старейших и наиболее заслуженных деятелей Бунда, состоит в настоящее время председателем Исполкома... Башкирской Республики.
Смоленские товарищи (человек десять) работали, как я уже сказал, во фронтовых учреждениях, занимая нередко весьма ответственные должности. Начальство их работой весьма дорожило, но у них самих настроение было тяжелое. Смоленская организация, как и вся наша партия, охотно мобилизовала своих членов, когда Польша начала войну с Советской Россией с явно агрессивными целями, по совершенно очевидному подстрекательству империалистов Антанты. Но когда большевики воспользовались своими первыми военными успехами, чтобы, в свою очередь, перейти в наступление; когда был провозглашен поход на Варшаву и образование вывезенного из Москвы ревкома с целью советизации Польши; когда большевистская пресса начала заговаривать о Рейне, на котором, дескать, будет дана последняя и решительная битва международному капитализму; когда, словом, обнаружилась явная тенденii ия "нести народам Запада коммунизм" на штыках Красной армии, – тогда, разумеется, настроение членов нашей партии существенно изменилось. Поддерживать такую "внешнюю политику" и такую войну мы никоим образом не желали, о чем и заявили открыто в резолюции ЦК.
Мобилизованные члены смоленской организации разделяли общепартийное настроение, и немедленно же по приезде моем в Минск некоторыми из них был возбужден вопрос о том, не следует ли, ввиду изменившихся обстоятельств, произвести партийную демобилизацию. По тщательном обсуждении вопрос этот был решен отрицательно: варшавский поход был ликвидирован, Красная армия непрерывно отступала, а с другой стороны, с юга, в лице Врангеля, снова шел натиск дво-рянско-генеральской реакции. При таких условиях демобилизация была с точки зрения нашей партии политически неприемлема.
Я лично считал тогда и считаю теперь, что поражение большевиков под Варшавой было чем-то неизмеримо большим, чем простая военная неудача. С моей точки зрения, это поражение было неопровержимым свидетельством иллюзорности самой затеи сделать Красную, по существу своему мужицкую, армию орудием для насаждения коммунизма в социально-экономически более передовых странах. Армия эта была, есть и будет непобедима, когда речь идет об обороне, о защите крестьянских революционных завоеваний от покушений домашней ли реакции, иностранного ли империализма За защиту захваченной земли от возможного возвращения барина мужик-красноармеец будет драться с величайшим героизмом и величайшим энтузиазмом. Он пойдет с голыми руками против пушек, танков и своим революционным пылом будет заражать и разлагать самые великолепные и дисциплинированные войска, как это мы видели и с немцами, и с англичанами, и с французами одинаково. Красноармейца можно еще с грехом пополам употреблять и для войн колониального типа, где он сталкивается с инородческим населением совершенно иной, докапиталистической культуры, где нельзя ожидать сильного сопротивления и где манит легкая и богатая добыча; Хива, Бухара и отчасти Грузия тому примером. Но идея большевистского коммунизма до такой степени чужда и даже враждебна всему духовному складу мужика-красноармейца, что ни заразиться ею сам, ни заразить других он не может. Война за преобразование капиталистическою общества в коммунистическое его увлечь не может, – и тут граница большевистских красноармейских возможностей. Тут, в более широкой перспективе, и граница возможностей русской революции вообще. Только как "мужицкая" революция, хотя и протекающая под сильным идейно-политическим влиянием пролетариата, а не как революция непосредственно социалистическая, может она стимулировать мировой социально-революционный процесс.
Наступление на Варшаву и слепому должно было воочию показать это. Армия, только что бившая наголову поляков везде, где они пытались наступать на Россию, начала терпеть поражение за поражением лишь только ей была поставлена другая задача – сделать Польшу красной с перспективой коммунизировать затем Германию и т. д. Польское население, не только крестьянское и мещанское, но и рабочее, население более высокой культуры, нисколько не подвергалось идейному воздействию обрушившейся на него более отсталой стихии: оно массами снималось с мест при подходе Красной армии и отступало вместе с польскими войсками. А эти войска не только не разлагались под влиянием красноармейцев, но, наоборот, сама Красная армия, утратившая интерес и веру в плодотворность того дела, ради которого ведется война, стала разлагаться. И этому процессу разложения содействовала, разумеется, плохая постановка материальной части – тоже выражение несоответствия хозяйственной основы отсталой и истощенной страны тем грандиозным задачам социального переустройства всего мира, которые этой стране ставились большевиками.
В результате – чем дальше Красная армия подвигалась к Варшаве, тем более она освобождалась от всяких обозов и, несмотря на существование специального продовольственного фронтового органа (Опродкомзап), фактически жила лишь реквизициями у местного населения, вносившими громадное озлобление и раздражение; и тем более таяли ее полки, потому что солдаты стали разбегаться. Дезертирство достигло колоссальных размеров. Как-то уже позже, в Смоленске, конвоир-красноармеец в разговоре с препровождавшимися по этапу товарищами, арестованными в Могилеве, так определял юмористически, что такое "трехмиллионная Красная армия"; миллион бежит, миллион сидит, миллион ловит и водит. Несмотря на угрозы суровыми карами, сменявшиеся "неделями дезертиров", когда добровольно вернувшимся обещалось полное прощение, бегство из рядов армии не прекращалось, и только в упомянутые "недели" беглецы возвращались, чтобы получить обмундирование и затем снова исчезнуть.








