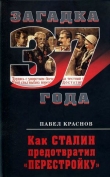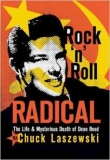Текст книги "Почему не гаснут советские «звёзды»"
Автор книги: Федор Раззаков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
С помощью своего соратника – контрразведчика Вячеслава Кеворкова, который отвечал за «тайный канал» связи с руководством ФРГ, Андропов вышел на связь с канцлером этой страны Вилли Брандтом и уговорил его предоставить Солженицыну политическое убежище. Как только Брандт согласился, Андропов отправился к Брежневу и уговорил уже его выбрать именно этот вариант, а не вариант Косыгина и К° (всё, как в случае с В. Высоцким, только там обошлось без высылки). Итог: в феврале 1974 года Солженицын был выслан из страны и стал одним из лидеров антисоветского движения на Западе.
Уже в июне 1975 года (то есть спустя чуть больше года после высылки) на Западе издаётся очередной труд Солженицына: его мемуары «Бодался телёнок с дубом». Учитывая, что и эту весьма объёмную книгу он писал, ещё будучи советским гражданином, снова задаёшься невольным вопросом: куда смотрел КГБ? Ответ очевиден: Комитет «прошляпил» и это произведение писателя не в силу своего малого профессионализма, а исключительно по воле своего руководства, которое вступило на весьма скользкую дорожку: ввязалось в сомнительные игры со спецслужбами Запада и в итоге эти игры начисто проиграло (моя версия – намеренно).
Так называемые «русские националисты», к одним из идеологов которых часто приписывают и Солженицына, до сих пор отстаивают версию того, что Андропов выслал Солженицына из страны, именно чтобы лишить это движение наиболее яркого и талантливого представителя. Но это сомнительное утверждение, поскольку Солженицын, судя по его произведениям и многочисленным высказываниям, любил Россию странною любовью – через презрение (как написал он сам во втором томе «Архипелага ГУЛАГ»: «Нет на свете нации более презренной, более покинутой, более чуждой и ненужной, чем русская»). Эта любовь была сродни той, что исповедовали те же либералы-западники, которые называли свою «любовь» не иначе как «сука Россия». Кстати, эту черту в Солженицыне подметил раньше всех русских националистов издатель «самиздатовского» журнала «Вече» Владимир Осипов. Ещё в 1973 году он писал в этом издании следующее:
«В 60-е годы Солженицын стал нравственной силой, противостоящей определённым началам современной государственности… Но за последнее время Солженицын, на наш взгляд, совершил ошибки, которые могут оказаться роковыми для дальнейшего исполнения им своего предназначения…»
И ниже шёл следующий вывод, который входил в явный диссонанс с позицией Солженицына:
«Советский социальный и политический строй, стоящий на национальных принципах и фактическом соблюдении Конституции СССР, нас (русских националистов. – Ф.Р.) вполне устраивает».
А вот что заявил Солженицын в интервью американскому журналу «Форин афферс» в апреле 1980 года: «Надо прекратить верить в разрядку, поскольку сосуществовать с коммунизмом на одной планете невозможно». В этих двух концепциях – Осипова и Солженицына – и была трагедия СССР, а также России. Как мы знаем, верх в итоге взяла последняя концепция, после чего имя Александра Солженицына и было выбито золотыми буквами на скрижалях мирового неолиберализма (или глобализма).
Как известно, развал СССР был запущен в годы горбачёвской перестройки. И это не было случайностью или трагическим стечением обстоятельств: всё происшедшее было тщательно спланировано мировой закулисой и советскими «кремлёвскими глобалистами». На это указывает и факт того, что либерал-перестройщики своим знаменем избрали именно Солженицына, который к тому моменту превратился не только в одного из главных ненавистников коммунизма, но и ненавистника вообще славянской нации как таковой. Как верно заметил по этому поводу писатель Юрий Бондарев: «Чувство злой неприязни, как будто он сводит счёты с целой нацией, обидевшей его, клокочет в Солженицыне, словно в вулкане. Он подозревает каждого русского в беспринципности, косности, приплюсовывая к ней стремление к лёгкой жизни и к власти, и как бы в восторге самоуничижения с неистовством рвёт на себе рубаху, крича, что сам мог бы стать палачом…»
Если бы перестройка ставила своей целью придание социализму человеческого лица (как декларировалось её лидерами), тогда какого рожна надо было обращаться за помощью к врагу социализма Солженицыну? Но потому и обратились, что хотели не обновления социализма, а его погибели.
Первыми о возвращении Солженицыну советского гражданства заговорили в перестройку кинематографисты, с которых, собственно, и начался «бунт советской интеллигенции». Именно антиславянизм Солженицына сильнее всего и импонировал советским либералам времён горбачёвской перестройки, когда они затеяли кампанию по возвращению писателя на родину. Тот мог стать для них живым знаменем в их окончательной победе над ненавистной советской властью. Вот почему либералы-писатели так были заинтересованы в публикации в СССР его программной книги «Архипелаг ГУЛАГ», а либералы-кинематографисты мечтали экранизировать другие его, не менее концептуальные произведения (тот же «Один день Ивана Денисовича», который режиссёру Элему Климову не удалось снять ещё в первую «оттепель» – в первой половине 60-х). Реабилитации Солженицына отчаянно сопротивлялись державники-сталинисты, но силы их постоянно таяли, поскольку державники-патриоты (русские националисты) в этом вопросе сомкнулись с либералами.
Перелом наступил к середине 1989 года: именно тогда Солженицыну было возвращено советское гражданство (как и другому отщепенцу – главрежу «Таганки» Юрию Любимову). Всё было закономерно, поскольку к тому моменту ситуация стала такой, что либеральные силы уже вовсю стали гнуть державные. Тут не одним только «Архипелагом ГУЛАГ» дело обернулось – тогда одно за другим стали публиковаться не только антисоветские, но уже и откровенно русофобские произведения вроде «Прогулок с Пушкиным» Абрама Терца (Андрея Синявского) или «Всё течёт» Василия Гроссмана. Симптоматично, что оба произведения были опубликованы в журнале «Октябрь»: получивший своё название в честь Октябрьской революции, этот журнал теперь уверенно лидировал в процессе дискредитации всего русского и советского. Как говорится, приплыли.
Что касается «Архипелага ГУЛАГ», то его публикация взяла старт в журнале «Новый мир» сразу после официальной «реабилитации» Солженицына – в августе 1989 года. Высшее партийное руководство выступило по этому поводу с комментарием в газете «Правда», причём комментарий этот принадлежал… видному диссиденту Рою Медведеву. Это было уже верхом капитулянтства со стороны Кремля. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. В той же «Правде» тогда же вышла статья В. Согрина, где он приводил слова Ленина о том, что «нет и быть не может другого пути к настоящей свободе пролетариата и крестьянства, как путь буржуазной свободы и буржуазного прогресса». С этого момента маски фактически были сброшены и большинству стало ясно, в каком направлении ведут в перестройке её «прорабы» – к реставрации капитализма.
Вслед за «Архипелагом» в советской печати начались публикации и других произведений Солженицына, в том числе и «Стремени „Тихого Дона“», где тот обвинял великого русского писателя Михаила Шолохова в плагиате. Последнего к тому времени уже не было в живых (он умер в 84-м), поэтому ответить клеветнику, по сути, было некому. А попытки сделать это писателей из державного лагеря закончились ничем, поскольку общий тираж державных изданий был всего-навсего 1,5 млн. экземпляров против 60 млн. либеральных. В этих же руках к тому времени находились и другие СМИ: телевидение, радио. Поэтому точка зрения Солженицына была растиражирована на всю страну, к вящей радости всех врагов Шолохова. Спустя год после этого рухнул Советский Союз.
Солженицын торжественно вернулся в капиталистическую Россию летом 1994 года. Надеюсь, читатель ещё не забыл, что это было за время: Россия фактически загибалась под гнётом ельцинских реформ. Уже был всенародно расстрелян парламент и кровь из русского народа продолжали пить все, кому не лень: как отечественные кровососы, так и забугорные. И вот на этот поистине «пир вурдалаков» с огромной помпой прибыл Солженицын.
Судя по всему, российские власти были не в большом восторге от его решения вернуться на родину. Нет, публично они его всегда всячески расхваливали, но это была любовь из разряда «на расстоянии». Все же знали, что Солженицын – натура сложная, себе на уме и неизвестно, какие коленца он может выкинуть по поводу того, что увидит на родине. Однако и препятствовать его возвращению было нельзя – общественность, в том числе и мировая, могла этого не понять. Короче, писателю дали «добро» на возвращение, дабы заткнуть рот тем критикам, кто кричал о том, что Россия при Ельцине стала вотчиной Запада и еврейской олигархии. Якобы «русский националист» Солженицын должен был на собственном примере доказать: Россия сегодня – и русская тоже.
Возвращенец высадился во Владивостоке, чтобы оттуда поездом через всю страну добраться до Москвы. Здесь его встречали торжественно практически все фракции – от либеральных до коммунистической. На последних будто затмение какое-то нашло: в «Правде» даже статья появилась под названием «Скажите в Думе своё слово, Александр Исаевич!». Какое слово во славу России мог сказать человек, который, по меткому выражению А. Зиновьева, «целился в коммунизм, а попал в Россию»? Справедливости ради отметим, что чуть позже коммунисты всё же одумаются и вернутся к своим первоначальным оценкам писателя-диссидента.
Власти поселили Солженицына на бывшей даче (перестроенной) сталинского наркома Л. Кагановича в Троице-Лыкове, окружили заботой и вниманием. В Малом театре тут же поставили его пьесу – «Пир победителей», которую М. Шолохов когда-то назвал «клеветой на Советскую Армию». Но кто в ельцинской России вспоминал Шолохова добрым словом: так, мелюзга – народ. Власть же давно записала его в свои враги и даже исключила его произведения из школьной программы. То ли дело Солженицын: ненавистник советской власти, любимец Запада – короче, свой человек! Но власть рано радовалась.
В 1995 году Солженицыну предоставили возможность вещать в массовом эфире – разрешили вести 10-минутную программу на ОРТ (тогдашней вотчине олигарха Бориса Березовского). Однако очень скоро власть поняла, что поступила опрометчиво. В передаче Солженицын взялся учить уму-разуму не только рядовых россиян, но и кремлёвских небожителей. Последние пытались как-то вразумить писателя: высокие чиновники из Кремля имели с ним несколько встреч тет-а-тет. Дескать, клеймите коммунизм, но нас, пожалуйста, не трожьте. Но Солженицын слушать их не стал, поскольку всегда считал себя фигурой самостоятельной, да ещё защищённой мировым общественным мнением: как-никак нобелевский лауреат и один из столпов антикоммунизма.
Тогда российские власти поступили решительно: в конце 95-го передача Солженицына была закрыта. При этом причина была придумана смехотворная: мол, она слишком… скучная. Объясняться с общественностью был отряжён генпродюсер ОРТ К. Эрнст, который заявил следующее:
«При всём моём уважении к Александру Исаевичу я считаю, что телевидение его девальвировало. Меня удивила реакция журналистов: единодушно называли программу скучной и чуть ли не требовали её снятия, а после снятия те же люди стали яростно защищать Солженицына. На мой взгляд, мы приняли правильное решение, сняв программу, но это не значит, что Солженицын запрещён на Первом канале. Как только он захочет выступить – мы готовы предоставить ему такую возможность…»
Этот скандал со всей убедительностью продемонстрировал всему миру, какое место Солженицыну отвели отныне российские правители в политическом пространстве – на обочине. Однако писатель не стал особенно возмущаться и фактически ушёл в тень, став уже не вермонтским отшельником, а троице-лыковским. Что вполне закономерно, поскольку бороться с этим режимом в его планы не входило – он его вполне удовлетворял. В этом качестве фактического «свадебного генерала» Солженицын и дожил остаток своих лет.
(«Советская Россия» от 14 августа 2008 года)
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДИН РИД
(К 70-летию)
Нельзя сказать, что в сегодняшней России имя Дина Рида забыто. Однако память эта весьма своеобразна. Если среди простых людей о нём в основном сохранились светлые воспоминания, то у властей предержащих наоборот. Поэтому первые открывают в Интернете всевозможные сайты о Дине Риде, где с восторгом вспоминают о своём кумире, а вторые (посредством прикормленных журналистов и теледеятелей) пишут о нём тенденциозные статьи и снимают такие же документальные фильмы. Цель последних вполне прозрачна: принизить и опорочить светлое имя человека, жизнь и деятельность которого может стать для миллионов молодых людей примером для подражания. Именно поэтому из Дина старательно «лепят» этакого «недалёкого эстрадника, заплутавшего в дебрях большой политики», да ещё якобы убитого своими. Однако более внимательное знакомство с биографией этого человека не оставляет камня на камне от этого искажённого портрета.
Начнём с того, что Дин Рид и в самом деле пришёл в политику наивным молодым человеком, однако достаточно быстро избавился от «розовых очков», став в итоге опытным и искушённым революционером. Как известно, «полевение» его взглядов произошло в самом начале 60-х во время гастролей по Латинской Америке. До этого он был типичным американским буржуа, свято верившим в правильность политики своего правительства и справедливое предназначение США (тем более что отец его был ярым антикоммунистом, членом ультраправого «Общества Джона Берча», и старался прививать трём своим сыновьям соответствующие взгляды). Однако поездка в Латинскую Америку открыла глаза Дину, поскольку именно там он впервые столкнулся с иным отношением к своей родине – резко отрицательным. Что стало для Дина настоящим шоком: он-то всегда считал, что его великой страной люди обязаны гордиться априори.
Отметим, что на тот момент латиноамериканский континент представлял собой настоящий инкубатор социальных революций. Что вполне закономерно, если учитывать, что а) несмотря на успехи индустриализации, сохранялось подчинённое, периферийное положение стран Латинской Америки в мировом хозяйстве как поставщиков аграрно-сырьевых ресурсов, и падение цен на мировом рынке в 50-е сильно отразилось на экономике этого региона и б) темпы роста населения в Латинской Америке к началу 60-х достигли рекордного уровня даже по сравнению с Азией и Африкой – 2,8% в год.
Путь латиноамериканцев к лучшей жизни развивался в двух направлениях – в революционном и эволюционном. Первый был представлен революцией на Кубе, где к власти пришли Фидель Кастро и его сподвижники. Второй путь представлял собой союз левых и правых сил, которые приходили к власти в основном мирным (эволюционным) путём – через выборы. На тот момент Дин Рид являлся сторонником эволюционной борьбы, недаром он сам признавался в том, что до середины 60-х был пацифистом. Именно поэтому, покинув США, он в 1964 году перебрался жить в Аргентину, которая демонстрировала именно эволюционный путь развития – в результате выборов 63-го года к власти там пришёл кандидат от оппозиционного РГС «народа» бывший сельский врач из Кордовы Артуро Ильиа.
Именно как пацифист Дин отправился и на Всемирный конгресс мира в Хельсинки в 1965 году. И не случайно именно он стал там неким примирителем: с помощью песни сумел утихомирить не на шутку разгулявшийся конфликт между двумя противоборствующими лагерями (теми, кто был за войну во Вьетнаме, и теми, кто был против неё). Именно как на пацифиста на Дина обратили тогда внимание советские либералы (Г. Арбатов и др.) и пригласили его посетить Москву.
Для чего это было сделано? Дело в том, что при Хрущёве советская правящая элита из двух возможных путей борьбы с Западом, откровенная конфронтация и мирное сосуществование, избрало последний. Об этом сам Хрущёв заявил на XX съезде КПСС в 1956 году: «Мы хотим дружить и сотрудничать с Соединёнными Штатами на поприще борьбы за мир и безопасность народов». Тот кризис, который случился между СССР и США осенью 1962 года и названный «карибским», был всего лишь коротким отступлением от этого курса, вызванного многими факторами, в том числе и очередной вспышкой борьбы между «голубями» и «ястребами» в советском и американском руководствах. В целом же именно с Хрущёва началось постепенное сближение двух систем, о чём наглядно говорят многие факты, в том числе и «косыгинская реформа» (или «реформа Либермана»), которая началась в 1965 году (внесение в советскую экономику капиталистических элементов).
Большинство коммунистических партий мира (в том числе и аргентинская) положительно оценили советский курс и стали строить свою политику исходя именно из него. Дин Рид придерживался той же позиции, однако так длилось примерно до 1966 года. Затем он стал всё больше склоняться к позиции Че Гевары (отметим, что в марте 66-го аргентинец провёл ночь в доме Дина, будучи нелегально у себя на родине) и Мао Цзэдуна, которые в своих воззрениях на отношения между двумя системами ратовали за решительное размежевание, за конфронтацию. Судя по всему, переход Дина на эту позицию был связан с агрессивной политикой США (война во Вьетнаме, вторжение в Доминиканскую Республику), а также событиями, которые происходили в Латинской Америке (установление военных диктатур в Бразилии и Аргентине). Все эти события, видимо, доказали Дину, что мирное сосуществование с империализмом невозможно. Поэтому ему стали близки воззрения Че и Мао.
Свои идеи те пытались претворить в жизнь уже тогда, в конце 60-х. Мао затеял в Китае «культурную революцию», которая преследовала цель калёным железом выжечь в стране «пятую колонну» из обуржуазившихся коммунистов (часть из них была репрессирована, часть отправилась на перевоспитание в сельскую глубинку), а команданте Че отправился в Боливию, поднимать тамошних крестьян на восстание. СССР и почти все коммунистические партии мира все эти действия осудили (особенно сильно досталось Китаю). В результате широкомасштабной пропаганды «культурная революция» приобрела в глазах мировой общественности ореол «политической шизофрении», а боливийская одиссея Че была названа «опасной авантюрой» (тем более что итог её был плачевный – отряд Че и он сам были уничтожены).
Судя по всему, Дин также присоединился к общему мнению о произошедших событиях. Правда, в пацифисты он не вернулся, а засел за марксистские учебники (привёз их из Москвы, куда он впервые приехал с гастролями в конце 1966 года) и стал активно подковывать себя по части политической теории. В итоге к началу 70-х он вновь вернулся к прежней идее эволюционного развития революционного движения. Эта его позиция (а также то, что он публично не осудил ввод советских войск в Чехословакию в августе 1968 года, как это сделали многие западные интеллектуалы) нашла полную поддержку в Москве, и с этого момента имя Дина Рида стали широко раскручивать в СССР. Раскручивание шло в двух направлениях: культурном (как альтернатива мракобесному американскому масскульту) и политическом (как пример революционера-эволюциониста, критикующего США, но в любой момент готового стать мостиком для общения двух систем). Ведь идея подобного «мостика» по-прежнему оставалась актуальной для руководства СССР, а в конце 60-х о нём в открытую заговорили и на Западе. Что было не случайно.
Всё началось с чехословацких событий, с так называемой «доктрины Брежнева» (возможности силового наведения порядка в зоне своих интересов). Эти события наглядно продемонстрировали Западу, что а) «закон кулака» в отношениях с СССР неэффективен и б) дальнейшая конфронтация только укрепит позиции «ястребов» в советском руководстве, а «голуби» (они же агенты влияния) будут окончательно оттеснены на дальние рубежи большой политики. Поэтому был избран другой вариант – «удушение СССР в объятиях». Этот этап начался в ноябре 1969 года с инаугурационной речи Р. Никсона, где он заговорил о необходимости перехода от эры конфронтации к эре переговоров. Так закладывался фундамент под будущий «детант» (разрядку).
Активное включение Дина Рида в культурную и идеологическую парадигму советской политики началось практически одновременно – в 1970 году. Именно тогда в СССР были выпущены четыре диска-миньона певца и первый диск-гигант, а также он становится делегатом двух важных политических мероприятий: участвует в конференции сторонников мира в Стокгольме (март) и пленуме Всемирного совета мира в Москве (апрель). Чуть позже (осенью) он пишет открытое письмо А. Солженицыну, где подвергает его резкой критике за антисоветские взгляды, в которых писатель рисует СССР не иначе как тюрьму народов, да ещё пронизанную ненавистью. Дин был искренне возмущён подобными взглядами, хотя и не был советским гражданином. Однако за пять последних лет он дважды побывал в СССР (дал гастроли в восьми республиках Союза) и воочию видел жизнь советских людей. И жизнь эта, по его мнению, не была похожа на тюрьму.
Отметим, что ещё совсем недавно – в конце 50-х – Дин был даже большим антисоветчиком, чем Солженицын. Как и большинство американцев, он считал Советский Союз самой несвободной и отсталой страной в мире, где по улицам городов бродят дикие медведи (американская пресса писала об этом на полном серьёзе). Но затем в отличие от Солженицына у Дина стали шире открываться глаза на мир. В то время как советский писатель расширял свой кругозор в четырёх стенах собственного дома (выехать из страны он не мог), Дин начал активно гастролировать и воочию наблюдать жизнь людей в разных странах.
До середины 60-х Дин по инерции продолжал нести в себе многие из тех взглядов относительно советского режима, которые были привиты ему в 50-х отцом и родной пропагандой. Он писал: «Я предпочитал называть себя как угодно: идеалистом, гуманистом, пацифистом и даже социалистом, но только не коммунистом». Подлинный переворот в сознании Дина произошёл в 1965 году, когда после конгресса в Финляндии он наконец впервые очутился в СССР. И вблизи увидел социалистическую модель в действии. И хотя у этой модели были свои недостатки, однако достоинств оказалось куда больше, и именно они произвели настоящий переворот в сознании Дина. Эти впечатления окончательно утвердились в нём спустя год, когда он пробыл в СССР на гастролях больше месяца и посетил не только Москву, но и другие города Союза. С этого момента Дин, что называется, прикипел к родине социализма душой и сердцем бесповоротно. Сравнивая жизнь в СССР с жизнью в других странах, он пришёл к мнению, что она достаточно свободна, обеспеченна и безопасна. С этого момента Дин уже не стеснялся называть себя другом и сторонником коммунистов. После чего к армии его поклонников, разбросанных по всему миру, приплюсовались и миллионы советских людей.
Что касается недоброжелателей, то и они, конечно, тоже объявились, но это были исключительно представители так называемой либеральной интеллигенции, которые без «кукиша в кармане» свою жизнедеятельность не представляли. Например, после открытого письма Солженицыну в их среде начали раздаваться обвинения по адресу Дина, что он не знает истинного состояния дел в СССР и поэтому не имеет права учить других. В итоге у Дина созреет решение… переехать жить в СССР (с 1967 года он жил и работал в Италии). Однако у советских идеологов на этот счёт окажется иное мнение.
Судя по всему, они исходили из того, что переезд Дина в Союз заметно «подмочит» его политическую репутацию (он перестанет восприниматься миллионами людей в мире как неангажированный американец), поэтому в переезде в СССР ему будет отказано. Зато будет дано «добро» на его переезд в «витрину социализма» – ГДР. Тем более что именно тогда начался процесс широкого мирового признания этой страны, и переселение туда знаменитого американца могло дать лишние очки восточногерманским властям в их пропагандистской политике. С лета 1973 года Дин становится жителем ГДР. А спустя несколько месяцев был нанесён новый удар по его политическим воззрениям.
Это случилось в сентябре, когда в Чили пала власть Сальвадора Альенде. Как известно, тот пришёл к президентству в результате именно честной парламентской борьбы – с помощью всенародных выборов. Тем самым Дин (и многие другие левые в мире) лишний раз убедился, что можно победить эволюционным путём. Однако длилась эта победа недолго – всего три года. После путча Пиночета стало понятно, что победа Альенде была пирровой. Дело в том, что мирное развитие революции в Чили автоматически предполагало союз левых сил и буржуазии. В итоге Альенде позволил последней сохранить в неприкосновенности старую армейскую структуру (где позже и вызрел заговор), запрет на создание параллельных органов власти, запрет на вооружение рабочих и т.д. (то, о чём в своё время предупреждал Мао Цзэдун). Всё это аукнулось Альенде в сентябре 73-го.
Незадолго до своего падения президент Чили приезжал в Москву, чтобы найти там помощь. Однако она ему предоставлена не была, поскольку в планы Брежнева не входило срывать уже начавшийся процесс «разрядки» с Западом (отметим, что Кремль не стал использовать в свою пользу и революционную ситуацию в Европе в конце 60-х). Кремлю в Латинской Америке вполне хватало Кубы как «бельма на глазу США». В этом же направлении в те же годы стал дрейфовать и Китай, который после 25 лет конфронтации с США пошёл с ними на «мировую». Если приплюсовать сюда и деятельность еврокоммунистов в Европе, которые ещё раньше начали свою смычку с буржуазией, то общая картина соглашательства коммунистических верхов с капиталистами получится впечатляющей.
Особенно наглядно всё это проявилось в октябре 1973 года, когда «третий мир» нанёс мощный удар по мировой системе капитализма, значительно подняв цены на нефть. Этот удар мог свалить с ног Запад и поставить его на колени, если бы «третий мир» поддержали СССР и его союзники. Но они выбрали иной путь: протянули капиталистам руку помощи и активно включились в мировую капиталистическую систему в качестве поставщика сырой нефти. Судя по всему, сделано это было не случайно: видимо, руководство СССР попросту испугалось ответственности за возможный однополярный мир и решило сохранить прежний «статус-кво» (отметим, что десятилетие спустя США подобной дилеммы не испугаются).
Кроме этого, за счёт нефтедолларов СССР планировал решить и свои экономические проблемы (в том числе и «задобрить» население), однако эта политика в итоге приведёт страну и весь Восточный блок к краху, поскольку начнётся стремительная реинтеграция социалистической системы в мировую капиталистическую систему со всеми вытекающими отсюда последствиями. В итоге уже спустя несколько лет Восточный блок окажется в ловушке, так как в середине 70-х он наберёт у Запада дешёвых кредитов, а в начале следующего десятилетия (когда цены на нефть стабилизируются) проценты от этих кредитов резко возрастут. В итоге многие соцстраны попадут в настоящую долговую кабалу (у Польши, к примеру, сумма долга достигнет 24 миллиардов долларов, у СССР – 12,4 миллиарда, у ГДР – 12 миллиардов и т.д.).
Однако вернёмся к Дину Риду.
Во второй половине 70-х он ещё не понимает, что политика правящих элит Восточного блока и их союзников есть роковая ошибка в развитии мирового коммунистического движения (кое-кто сегодня называет это более резко – предательством). Он продолжает поддерживать разрядку, однако и радикализм его никуда не делся: здесь Дин следует завету Че Гевары, который как-то сказал, что «нельзя отказываться от борьбы и ожидать победы, как нищий подаяния». В середине 70-х Дин сходится с представителями чилийского подполья, которые ставят целью именно вооружённый переворот в Чили (он даже нелегально проникает в эту страну и попадает там за решётку), а также становится близким соратником руководителя ООП Ясира Арафата. И вот уже в ряде своих интервью Дин в открытую заявляет, что готов лично с оружием в руках биться за победу над мировым империализмом (в 77-м он и в самом деле берёт в руки «калаш» и едва не становится участником вооружённого конфликта на Ближнем Востоке).
В сторону радикализма меняется и творчество Дина. Если в 70-м он как режиссёр снимает документальный фильм-панегирик об эволюционной победе Альенде в Чили, то во второй половине того же десятилетия, уже в качестве режиссёра игрового кино, снимает сначала фильм «Братья по крови», где со всей страстью клеймит американскую военщину, жестоко истребляющую индейцев (параллель с вьетнамцами), а в 78-м – «Эль Кантор» («Певец»), где разоблачению подвергается уже фашиствующая пиночетовская хунта.
Однако отметим следующую вещь. Несмотря на то что «Братья по крови» становятся лидером кинопроката в ГДР и в странах Восточного блока (особенно в СССР), однако немецкое руководство внезапно принимает решение прекратить выпуск «defa-вестернов», которые до этого на протяжении последних 10 лет выходили в конвейерном режиме – по два в год. Кроме этого, самому Дину власти ГДР запрещают начать работать над фильмом «Телль-Заатар», где речь должна была идти о героической борьбе палестинского народа. Всё это было следствием всё той же «разрядки», которая явилась наглядным выражением оппортунистической позиции Кремля с его теорией мирного сосуществования с капитализмом.
Тем временем в конце 70-х на Западе происходят сильнейшие политический и экономический кризисы, которые выводят на авансцену истории так называемых неоконсерваторов (Тэтчер, Рейган и др.), внутренняя политика которых заключалась в демонтаже «социального государства», сокращении госрасходов, приватизации национализированных предприятий и т.д., а во внешней – «крестовом походе» против социалистического лагеря, полном его разгроме и захвате его природных и человеческих ресурсов.
Наступление на внешнем фронте было мощным. Во-первых, Западу удалось втянуть СССР в афганскую войну, во-вторых – заманить соцстраны в долговую кабалу. После этого начинается широкомасштабная пропагандистская атака на Восточный блок: затевает её новый президент США Рональд Рейган (в ноябре 80-го), во всеуслышание объявивший СССР «империей зла». Для высшей элиты СССР (и всего Восточного блока) это было шоком, поскольку они-то считали, что уже сумели конвергироваться с Западом и найти с ним общий язык (вот почему некоторые политологи до сих пор считают Брежнева одним из отцов нынешней глобализации). Но оказалось, что под шкурой овцы Запад скрывал обличье волка.
В новом витке «холодной войны» СССР выставил против своих оппонентов Юрия Андропова, который лучше всех членов советского Политбюро был искушён в интригах Запада, что неудивительно: он в течение нескольких лет возглавлял Международный отдел ЦК КПСС, а потом стал во главе КГБ, превратившись в одного из столпов конвергенции с советской стороны. Именно поэтому до своего прихода к власти (то есть до ноября 1982 года) он воспринимался западной элитой как либерал, хотя и был шефом такого грозного ведомства, как КГБ. Это было связано не только с его национальностью (в его жилах текла еврейская кровь), но и с его взглядами на «разрядку». Не случайно поэтому в западных СМИ его раскручивали как прогрессивного деятеля: дескать, он любит джаз, поддерживает либеральный Театр на Таганке и пишет стихи.