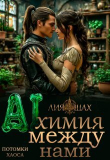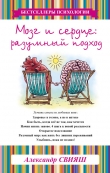Текст книги "Живём ли мы свой век"
Автор книги: Федор Углов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Художник обещал профессору непременно всё разузнать и подробно отписать.
Глава седьмая
Самолет приземлился в Душанбе утром.
До Нурека ехали на автобусе. Дорога вилась в невысоких горах, то там, то здесь в чашах долин, на склонах предгорий лепились небольшие поселки, крошечные городки с двумя-тремя заводскими трубами. В долинах Таджикистана заканчивалась пора уборки хлопка. Казалось, все люди были заняты тут хлопком. Машины шли с прицепами, на них снежные горы; на улицах, во дворах домов белая кипень, точно снег обрушился лавиной.
Солнце палило немилосердно.
– Однако здесь сущее пекло! – сокрушался певец. – Пожалуй, градусов тридцать пять будет.
– Зато в горах прохладнее, – заверил художник.
Нурек открылся не сразу; вначале друзья увидели плотину строящейся гидростанции: отсюда, с километровой высоты, она казалась совсем небольшой, почти игрушечной. В теснине Пулисангинского ущелья, плотно врезавшись в скалистые бока, возвышалась земляная перемычка. Она напоминала поставленный на попа сундук. Между тем плотина уже сейчас поднималась на четверть километра.
Дорога, извиваясь в горах, бежала вниз, и вскоре справа по ходу в небольшой долине показался и сам Нурек. Всего лишь одна улица – пока единственный проспект с трёх– и четырехэтажными домами; и чем ниже спускался автобус, тем виднее были национальные черты зданий, приметы восточного колорита, а вот уж и отчетливо различалась центральная площадь, и гостиница «Нурек», и большой с белыми колоннами дом управления стройкой.
Явились друзья к председателю горисполкома Бой-мирзо Шукурову. Он был немало озадачен визитом и долго рассматривал документы. По-русски говорил неважно, и оттого вопросы его казались наивными и несколько бестактными:
– Кишлак Чинар? Зачем кишлак Чинар?
– Ах, боже мой! – всплескивал руками певец. – В гости к вам приехали. В гости!..
Певец не привык к такому приёму, и каждое слово председателя его раздражало. Художник сидел в сторонке у окна в кресле и наблюдал за председателем. Поведение певца не нравилось хозяину кабинета – скорее всего оно даже оскорбляло председательское самолюбие, но он был сдержан, неторопливо листал паспорта, умным, пытливым взглядом ощупывал гостей.
Он, видимо, плохо понимал их намерение.
– Кишлак Чинар высоко. Нельзя ходить Чинар, никак нельзя!..
– Нет, вы, право, меня удивляете! Дедушка Мироли нас пригласил в гости. У нас, у русских...
– Кишлак Чинар ехать можно. Ходить нельзя. Далеко ходить, высоко. Сердце – тук-тук-тук...
Председатель улыбнулся, откидываясь на спинку кресла. В тот же момент вошла секретарша, принесла чаю. Председатель вышел из-за стола и сам поднес гостям пиалы.
– Можно вертолет, можно лошадь, – продолжал председатель, возвращаясь на своё место и принимаясь за чай.
– Лошадь! – воскликнул певец. – Это же интересно! Я сто лет не сидел в седле!..
На том и порешили: ехать на лошадях.
Председатель самолично привел гостей в полуразвалившийся сарай на краю города; здесь юркий, похожий на подростка таджик вывел из-под навеса низкорослых неказистых коняшек и помог путешественникам взобраться на них. Певец, казалось, был смущен и жалел, что согласился на такой вид транспорта, но отступать было поздно. Вместо седел были попоны, ноги у всадников беспомощно висели, и на ум невольно приходило сравнение с Дон-Кихотом и Санчо Пансой. Молдаванов и здесь играл первую роль – Дон-Кихота.
Тронулись: певец впереди за проводником, художник сзади. Ехали по тропинке; прихотливо извиваясь, она, словно живая, бежала в горах, увлекая всадников всё выше и выше. Местами слева или справа вдруг открывался отвесный обрыв, и туристы, словно по команде, отворачивали голову в сторону. Впрочем, певец восседал на своём Росинанте спокойно, чем приводил в изумление художника. В одном месте тропинка вилась по краю обрыва долго, обрыв был глубокий – пожалуй, с километр, а то и больше, и, когда всадники его миновали, певец обернулся к художнику и, сверкая очами, воскликнул:
– Каково, а?.. Я бы назвал это ущельем Дьявола!..
Опасности распаляли его воображение, он всё больше отдавался радости необычайного состояния.
Так продвигалась кавалькада часа два; тропа тянулась всё время вверх, но всадники не чувствовали высоты, хотя слева от них всё величественнее открывалась панорама гор, ясно очертилась гряда невысоких вершин, тянувшаяся к горизонту, к подножию большой горы, сверкавшей на солнце ослепительной снежной короной. Временами, когда синеватая пелена рассеивалась, взору открывались и другие горы со снежными шапками, они тоже тянулись в ряд, но, странное дело, и они не казались очень высокими.
Всадники знали: кишлак Чинар расположен почти на трёхкилометровой высоте. И может быть, оттого, что и сами они уж забрались под облака, им и горы Памира не казались высокими.
Кишлак напомнил о себе огородами. Здесь они не жались к домам, как у нас в России, а были разбросаны далеко за кишлаком – там, где среди каменных глыб и завалов открывалась ровная площадка и была возможность разделать хоть несколько грядок.
В кишлаке подъехали к сакле, возле которой стояло человек шесть таджиков. Двое приняли под уздцы лошадей, помогли гостям сойти на землю. Перед ними стоял Мироли – с белой как снег бородой, в полосатом шёлковом халате. Сложив руки на груди, он кланялся и что-то говорил по-своему. Потом вперёд вышел молодой высокий таджик в элегантной, шитой шёлком и золотом шапочке, в дорогом, ярком халате.
– Боймирзо, – говорил он по-русски, кланяясь гостям. – Меня зовут Боймирзо.
И широким царственным жестом пригласил в своё жилище.
Это была сакля, разделенная на два отделения. И сзади теплая пристройка для животных.
Гостей привели в правое отделение. Здесь на серой войлочной кошме был расстелен ковер и на нём в изобилии расставлены восточные яства. Скоро за столом тесным кружком расположились таджики. Здесь не было женщин, не было старых и молодых.
– Пожалуйста, принесите мою сумку, – попросил певец. – Там есть бутылка шампанского!..
Сумку внесли. Таджик, кланяясь и извиняясь, разводил руками:
– Бутылка упала и разбилась. Виноват, виноват...
– Ах, жалость! – воскликнул певец. Он хотя и не однажды бывал в восточных краях, но не знал, что здесь исповедуют ислам, запрещающий правоверным потреблять спиртное, равно как и табак.
Да, так оно и было: никто ничего не пил, и не было тут курящих.
– Вас зовут Боймирзо? – обратился художник к хозяину сакли. – В Нуреке...
– Да, там председателя тоже зовут Боймирзо. Он наш, кишлачный, и мы с ним одногодки и товарищи.
Нетрудно было догадаться, что Боймирзо Шукуров, снаряжая экспедицию, послал вперёд гонца и русских заблаговременно ждали в кишлаке.
Молдаванову явно по душе была торжественная встреча, радостно возбуждала необычность обстановки, – он был в ударе, много говорил, смеялся и охотно ел.
В разгаре трапезы в саклю один за другим стали заходить старики. Они кланялись гостям, скрестив на груди руки, и садились на места, пустые, словно бы заранее им заготовленные. Старики входили и выходили, их было много, певец и художник, кланяясь им, не могли не подивиться тому обстоятельству, как много тут было людей, доживших до глубокой старости.
Да, в высокогорном кишлаке Таджикистана наши путешественники увидели много стариков. И это приятно их изумило. Изумило потому, что в наших цивилизованных краях, особенно в областях русских, картина наблюдается иная... Поездки по России, встречи и беседы со многими земляками невольно заставили нас обратить внимание на то, что в нашей современной русской деревне редко встречаются старики, хотя пожилых людей много.
Недавно привелось нам побывать в Сибири, обошли и объездили много районов – от Иркутска до берегов Ледовитого океана. И тоже заметили – меньше стало в сибирских деревнях наших солидных, степенных и мудрых стариков. И это побудило нас глубже заинтересоваться проблемой долголетия...
С большим удовлетворением можно отметить, что средняя продолжительность жизни у нас в стране возросла почти вдвое по сравнению с тем, что было до революции, и в настоящее время она стоит на уровне или приближается к показателям передовых капиталистических стран, в том числе и тех, которые не были задеты разрушительным влиянием прошедших войн.
Ученые указывают, что в прошлом средняя продолжительность жизни была значительно меньше, чем сейчас. Изучение останков человеческих скелетов, относящихся к периодам каменного века, говорит нам, что средняя продолжительность жизни у людей того времени была очень низкой и индивидуумы старше пятидесяти лет не составляли и одного процента. Изучение надписей на древнерусских надгробиях показало, что средняя продолжительность жизни в то время была 20—30 лет. К такому же выводу приходят авторы, изучившие продолжительность жизни жителей древней Эллады. В Италии в I—II веках она составляла 31 год. По мнению большинства современных авторов, в средние века средняя продолжительность жизни в европейских странах составляла 28—30 лет. Городские жители Германии в XVII веке жили в среднем 33 года.
Быстрый рост средней продолжительности жизни наблюдается во многих европейских и североамериканских странах с XVIII столетия. В Швеции статистика была хорошо поставлена начиная с 1755 года, когда средняя продолжительность жизни достигла 34 лет. В период 1816—1840 годов она составляла 41 год; 1911—1920-х – 57; 1945—1950-х – 68 лет. В США в 1800 году – 42 года, в 1900 году – 49 лет, в 1950 году – 68.
Подобное увеличение продолжительности жизни наблюдалось в Англии, Франции, Германии и некоторых других государствах. Однако существуют страны, в которых продолжительность жизни остается и в настоящее время очень низкой. Так, в Индии люди живут в среднем лишь 30 лет. Замечен примечательный факт: как в прошлые века, так и в наше время продолжительность жизни женщин значительно больше, чем мужчин.
В России за годы Советской власти благодаря коренным социальным, экономическим и культурным преобразованиям наблюдается ускоренный рост долголетия. Так, если в 1896—1897 годах в европейской России средняя продолжительность жизни составляла 32 года, то уже в 1926—1927 годах она поднялась до 44 лет (для мужчин до 42 лет, для женщин – до 47 лет), а в 1955—1956 годах – до 67 лет (для мужчин – 63 года, для женщин – 69 лет), в 1970—1976 годах для мужчин – 65 лет, для женщин – 74 года. Таким образом, наша страна за 60 лет проделала путь, на который другим культурным странам, живущим в капиталистических условиях, потребовалось 150– 200 лет. Этот факт доказывает огромное значение социальных преобразований.
Несмотря на столь большие достижения, у нас всё-таки были основания и для раздумий на эту тему. Дело в том, что развитие этой тенденции со временем заметно замедляется. Так, если с 1925—1926 по 1955—1956 годы – за тридцать лет – средняя продолжительность жизни возросла на 20—22 года, то за последующие 15—20 лет всего на 2,5 года. Кроме того, эти данные свидетельствуют о том, что люди стали меньше умирать в детском, юношеском и зрелом возрасте.
А вот стали ли люди жить дольше, то есть стали ли они доживать до глубокой старости чаще, чем раньше, этот вопрос остается открытым. Как показывают наши наблюдения, а также специальные научные исследования, даже в возрасте 70—80 и более лет пожилые умирают не от старости, а от болезней, оставаясь в физическом и интеллектуальном отношении вполне работоспособными. У них до конца дней сохранена не только здравость мысли, не только вся полнота эмоциональных восприятий, но и способность выполнять как физическую, так и умственную работу. То есть большинство людей умирает преждевременно, не дожив до «положенного срока».
Есть интересное замечание на этот счёт у Гёте: «Эта жизнь, милостивые государи, слишком коротка для нашей души, – доказательство тому, что каждый человек, самый малый, равно как и величайший, самый бесталанный и наиболее достойный, скорее устает от чего угодно, чем от жизни, и что никто не достигает цели, к которой он так пламенно стремится; ибо если кому-нибудь и посчастливилось на жизненном пути, то в конце концов он всё же – часто перед лицом так долго чаянной цели – попадает в яму, бог весть кем вырытую, и считается за ничто».
Если разум человеческий и все технические возможности человека тратить не на разрушение, а на созидание, на изучение биологических законов жизни человека, пределы жизни могут быть расширены, по-видимому, до границ, которые нам трудно предвидеть. Средняя же продолжительность жизни человека может быть уже в ближайшие десятилетия увеличена, по крайней мере, до 100– 120 лет.
Даже непосвященному человеку видно, что люди умирают или преждевременно дряхлеют из-за того, что они живут в неблагоприятных условиях. Отсюда и возник афоризм, что первое и главное средство для продления жизни – это не сокращать её, а позволить человеку прожить положенный ему природой срок. Возникает вопрос, дольше ли живёт человек сейчас по сравнению с тем, что он жил, скажем, сто или пятьдесят лет назад?
Вопрос далеко не праздный, и в литературе категорический ответ на него найти непросто. Средняя продолжительность жизни ещё не означает общую продолжительность. Если раньше она у нас составляла 32 года, то это не означало, что все люди умирали рано и не было долгожителей. И если в наше время эта цифра увеличилась почти вдвое, то это вовсе не означает, что все люди стали жить в два раза дольше.
Были причины, из-за которых много людей умирало рано, и тем самым они снижали среднюю продолжительность жизни.
Главная из них – высокая детская смертность. Так, в 1913 году у нас на одну тысячу новорождённых до года умирало 273 ребёнка, в 1960-м – 33, а в 1972 году – 25. Таким образом, детская смертность за 60 лет снизилась в 12 раз.
Детей уносили желудочно-кишечные расстройства, так называемая диаррея. Вызывалась она отсутствием элементарных санитарно-гигиенических условий. Тот, кто знаком с жизнью русской деревни до революции, знает, в каком положении находились дети, особенно в летнюю страду, когда малыши оставлялись без присмотра или «под присмотром» других детей, старше всего на три-четыре года.
Много жизней уносили заболевания брюшной полости, такие, как аппендицит, с которым мы сейчас научились справляться. Операция при аппендиците, например, в 1910 году давала чуть ли не двадцать процентов смертельных исходов. Сейчас же смертность от операций составляет доли процента; результаты улучшились в сто раз. Такое же положение мы имеем и при других острых заболеваниях. Возьмем, к примеру, ущемленную грыжу. До революции операции по ушиванию грыжи давали тяжёлые осложнения, отчего больные не шли к хирургу, пока не возникали осложнения в виде ущемлений. А это случалось нередко, особенно у людей тяжелого физического труда.
Наш приятель Александр Георгиевич рассказал о трагедии, случившейся с его отцом. В 1918 году он оставил голодный Петроград. Непосильно было жить рабочему человеку с пятью малыми детьми. И уехал он опять в родную деревню, из которой ушёл в начале века в поисках заработка. Вскоре от тифа умерла жена, а дом родителей пришёл в полную негодность. Надо было строить новый дом. Нанять кого-либо не было средств. Вот и делал он всё сам с помощью двенадцатилетнего сына Саши – самого старшего в доме.
Приподнимая тяжелое бревно, сорокалетний Георгий Иванович, в общем-то здоровый мужчина, почувствовал страшную боль. «Опять грыжа!» – подумал он. Бросил работу, стал пробовать вправлять грыжу сам, потом пригласил бабку. Два дня старался как-то обойтись без больницы, уж больно не вовремя разболелась грыжа, детям нужна была крыша над головой. Но с каждым часом становилось всё хуже. На третий день пришлось поехать в Тверь. Неближний путь, но другого выхода нет. Там известный хирург Василий Васильевич, осмотрев больного, сказал родным: «Очень запущенная болезнь. Хоть оперируй, хоть не оперируй – всё равно умрет». Сделали операцию, но она уже не принесла спасения. Так погиб рабочий человек в расцвете сил от грыжи, которая сейчас считается не очень серьёзным заболеванием, а тогда уносила в могилу немало здоровых и молодых людей.
Ещё чаще заканчивалась смертельным исходом прободная язва желудка. Не только недостаток близкой хирургической помощи, но и низкая культура людей, отсутствие санитарно-просветительных знаний создавали условия, при которых рассчитывать на излечение было трудно.
Помнится больной Жиганов из деревни Подкаменки, что под Киренском. Когда у Жиганова случилось прободение – он почувствовал острую, кинжальную боль (как ножом в живот пырнули), – к нему позвали знахарку. А было это в 1934 году. (Можно представить себе, что же было за 20—30 лет до этого или ещё раньше.) Та мяла ему живот, ставила горшок на живот, опускала больного вниз головой, заставила ходить по комнате. Словом, сделала всё, чтобы воспаление брюшины, которое при прободной язве неизбежно, распространить по всему животу. А при перитоните неизбежна смерть. И только чудом, благодаря тому, что он находился в двух километрах от больницы, Жиганов был спасен, хотя оперировали его уже в критическое время, через 18 часов после прободения. Через 24 часа – смертность стопроцентная. Но кто в то время мог рассчитывать, что он меньше чем через сутки попадет к хирургу?
А заворот кишечника?.. Он также случался нередко, особенно в простой крестьянской семье. В начале века любая из этих болезней наваливалась на человека подчас в молодом возрасте как неизбежная катастрофа. До сих пор стоит перед глазами молодой здоровый парень лет 18—20 из сибирской деревни Хабарово. Он основательно поужинал, съев добрую порцию похлебки из жирной свинины, а выйдя из-за стола, выпил ковш ледяной воды. У него сразу же резко заболел живот, и в несколько дней его не стало. Оказалось, непроходимость кишечника. К хирургу его привели слишком поздно, и операция не помогла.
Много жертв в то время уносил туберкулез. Известно, что А. Чехов умер от туберкулеза легких, не смотря на то, что он имел возможность жить и лечиться в Крыму. Тяжёлым, часто смертельным заболеванием оказывалась пневмония, для лечения которой не было ни антибиотиков, ни сульфамидных препаратов.
Смертность у молодых людей от всех болезней была высокой, поэтому средняя продолжительность жизни в течение столетий оставалась низкой.
После Октября с ростом материального и культурного благосостояния, улучшением медицинского обслуживания продолжительность жизни значительно возросла.
Глава восьмая
Утром следующего дня певец взял с собой большое махровое полотенце, облюбовал за кишлаком рыжую от сгоревшей за лето травы полянку, разложил полотенце. Растянулся на нем, вздохнул блаженно, всей грудью и объявил художнику:
– Меня нет... не существует. Вот так буду лежать до холодов.
– Может, спустимся в Нурек, – предложил художник, – тут недалеко, всего шесть километров.
– Не надо Нурек, и ничего не надо, никакой цивилизации. Хочу лежать, и всё!
– Ну ладно, в Нурек я пойду один. Я узнал, там Мирсаид работает экскаваторщиком, живёт в общежитии.
– Вот и прекрасно, передай ему привет, а меня не тревожь, я отдыхаю.
Художник махнул рукой и в тот же день после завтрака один отправился в город по той самой тропе, по которой ещё вчера вечером поднимались сюда. Виктор хоть и бодрился, но настроение у него было неважным. Сердце продолжало болеть. В самолете во время снижения высоты левую сторону груди вдруг всю сдавило, как было в первые, худшие, дни болезни. Он испугался, украдкой кинул под язык таблетку нитроглицерина. Здесь, в горах, боль отпустила, но и теперь всю левую сторону груди и сзади под лопаткой продолжало «морозить».
Широко шагая по горной тропинке, Виктор глубоко вдыхал горный воздух, светло и весело оглядывал вершины гор – надеялся, горы и воздух помогут ему одолеть болезнь. «Ну а если... тогда полечу к профессору и признаюсь во всём».
Мысль о том, что он в отличие от Молдаванова скрыл от профессора свою историю, тяготила его. «При первой же встрече надо во всём признаться профессору. Он тогда и лечение назначит другое, и вообще всё у меня будет иначе». Мысль эта приободряла Виктора, он переходил почти на бег, и боли в сердце будто бы ощущались меньше, и дышалось ему легче.
Мирсаида он разыскал в обеденный перерыв. Они обнялись по-братски.
– Как твое здоровье? Не болит ли живот? – спрашивал художник парня. Тот краснел и стыдливо озирался вокруг, видно, не хотел, чтобы их слышали. Художник не стал его донимать и поспешил перевести разговор на другую тему.
В тот день Виктор побывал на экскаваторном участке у Мирсаида, а вечером пришёл к нему в общежитие. Художник помнил наказ профессора узнать о причинах болезни Мирсаида, но понимал, что парень сразу ничего не расскажет, и потому решил не торопиться. Минут через десять к ним в комнату заглянула девушка лет двадцати двух: большие серые глаза, правильные черты, властное выражение.
Кивнув гостю, обратилась к Мирсаиду:
– Я уезжаю. Провожать меня не надо.
И вышла.
Мирсаид рванулся было за ней, но у двери задержался, постоял с минуту в раздумье. Потом решительно повернулся к гостю:
– Вот вам книга, вы читайте, а я отлучусь часа на два. Извините.
Он был бледен, голос его дрожал. Минутный эпизод, свидетелем которого художник невольно оказался, видимо, был продолжением давней истории, которая, как ему думалось, была не последней причиной случившейся с парнем катастрофы.
Художник решил, что сегодня Мирсаиду не до него.
Вышел из общежития и направился в горы – ему хотелось засветло добраться до кишлака Чинар.
Шестикилометровый путь по горной тропе он проделал за три часа; признаться, порядочно устал, сердце колотилось, в ногах стоял зуд, словно через них пропускали электричество. Однако встретившему его хозяину сказал:
– А ничего. Можно позволять себе и прогулки в город. Нечасто, конечно.
На что тот заметил:
– Для наших это обычное дело. Иные ходят в Нурек каждый день и возвращаются оттуда с покупками.
Боймирзо предложил ужин и сам разделил с гостем трапезу.
– А ваш друг всё ещё не вернулся с гор.
В раскрытое окно было видно, как старые люди – мужчины и женщины – один за другим по узенькой тропинке спускались с горы, высившейся в двухстах метрах от кишлака. За спиной они несли вязанки сухих прутьев и кореньев.
– На зиму заготовляют? – кивнул на них художник.
– Зима у нас хоть и короткая, но тоже... выпадает снег.
– У вас много стариков, есть долгожители... Это хорошо, но скажите: какова причина? Воздух, что ли, в горах целебен?
Хозяин улыбнулся, в глазах засветились гордость и довольство.
– Стариков у нас любят... Может, потому.
Почувствовав скрытый упрек, художник заметил:
– У нас тоже стариков окружают почетом, но как-то меньше их в России. Долгожители и вовсе редки.
– Я немного жил в России, наблюдал, – заговорил Боймирзо серьёзно, – старики и у вас в почете; извините, я не хотел вас обидеть, но у вас нет культа стариков, а у нас он есть. Старость для нас уже сама по себе свята, и это в обычаях предков, таков закон гор. Для нас обидеть старика – обидеть божество. Они у нас обеспечены, спокойны – за ними приглядывают, их берегут. Всё это я видел и у вас, но у нас, повторяю, культ, высший закон гор. Так, может, потому... они живут долго. И ещё вам скажу: не знаю, как у других народов, но у нас среди стариков нет тучных; они все у нас трудятся с утра до вечера. Тут и скрывается причина.
Художник задумался: то, что говорил Боймирзо, было для него ново и интересно.
Наблюдения за образом жизни долгожителей позволяют выявить наиболее характерные свойства людей, живущих долго. Они все без исключения обладают выраженной активностью: подвижны, легко и быстро ходят, что называется, «легки на подъем». Движение – основа жизнедеятельности. Это не только работа мышц – это активность всего организма. Гиподинамия сокращает продолжительность жизни даже в эксперименте. Крысы, находившиеся в неподвижности, живут на шесть-восемь месяцев меньше контрольных. Мышечная деятельность совершенствует десятки приспособительных систем. Однако нежелательны перегрузки, особенно в пожилом возрасте. Чем человек старше, тем уже у него граница между нормой и срывом. «Оптимум» у него иной. Если ходьба, например, даже по нескольку километров полезна при здоровом сердце и в старшем возрасте, то к бегу люди преклонных лет должны относиться с осторожностью. И если движение – основа жизни, то бег – испытание жизни.
Трудовая деятельность – это естественное состояние; она должна сохраняться до конца дней. Труд, любимый, разумный и в меру, не может изнашивать организм.
Долгожители умеренны в еде. Полных среди них, как правило, не бывает. Мы об этом уже говорили, но нелишне привести дополнительные аргументы. Ещё в 1932 году были опубликованы данные одной страховой компании о смертности в различных возрастных группах мужчин, застрахованных в период с 1909 по 1928 год (США). Оказалось, что в группе лиц в возрасте от 50 до 59 лет, вес которых на 15—24 процента превышал норму, показатель смертности был на 17 процентов выше, чем соответствующий показатель для всего населения. Если превышение веса выражалось в 25—34 процентах, то показатель смертности был на 41 процент выше! В возрастных группах от 20 до 59 лет показатель смертности был тем выше, чем выше был вес застрахованных.
От сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 40 процентов, от рака всех локализаций – около 20 процентов. Многое падает на травму. Ее доля с каждым годом растёт всё быстрее; за ней следуют пневмония, диабет, грипп и другие заболевания.
И не случайно поэтому в нашем государстве в последнее время открыты десятки кардиологических институтов, кафедр и лабораторий. Трудами учёных установлено, что сердечно-сосудистые заболевания не являются неизбежным результатом возраста, последний – только благоприятный фон для них. Причинами же таких заболеваний, как гипертония и инфаркт миокарда, являются главным образом психоэмоциональные стрессы и перенапряжение нервной системы.
В наш век бурного развития промышленности, техники и культуры, ускорения темпов жизни увеличиваются и нагрузки на нервную систему. И тут возникает вопрос: если прогресс вредит здоровью, зачем тогда он человеку? Не лучше ли нам вернуться к первобытному состоянию?..
К счастью, есть у нас пути сохранения здоровья и даже борьбы за долголетие и в условиях прогресса.
В начале тридцатых годов один из авторов этой книги работал главным врачом больницы в отдаленном сибирском городке и усердно вёл дневник. И теперь, перелистывая пожелтевшие страницы ученических тетрадей, подчас встречаешь любопытные наблюдения, над которыми раньше мало задумывался, а они между тем проливают свет на многие загадки поведения нашего организма.
Ничего не станем менять в дневнике – надеемся, читатель простит некоторую хаотичность изложения и неровности стиля.
«21.04.1934 г. Приходил старший из трёх товарищей – Харлампич. Бледный, лысый, с лицом, похожим на запеченную дынную корку. «Доктор, сердце болит, сна лишился». – «Что это вы, Харлампич! Я вас недавно видел здоровым и веселым, и румянец на щеках гулял, а ныне – что куда подевалось. Уж не зеленый ли змий подточил здоровье?» – «Да нет, Григорьевич, мне ли теперь до водки; щемит под ложечкой, будто ржавый гвоздь вогнали».
Ослушал, осмотрел – патологии будто нет; предложил лечь в больницу. Харлампич отказался. Сделал назначения, отпустил.
1 мая 1934 г. Пришёл с демонстрации. Видел Слепцова, про которого говорят: он на каждого городского жителя личное дело завел. Краевед он, замечательных земляков выискивает, сведения о них собирает, а язык обывателя зол – того и гляди, в кляузники произведет.
Говорю Слепцову: «Вот ведь вы на два года только моложе дружка своего закадычного Харлампича, а ничего, богатырем смотритесь, и взгляд твердый, голос звонок. И ко мне в больницу дороги не знаете. А Харлампич!..» – «Бес его попутал!.. – махнул рукой Слепцов. – Черти душу замутили – вот и мается, сердешный». – «Да что случилось-то?» – «А то и случилось – другу верному, мне, то бишь, поперек дороги стал. Пока собирал я разные документы да устные свидетельства о достойных земляках – ничего, собирай, пожалуйста; он даже подбадривал меня, письма разные приносил. Он, верно, так думал: чем бы дитя ни тешилось – лишь бы не плакало. А как эти самые документы да письма в газетах стали печатать, и про меня хорошие слова сказали, и портрет на четвёртой странице поместили – взъярился Харлампич!.. Заходит с утра и волком смотрит на папки, где у меня документы о земляках лежат. «Глупость, – говорит, – всё это, детская забава».
Вот так и зудит в ухо, и зудит. И уж не смеется мужик, интересных историй не рассказывает. И письма не носит – зависть ему глаза застлала».
23.12.1934 г. Встретил Слепцова, и тот мне сказал, что Харлампич написал в областную газету анонимку, где есть такие слова: «Слепцов тронут умом, дети бегают за ним и кричат: «дяденька-дурачок, дяденька-дурачок», а вы в своей газете этого не знаете».
И вот Харлампич у меня в палате сердечников. Лет ему 54, а выглядит стариком. И боли в сердце не отступают. Сон разладился, руки трясутся. Спросил о Слепцове. «Как, – говорю, – поживает ваш товарищ?» – «Черту он товарищ, а не мне! – буркнул Харлампич. И в маленьких сощуренных глазах блеснул огонек злобы. – Из ума он выжил, в дурдом бы его, а не в газетах печатать!..» Харлампич весь затрясся, словно через него пропустили электрический ток. Я быстренько повернул разговор на другую тему. Про себя подумал: «А и впрямь, наверное, есть прямая зависимость между его поступками по отношению к другу и стремительно развивающейся болезнью сердца... Неужели это тот самый случай, который может служить толчком к развитию стенокардии?..»
Да, это так. Ничто так не тяготит человека и пагубно не отзывается на его здоровье, как разлад с совестью, его собственные неблаговидные поступки, черная зависть.
Интересное наблюдение: в прежнее время болезни косили людей в детском, юношеском и молодом возрасте, ныне заболевания чаще всего губят людей среднего возраста. Поэтому-то средняя продолжительность жизни, приблизившись к 70 годам, почти перестала расти. А главное – всех сознательных людей угнетает то, что около 90 процентов людей умирает до 60 лет.
Ещё недавно во всех развитых государствах был актуальным лозунг: взять под особую защиту детей! Теперь, не снимая этого лозунга, надо бы провозгласить и другой: взять под особую защиту пожилых людей. Они нередко впадают в психическую депрессию, приводящую их к ранней старости, дряхлости и преждевременной смерти.