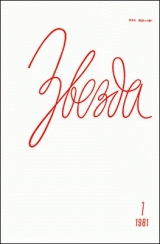
Текст книги "Рассказ об одном путешествии"
Автор книги: Федор Крандиевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Берлин, зима—весна 1922
В Шарлоттенбурге – фешенебельном районе Берлина с богатыми особняками и дорогими магазинами, на углу Курфюрстендамм и Уландштрассе, находился пансион фрау Фишер. Он занимал две спаренные квартиры на втором этаже дома. В коленообразный тихий коридор выходили двери комнат. Три раза в день в большой столовой горничные расставляли на белоснежной скатерти тарелки, ножи и вилки и свернутые в трубочки салфетки в деревянных кольцах с номером. Три раза в день горничная ударяла в гонг, который висел в передней, созывая жильцов к табльдоту на завтрак, обед или ужин. К пансиону фрау Фишер принадлежала также квартира на четвертом (последнем) этаже. Там по приезде из Мюнстера поместилась вся наша семья. Мы занимали одну большую проходную комнату с окнами на Курфюрстендамм – в ней жили Юлия Ивановна, я и Никита – и вторую угловую комнату с балконом на Курфюрстендамм и с окном на Уландштрассе, в которой жили мама и отчим.
Три раза в день мы спускались в столовую. Для нас был поставлен в нише отдельный столик на пять персон: отчим, мама, Юлия Ивановна, я и Никита, которому уже исполнилось пять лет. После удара гонга столовая наполнялась публикой. Отодвигая стул и садясь на свое место, каждый произносил неизменно «Мальцейт» и вынимал свою салфетку из деревянного кольца. Публика была самая респектабельная. Здесь селились люди, привязанные к Берлину на более длительные сроки, чем те, при которых имело бы смысл жить в гостинице, и в то же время на сроки недостаточно продолжительные для того, чтобы имело смысл обзаводиться своей квартирой. Среди них были какой-то высокий датчанин с женой, молодая хорошенькая фрейлен Гертруда с темным пушком на верхней губке, русский эмигрант художник Чумаков со своей женой, или, вернее, возлюбленной, полногрудой немкой, певицей.
В ту зиму весь Берлин был охвачен, как эпидемией, страстью к коллекционированию почтовых марок. Этим занимались и дети, и мужчины, и женщины всех возрастов. Пооткрывалось множество филателистических магазинов, в которых продавались, покупались и обменивались марки. Продавались роскошные альбомы для марок на металлических винтах, позволявших вставлять в альбом дополнительные страницы. Рассказывались всякие истории про филателистов. Существовало два экземпляра какой-то уникальной марки, принадлежавшие двум знаменитым филателистам. Один из них за бешеные деньги купил у другого его экземпляр. И таким образом оказался обладателем двух единственных экземпляров. Это происходило в торжественной обстановке в филателистическом обществе. И вот покупатель открыл зажигалку и поднес к ней купленную марку. И сжег ее, к ужасу всех присутствующих. Но расчет был правильным: его экземпляр марки, оказавшийся теперь единственным, возрос в цене в несколько раз.
В пансионе фрау Фишер обезумевшим филателистом была фрейлен Гертруда. Свои сбережения эта молоденькая и хорошенькая женщина тратила на что? На покупку хороших французских духов? Нет. На приобретение пары модных туфель? Нет. Все свои деньги она тратила на покупку марок. Ее не интересовали ни наряды, ни танцы, ни кавалеры. Ее интересовали только марки. Она говорила только о марках. Я, конечно, тоже начал собирать марки. Но мне было не угнаться за опытными и богатыми коллекционерами.
Однажды в коридоре пансиона мы встретили фрейлен Гертруду. Она была возбуждена, лицо залито краской, верхняя губка дрожала. Как я потом узнал, у нее был поклонник, молодой элегантный немец. Он обещал достать для нее две очень ценные марки в обмен... на ее любовь. Гертруда была возмущена, взволнованная, она выбежала в коридор. Тем не менее было видно, что два противоположных чувства борются в ее душе. На чем они порешили, мне осталось неизвестным.
Художник Чумаков, обедавший за большим общим столом, часто подсаживался к нашему столику. К концу зимы он стал очень озабоченным. Опаздывал к табльдоту. Едва прикоснувшись к десерту, вставал, задвигал свой стул и уходил. Он готовился к концерту своей жены. Жаловался на трудности, связанные с организацией этого мероприятия. Наконец наступил день концерта. Был снят зал на четвертом этаже какого-то учреждения. На эстраде на белой стене был намалеван громадный черно-желтый подсолнух. Он олицетворял, по-видимому, Россию. Певица, заламывая пухлые руки, пела только русские песни. Она не знала русского языка и пела с удручающим немецким акцентом. Во время антракта вся публика хлынула в соседний зал, где продавались бутерброды и лимонад. Курили, раскланивались налево и направо. Публика состояла почти исключительно из знакомых. Вскоре после этого вечера Чумаковы куда-то уехали.
Осенью меня предполагали отдать в немецкую школу. А пока что мне наняли репетитора, немецкого студента-медика, который жил на Уландштрассе, недалеко от нашего дома. Он преподавал мне математику и немецкую грамматику. Я сидел за столом и прилежно записывал под его диктовку формулировки определений и теорем. Эти уроки мне памятны тем, что на них я впервые соприкоснулся с красотой математики и был пленен ею навсегда.
Однажды я задержался после урока у своего студента, перелистывая с завистью его большой альбом с марками. Раздался звонок, пришел кто-то из его товарищей. Потом приходили все новые и новые молодые люди и девушки. Он представил мне их как молодых немцев, которые борются за возрождение великой Германии. У всех них были маленькие значки с изображением свастики. Мой преподаватель предложил мне остаться на их собрание. Но я счел более уместным уйти домой. В другой раз в метро в страшной толкучке я оказался прижатым к молодому немцу, который со мною разговорился. Он приглашал меня прийти в такой-то день в таком-то часу в такое-то кафе, где собирается молодежь. У него тоже был значок со свастикой. Он сунул мне карточку, на которой были напечатаны адрес и название кафе.
Этими двумя эпизодами были исчерпаны попытки втянуть меня в нацистские молодежные группы. По-видимому, сыграл роль мой слишком юный возраст.
Иногда по утрам, проходя мимо особняков на Курфюрстендамм или на соседних улицах, можно было видеть на калитках или на воротах начерченные мелом свастики. Их тщательно смывали. На другое утро они появлялись вновь. Это были приговоренные дома. Они принадлежали, как правило, богатым «раффке». Так называли тогда коммерсантов-евреев, нажившихся на войне. Так постепенно, пока бесшумно, подкрадывался фашизм.
В то время, когда мы здесь жили, происходила Генуэзская конференция. Это был первый международный форум, на котором выступали представители Советской России. Я упивался газетами (в тот год я впервые начал читать газеты), блестящими речами Чичерина. Всякий раз с волнением, с радостью и с гордостью я раскрывал газету «Руль», распространенную тогда эмигрантскую газету, и сменовеховскую газету «Накануне», начавшую выходить в Берлине. Дела отчима несколько поправились. Одно из берлинских издательств выпустило роман «Сестры». Отчим, как всегда, много работал, стуча на машинке в соседней комнате.
Весной 22-го года в наших двух больших комнатах у фрау Фишер были гости. Были Есенин с Айседорой Дункан и Горький. Позже появился с гитарой поэт Кусиков, друг Есенина, следовавший за ним всюду во время его пребывания в Берлине. За столом мама сидела между Айседорой и Есениным. Айседора говорила на многих языках, за исключением русского. Есенин не говорил ни на одном языке, кроме русского. Мама переводила с русского на французский и обратно. После обеда и кофе Есенин читал свои стихи. Он шагал по комнате и читал громко и певуче. Айседора, ничего не понимая, смотрела на него влюбленными глазами. Потом Айседора захотела танцевать. Под аккомпанемент кусиковской гитары. Она плавно двигалась; шелковый шарф, черный с одной стороны и красный с другой, то стелился перед ее ногами, то обвивал ее шею и плечи. Волосы у Айседоры в результате многократных перекрасок были лиловыми. Мне ее танец не понравился. Может быть, потому, что мне было 14 лет?
Кончилось тем, что мы всей компанией отправились в Луна-парк. Он помещался в Халензее, в конце Курфюрстендамма. Там слышалась музыка, зажигались и гасли разноцветные лампочки, взвивались ракеты, рассыпавшиеся миллионом огней. Стоя у высоких круглых столиков, пили из пенящихся кружек пиво, ели маленькие сосисочки на картонных тарелочках. Луна-парк был знаменит своими аттракционами. Действительно, фантазия владельцев аттракционов была неудержима. На помосте стояли рядом две кровати. На них в пижамах лежали он и она. Над изголовьем помещался черный круг, окруженный концентрическими кольцами. Это был тир. При попадании в черный круг обе кровати со скрипом переворачивались, и он, и она сваливались на пол. Это вызывало дружный хохот непривередливой публики. Он и она вставали, устанавливали кровати и с серьезными равнодушными лицами ложились на свои места. Все начиналось сначала. Конечно, были кривые зеркала, американские горы (которые там назывались «русскими») и т.д. Вскоре нам все это надоело, и мы, попрощавшись, разъехались по домам.
Наша жизнь у фрау Фишер продолжалась бы, наверное, и долее, если бы не одно непредвиденное обстоятельство. Однажды утром у нашего дома появились человек десять рабочих: плотники, маляры, монтеры. Первый этаж нашего дома, где раньше был магазин, переоборудовался под большой ресторан. Он располагался непосредственно под пансионом фрау Фишер. Появилась вывеска, светящаяся по ночам: «Ресторан Монако». Все мы, жильцы фрау Фишер, с опаской ждали открытия этого ресторана. И вот в один прекрасный вечер загремел джаз-банд. К подъезду подкатывали автомобили. Ресторан зажил бурной жизнью. Это был ночной ресторан, так называемый «нахт локаль», притон самого высшего класса. Джаз гремел каждую ночь до утра, не давая жильцам фрау Фишер сомкнуть глаза. По лестнице бегали с хохотом и визгом раздетые женщины, которых ловили господа в крахмальных сорочках и смокингах. По утрам все затихало: уборщицы сметали окурки, мыли пол, сдвинув столы и нагромоздив на них стулья вверх ножками, Жильцы фрау Фишер начали постепенно разъезжаться. Фрау Фишер ездила куда-то, хлопотала, чтобы ее освободили от этого компрометирующего соседства. Тем временем ресторан «Монако» процветал, а пансион фрау Фишер прогорал. Через месяц выехали и мы, сняв квартиру в Шенеберге, районе, лежащем к югу от Шарлоттенбурга.
Весной 1922 года произошло важное событие в жизни отчима и тем самым всей нашей семьи. В апреле Н. В. Чайковский, в недавнем прошлом глава так называемого «Северного правительства», а ныне председатель «Исполнительного бюро Комитета помощи белоэмигрантским писателям и ученым», потребовал у отчима объяснений в связи с его сотрудничеством в «Накануне», назвав это «открытым переходом под флаг самозваной власти в России». Ответом было «Открытое письмо Н. В. Чайковскому», напечатанное отчимом 14 апреля 1922 года в газете «Накануне», в котором отчим объявлял о своем полном разрыве с белой эмиграцией. Это письмо вызвало шумный отклик в эмигрантских кругах. П. Н. Милюков, председатель белоэмигрантского «Союза русских писателей и журналистов», писал отчиму о несовместимости пребывания в «Союзе» с сотрудничеством в «Накануне». Вскоре на заседании, происходившем в Париже, отчим заочно был исключен из «Союза». За это исключение голосовала и Мария Самойловна Цейтлин, та самая, которая так помогала нам в предыдущие годы.
Тем временем наступило лето, и мы всей семьей уехали в курортный городок Мисдрой на берегу Балтийского моря.
В тот период начали появляться в эмигрантских газетах злобные и ругательские статьи, посвященные отчиму. Он не обращал на них никакого внимания. Это – замечательное свойство отчима: полное равнодушие и отсутствие какого-либо интереса как к ругательным, так и к хвалебным высказываниям на его счет.
Мисдрой, лето 1922
От Берлина до Мисдроя путь лежит через Штеттин. Скорый поезд домчал нас до Штеттина менее чем за два часа. Затем надо было пересесть на местный поезд, составленный из маленьких вагончиков, который тащился от станции к станции в общей сложности три часа. Мисдрой, как всякий немецкий курортный городок, оказался маленьким и аккуратным, с несколькими гостиницами, несколькими ресторанами и кафе, с газетным киоском и лавочками, в которых можно было купить открытки с видами Мисдроя и всякие сувениры. Мисдрой был знаменит своим широким золотистым пляжем, простирающимся вдоль моря на несколько километров. На пляже были разбросаны там и сям плетеные кабинки, в тени которых можно было укрыться от палящего солнца. На задней стороне каждой кабины стоял большой и жирный номер. Такую кабинку можно было арендовать на весь сезон.
Еще в Берлине, в пансионе фрау Фишер, мы познакомились с немецким литератором Шиманом. Это был писатель, критик, литературовед, философ. Он в юности учился в Петербурге и довольно сносно говорил по-русски. У него в Мисдрое был домик (собственный или арендованный, не знаю), в котором круглый год жила его старушка мать. Шиман предложил нам провести лето у него.
Дом был двухэтажный. Весь нижний этаж занимали мы, если не считать общей большой столовой. Мы жили на полном пансионе у фрау Шиман. По-русски она не говорила. Ей помогала по хозяйству молоденькая горничная из местных жителей. Из столовой деревянная узкая и крутая лестница вела во второй этаж. Там были комната фрау Шиман и кабинет самого Шимана: большой письменный стол был загроможден раскрытыми и заложенными книгами, стопками листов, исписанных крупным круглым почерком. Он писал что-то о Достоевском и о Ницше. Писал по-немецки, длинными и труднопроизносимыми фразами. Шиман работал запоем, не в немецкой, а скорее в русской манере. Когда он спускался вниз, у него были сумасшедшие глаза и отсутствующий вид. В другом конце дома, внизу, стучала пишущая машинка: отчим писал «Аэлиту».
Шиман был поклонник «левого» искусства, которое тогда входило в моду. Однажды он показал мне одну картинку в книге. Что было изображено на этой картинке, понять было трудно. Шиман ждал, что неискушенный четырнадцатилетний русский мальчик все поймет. Но картинка показалась мне глупой, ничего не говорящей ни уму, ни сердцу. Шиман был разочарован. И больше не спрашивал моих мнений.
Недалеко от нас снимала комнату возлюбленная Шимана, молодая фрейлен Бибиана. Она занималась тем, что холщовые дамские сумочки расшивала разноцветными шерстяными нитками. Получались круги, квадраты и другие геометрические фигуры разных цветов. Это были красивые сочетания красок. Все восторгались. Комната Бибианы помещалась на первом этаже. В нее можно было попасть, просто перешагнув через окно.
Иногда в пасмурные дни, когда у моря было неуютно, мы отправлялись в далекие прогулки. Отчим, мама, я и Шиман с Бибианой. Выходили за пределы Мисдроя. Домики в ухоженных садах, заборы, надписи. Какой покой и порядок царили кругом! Налево – полотно железной дороги, время от времени – стук колес, сиплый гудок паровоза. Справа, за крышами и садами, – стальная полоска моря.
В Мисдрое собралось несколько русских семей. Актер Андрей Лаврентьев, так называемый «Лавруша», которого несколько лет спустя можно было видеть на сцене Большого драматического театра в Ленинграде, на Фонтанке. Его жена, молодая, элегантная, острая на язык Марианна Зорнекау, происходила из каких-то придворных кругов Царского Села. Потом появился и прогостил у нас несколько недель писатель Иван Сергеевич Соколов-Микитов, которого война застала в Англии и который сейчас пробирался в Россию, – молчаливый и скромный, влюбленный в русскую природу, узнающий птиц по их голосам. В середине лета в Мисдрой приехал писатель Борис Алексеевич Зайцев с женой и дочерью Наташей, десяти лет, веселой девочкой с двумя косичками, торчащими по бокам.
Часто по вечерам на застекленной террасе отчим читал только что написанные страницы «Аэлиты». Я слушал, завороженный. Потом выходил в сад и смотрел на черное небо, усыпанное звездами. Среди них можно было легко найти Марс – большую желто-красную немерцающую звезду, стоящую невысоко над горизонтом. Она таила в себе загадочную красоту. Я вспоминал рисунки Лавелла и Скиапарелли; снежные полярные шапки, тающие каждый марсианский год и вновь появляющиеся, линии загадочных каналов. В 1924 году предстояло «великое противостояние» Марса, когда его удаление от Земли делается минимальным. К этому событию готовились астрономы во всем мире, и внимание широкой публики было приковано к этой огненной звезде.
Зайцевы (родители) когда-то были в Италии и вернулись, упоенные ею. Они говорили, что Италия – самая красивая страна в мире и теперь они хотят жить в Италии, и только в Италии. Наташа, вслед за родителями, восхищалась Италией, в которой она никогда не была. А я, вслед за Наташей, тоже стал мечтать об Италии. Судьба, однако, распорядилась иначе. Вместо Италии Зайцевых занесло в Германию, а оттуда – во Францию.
А пока Италия оставалась недоступной, Борис Алексеевич решил попутешествовать по Германии. Недалеко от Мисдроя, но вдали от моря находился маленький городок Каммин. Он был известен своим собором, а собор – своими витражами, фантастической, как говорили, красоты. Решили съездить в Каммин: Борис Алексеевич, Наташа и я. Хотя Каммин и был близко, но добраться до него было сложно: на местных поездах с несколькими пересадками, с томительно долгими ожиданиями на станциях нужного поезда. Каммин оказался действительно ничем не примечательным, кроме своего собора. Готический собор стоял в центре города на прямоугольной мощеной площади. Внутри, на каменном полу и на скамейках, которые стояли рядами, лежали разноцветные пятна. Действительно, многоцветные витражи, яркие и сочные, были красивы. Однако совершать ради них столь сложное путешествие, по моему мнению, не стоило. Это мне стало ясным особенно тогда, когда мы, не рассчитав время, опоздали на последний поезд. Борис Алексеевич был озадачен. Ничего не поделаешь, пришлось оставаться ночевать в Каммине. Мы сняли комнату в маленькой, почти пустой гостинице. Не выспавшись, рано утром на другой день мы отправились в обратный путь.
Другим путешествием, в котором я сам, к сожалению, не участвовал, была поездка отчима и мамы в Свинемюнде, где проводили лето Горький и Шаляпин. Свинемюнде – порт и в то же время курорт, на выходе из залива, где расположен Штеттин, в открытое море. Меня родители с собой не взяли. Они сели в белый сверкающий катер, а я, стоя на мостках, махал им рукой. Они вернулись через два дня, полные впечатлений.
В Мисдрое мы прожили до сентября. Купались, бросаясь в брызги набегающей волны, лежали на горячем песке, прикрыв лицо газетой. Иногда на горизонте появлялся силуэт парохода. Он медленно полз справа налево или слева направо. Мы хватали бинокли. Пароходы шли в Данциг, Мемель, Кенигсберг. А может быть, и дальше, в Россию, которая была для нас тогда недосягаемо далекой. Не думали мы тогда, что через год будем плыть на таком же пароходе и рассматривать в бинокль солнечный берег Мисдроя.
Берлин, зима 1922—1923
Из Мисдроя мы вернулись в нашу берлинскую квартиру на Бельцигерштрассе, дом 48, снятую еще до отъезда в Мисдрой. Это была большая пятикомнатная квартира, в которой жила фрау Шефер, вдова погибшего на войне немецкого офицера, с двумя уже взрослыми дочерьми Эльзой и Луизой. Хотя обе дочери где-то служили, фрау Шефер находилась в затруднительном материальном положении и сдавала внаем четыре комнаты из пяти. В двух солнечных комнатах налево из передней помещались: в одной – Юлия Ивановна с Никитой, а в другой – отчим и мама. В одной из двух комнат направо из передней, выходивших на северную сторону, жил я, а другая служила столовой. Фрау Шефер с дочерьми занимала большую комнату в конце квартиры.
В комнате, где жила Юлия Ивановна с Никитой, вскоре появился еще один жилец: в январе 1923 года родился мой младший брат Дмитрий. В теплые солнечные весенние дни его коляску выдвигали на маленький балкон, увитый плющом. Митя дрыгал ручками и ножками и пускал пузыри. Мой другой брат, Никита, которому в феврале 1923 года исполнилось шесть лет, в матросской курточке с большим воротником, носился в это время на своем самокате (который во Франции называется «trattinette», а в Германии – «Roller») по тротуарам Бельцигерштрассе.
Напротив нашего дома находился трамвайный парк. Поздно вечером около его ворот толпились, как казалось, трамвайные вагоны, которые, расталкивая друг друга, въезжали в депо. Окна моей комнаты и столовой выходили на большой школьный двор. Впереди возвышалось кирпичное стандартное здание школы, в которую меня собирались отдать. Во дворе имелись брусья, кольца, трамплины и другие спортивные снаряды, которыми пользовались на уроках гимнастики. Можно было видеть из наших окон шеренгу мальчиков, выстроенную вдоль забора. Когда учитель отворачивался, несколько мальчишек подпрыгивали и показывали ему длинный нос. Учитель оборачивался и металлической линейкой больно бил по рукам всех мальчиков без разбора. Увидев такие сцены, мама категорически отказалась отдавать меня в немецкую школу, поскольку в ней практиковались физические методы воздействия на учеников.
Меня отдали в русскую эмигрантскую школу, которая существовала в Берлине уже несколько лет. Она помещалась далеко от нашего дома: приходилось ехать на метро, с пересадкой. Через несколько дней после моего поступления кучка мальчишек, пошептавшись в углу, бросилась на меня с криками: «Бей его! Его отец продался большевикам!» Драку предотвратил вмешавшийся учитель, хотя его вид говорил: «Я, конечно, вас понимаю, но допустить драку в стенах школы я не могу». В дальнейшем этот инцидент не повторялся. Все были отвлечены другим делом: в классе появилась порнографическая открытка. На уроках закона божьего, который вел старенький батюшка в черной рясе, мальчишки показывали эту открытку, прикрывая ее ладонью, хихикающим девочкам. Эта школа была уже пятой в моей жизни. Наши скитания не способствовали, конечно, систематическому учению.
В это время я познакомился и подружился с Шурой Элькиным, который учился не в моей эмигрантской, а в немецкой школе. Это был серьезный и воспитанный мальчик, шаркающий ножкой, когда он здоровался со взрослыми. Он хорошо говорил по-немецки и вообще, мне на зависть, был очень образован. Он был противовесом разнузданным мальчишкам моей эмигрантской школы.
С фрау Шефер мы жили мирно. Она часто плакала, укрывшись в своей комнате. Выходила в кухню с покрасневшими веками. Эльза и Луиза готовились к тому, чтобы выйти замуж. Я не знаю, были ли какие-либо реальные претенденты, или это была чисто теоретическая подготовка (у фрау Шефер никого никогда не бывало). На овальном столике в ее комнате лежала толстая книга «Mann und Weib» («Мужчина и женщина») с красочными иллюстрациями на меловой бумаге. Иногда по вечерам Луиза и Эльза одевались, пудрились и куда-то уходили, оставляя после себя в передней запах духов.
В эту зиму отчим часто бывал у Горького. Иногда Алексей Максимович бывал у нас, обычно в сопровождении Марии Федоровны Андреевой и Петра Петровича Крючкова. Мария Федоровна в годы революции была женой Горького. Но здесь в Берлине она представлялась как жена Крючкова. Крючков был бессменным секретарем Горького всю жизнь. Был у нас несколько раз Игорь Северянин. Мое впечатление о нем – впечатление неряшливости. Неопрятные ногти, несвежий пикейный воротничок. Сидя за чайным столом, он читал свои «поэзы».
В свободные от школы дни я ходил по берлинским музеям. Маленькая красная книжечка Бедекера «Путеводитель по Берлину» всегда была в моем кармане. Я с ней никогда не расставался. Я посещал картинные галереи, Военно-морской музей, музей почты и телеграфа, археологический музей и т.д.
Однажды при посещении одной из картинных галерей я увидел на стене небольшую золотую пустую раму. Картина отсутствовала. Но не успел я пройти в следующий зал, как по всему музею раздался оглушительный звонок, вслед за которым железные жалюзи с грохотом опустились на окнах. Сразу стало темно. Зажегся электрический свет. Всех посетителей попросили спуститься в вестибюль музея. На ступеньках появился бледный директор, который произнес напыщенную речь. Он говорил о величии и честности немецкого народа и выразил уверенность в том, что сейчас, когда погасят и потом вновь зажгут свет, похищенная картина будет найдена под ногами собравшихся. Свет был погашен. Несколько минут мы простояли в полной темноте. Когда зажгли свет, никакой картины ни у кого под ногами не оказалось. Тогда пригласили мужчин пройти в одну комнату, а женщин – в другую, для обыска. Меня так же обыскали, как и прочих, и выпустили на волю. Чем закончилась история с похищенной картиной, я не знаю.
В Берлине жизнь становилась тревожной. Начались грабежи. Помимо мелких грабежей (бумажник, карманные часы, золотой портсигар) в темных аллеях Штадтпарка, начались грабежи иного масштаба. К особняку какого-нибудь «раффке» в Шарлоттенбурге подъезжал утром грузовик, с него спрыгивало человек десять в рабочих комбинезонах. Двое из них звонили у подъезда. Они входили в дом, всех обитателей дома сгоняли в какую-нибудь заднюю комнату, у дверей которой становились два человека с револьверами в руках. В это время восемь остальных спокойно, не торопясь выносили из дома диван, ковры, люстры, картины. Все это складывалось на грузовик. Прохожие недоумевали: куда это переезжает герр такой-то? Грузовик уезжал в неизвестном направлении. Люди в рабочих комбинезонах исчезали.
Но самым страшным, однако, были не грабежи, а катастрофическое падение стоимости германской марки. В одной из витрин большого универсального магазина «Kadewe» (магазин заказов) на Вюртенбергплатц было установлено табло, которое было соединено с биржей и на котором зажигались цифры: сколько марок стоит один доллар. Каждый час показания менялись. Перед витриной толпились люди. Отчаяние было написано на лицах. Марка падала на глазах. Богатые в течение нескольких часов превращались в нищих. Почти каждый день выпускались все новые и новые денежные купюры. Все большие по своей номинальной стоимости и все меньшие по своим размерам. Помню тот день, когда в обращении появился зеленовато-голубой почти квадратный билет, на котором было написано: «Миллион марок». Инфляция, как чума, охватила всю страну. Началась волна самоубийств.
В это время Алексей Николаевич заканчивал повесть «Рукопись, найденная под кроватью». Это было последнее его произведение (если не считать газетных статей), написанное в эмиграции.
Как я уже говорил, в апреле 1922 года Алексей Николаевич опубликовал открытое письмо одному из руководителей белоэмигрантского лагеря Н. Чайковскому. В нем отчим с резкостью заявил о своем разрыве с эмиграцией. Письмо это, полное глубокой искренности, явилось, по словам самого Алексея Николаевича, его «советским паспортом».
Вскоре отчим собрался и налегке, оставив нас в Берлине, уехал в Москву. Мы провожали его с волнением. Мы все устали от нашей бездомной жизни.
Отчим скоро вернулся. В Москве он был тепло встречен. Он выступал с лекциями: «О распаде белой эмиграции», «О русском искусстве за рубежом». Он вернулся за нами, переполненный до краев московскими впечатлениями.
Начались сборы. Сколько раз за последние пять лет мы укладывали чемоданы! Сейчас мы укладывали их в последний раз. Мы приехали в знакомый нам Штеттин среди дня. Погрузились на пароход «Шлезиен». Этот пароход не был похож ни на пароход «Кавказ» с трюмами, набитыми беженцами, ни на кривобокий «Карковадо». До отплытия оставалось более часа. Мы бродили по пыльному порту, мимо пароходов, которые нагружались или разгружались. Они собрались из дальних стран, под разными флагами, с разными судьбами. Вода около причалов была грязная, с радужными пятнами от пролитой нефти. Мы поднялись по трапу на «Шлезиен». Пароход заревел, застучал и плавно отчалил. Вместе с нами ехало еще несколько «накануневцев».
Был третий день пути. Справа навстречу нам медленно проплывал крутой зеленый берег. Белая церковка. Россия! На палубе неподвижно стояли пассажиры. Все молчали. По щекам текли слезы.








