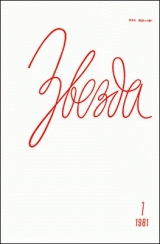
Текст книги "Рассказ об одном путешествии"
Автор книги: Федор Крандиевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Париж, зима 1920, 1921
Осенью мы вернулись в Париж, в нашу квартиру на улице Ренуар. К этому времени Париж был наводнен русскими эмигрантами. Всех их можно было разделить на несколько не смешивающихся друг с другом и иногда враждебных друг другу групп. Это была придворная титулованная аристократия, это были высокие военные чины, интеллигенция, политические деятели разных оттенков и, наконец, представители делового и торгового мира. Всех их можно было видеть по воскресеньям, или уж во всяком случае в страстную неделю, в русской церкви на улице Дарю. Они занимались разными делами. Очень многие превратились в шоферов парижских такси. Иные пооткрывали ресторанчики, в которых подавался русский «Bortch a la creme». Другие занимались изданием русских книг и журналов. Политические деятели, погрязшие в конспирациях, готовили какие-то мероприятия, которые, по их мнению, обязательно должны привести к падению большевистской власти в России.
В нашем доме, на два этажа ниже нас, поселился поэт Константин Бальмонт с женой Еленой и дочерью Миррой, которая была года на два старше меня. Иногда я заходил к Бальмонтам. Меня усаживали на стул, Бальмонт начинал ходить вперед и назад по диагонали комнаты с головой, немного наклоненной набок, со взъерошенными волосами, усыпанными перхотью. Он размахивал одной рукой и декламировал (лучше сказать – пел) свои стихи. Я не помню, о чем были эти стихи, но помню только, что в них много места занимали хризантемы. Бальмонт останавливался посредине комнаты и обращался ко мне:
– Ну как?
Я, совершенно растерянный, не знал, что сказать, не понимал, хорошо это или плохо и вообще к чему все это? Иногда в семье Бальмонтов бывали скандалы. Перепуганная Мирра со слезами на глазах прибегала к нам отсидеться, пока внизу все не стихнет.
Недалеко от нас в соседнем районе Отей жили Бунины: Иван Алексеевич и Вера Николаевна. Мы бывали у них. Иногда они обедали у нас. Бунин относился к отчиму немного свысока, как, впрочем, и ко всем. Он был желчным и надменным. С ним было трудно: никогда не знаешь, что именно вызовет его раздражение. Но маму он любил. Он знал ее с детства, когда девочкой она приносила ему свои первые стихи. Отчим был знаком с Буниным с довоенных времен. В 1905—1914 годах Бунин был редактором в журнале «Северное сияние». Алексей Николаевич принес ему одно из первых своих произведений «Сорокины сказки». Бунины попали в Париж на год позже нас. Они проделали примерно такой же маршрут, как и мы. С той лишь разницей, что из Константинополя они попали в Париж не сразу, а предварительно оказались в Югославии. В Белграде нищие и бездомные и к тому же обворованные Бунины получили от Цейтлиных визу во Францию и 1000 франков.
Иногда мы, конечно, бывали у Цейтлиных. У них продолжала жить нянька Марфа Ивановна, о которой уже была речь выше, привезенная ими из Москвы. Она быстро акклиматизировалась в Париже. Не зная ни одного слова по-французски, она бодро водила маленькую Ангелину гулять в Булонский лес. Она упорно называла его «Булавин лес». В праздники, например на рождество или в чей-либо день рождения, у Цейтлиных собиралось много русских и французских детей. Девочки с большими бантами, вежливые мальчики с голыми коленками. В гостиной расставляли стулья и выступал специально приглашенный фокусник. Он клал монетку в карман одного мальчика, а затем вынимал ее же из кармана другого мальчика. От этих фокусов у меня кружилась голова и почва уходила из-под ног. Потом всех детей сажали за большой стол и поили шоколадом с бисквитами. В другой комнате за маленьким столом, покрытым белой салфеткой, фокусник ел баранью отбивную котлету, запивая ее красным вином. Устраивались у Цейтлиных и взрослые приемы. На одном из них на столе около каждой тарелки лежал небольшой, завернутый в бумагу подарок. Отчим получил новую пишущую машинку с русским шрифтом – то, о чем он только мечтал.
Бывали небольшие приемы и у нас: писатель Алексей Ремизов, пишущий старинной вязью; всегда остроумная Тэффи; грубоватый Куприн. В нашем доме, будь то в Москве, в Париже, в Берлине или в Ленинграде, всегда бывало много писателей и актеров. Велись самые разные разговоры. Единственное, чего отчим терпеть не мог, – это разговоров на литературные или литературоведческие темы. Он не любил литературоведов с их литературоведческим словоблудием.
Иногда по вечерам мы ходили в кино: то Юлия Ивановна и я; то отчим, мама и я; то мама вдвоем со мною. Большой зал кинотеатра «Александр Палас» был недалеко от нашего дома. В те годы кинопрограмма занимала весь вечер: начиналась в 8.30 и кончалась в 11.30 вечера. Сперва показывался неизбежный патэ-журнал, начинающийся с петуха, переступающего ногами по медленно поворачивающемуся земному шару и бесшумно кукарекающего. Ведь кино в ту пору было немым. Оно шло под аккомпанемент рояля: удалой тапер играл беспорядочные попурри, переходя от мажорного тона к минорному или наоборот, в зависимости от того, что происходило на экране. После патэ-журнала следовал какой-нибудь фильм. Потом зажигался свет; антракт длился минут 10—15. Две девицы, одетые в униформу с золотыми пуговицами, спускались по проходам между рядами, неся на подносах конфеты, шоколадки, леденцы длиной и толщиной с указательный палец, завернутые в бумажку. После антракта демонстрировалась какая-нибудь короткая комедия, часто с участием Шарло (так называли Чарли Чаплина). Кого-то кто-то бил по физиономии, выливал на голову тарелку с супом и т. д. Заканчивалась программа очередным выпуском многосерийного фильма, состоявшего из 30 или 40 серий («эпизодов», как тогда это называлось). Такой фильм шел много месяцев подряд (программа менялась каждую неделю по понедельникам). В конце никто уже не помнил, что было в начале. Обрывался фильм, конечно, на самом интересном и волнующем месте, тем самым зазывая зрителей на программу следующей недели.
Кроме русских газет, ресторанов, докладов на русском языке, организуемых в различных залах, в Париже появился также и русский театр. Никита Балиев привез в Париж свою «Летучую мышь». Этот ночной артистический кабачок, в котором обычно собирались актеры после спектаклей, превратился в Париже в большой эстрадный театр, помещавшийся не более не менее, как на Елисейских полях. По Парижу были расклеены афиши, приглашающие на спектакли «Chauve Souris» – «Летучая мышь». Балиев, плохо знавший французский язык, играл на этом, ведя спектакль в роли конферансье на чудовищном французском языке, вызывающем хохот как французских, так и русских зрителей. В одном из номеров пел русский церковный хор. Это вызвало яростный спор в среде эмигрантов. Одни называли это недопустимым кощунством, другие же считали, что искусство должно иметь неограниченную свободу.
По утрам обыкновенно я уходил в школу, а Никита с Юлией Ивановной в сквер Ла Мюэтт, находящийся недалеко от дома. Там Юлия Ивановна усаживалась на скамейку, а Никита, сидя на корточках, копался в куче песка. Юлия Ивановна познакомилась там с солидным господином по имени Альбер, который, будучи эльзасцем, хорошо говорил по-немецки. Он ухаживал за Юлией Ивановной с серьезными намерениями и писал ей письма по-немецки. По вечерам, когда все уже ложились спать, Юлия Ивановна вынимала из сумочки эти сложенные вчетверо письма, без конца читала их и перечитывала. Этим ограничивалась у бедной Юленьки ее убогая «личная жизнь».
Я продолжал учиться в русской эмигрантской школе. Она помещалась в предместье на улице Доктора Бланша. Это был трехэтажный особняк, окруженный чахлым садом. В моем классе было человек 10 мальчиков и девочек. Сидели за длинным столом (составленным из двух), в торце сидел учитель. За его спиной – черная доска. Нас учили закону божьему, русской грамматике, русской истории и, конечно, французскому языку. Атмосфера была куда более семейной, нежели в Эльзасской школе.
Возвращаясь как-то из школы домой по переулкам предместья, я увидел на углу какого-то дома на высоте моего роста надпись, сделанную карандашом по оштукатуренной стенке: «Дорогая Франсуаза, приди завтра в 8 часов вечера на это же место. Робер». Через два дня к этой строчке прибавилась еще одна: «Франсуаза, почему ты не пришла? Я тебя ждал более часа. Завтра – здесь же. Р.». Через несколько дней добавились строки: «Дорогой Робер, в субботу я освобожусь в час дня. Встреча – здесь же. Ф.». В понедельник я прочел: «Франсуаза, я никогда не забуду вчерашнего вечера. Р.». На следующий день: «Робер, я люблю тебя. Ф.». Приходя домой, я всякий раз докладывал отчиму все новые и новые строки этого невидимого романа.
Камб, лето 1921
Организация «Союз городов», созданная в России во время первой мировой войны, после революции продолжала существовать в Париже. У нее сохранились большие деньги, на которые кормились многие эмигранты. Чтобы сохранить эти деньги, «Союз городов» решил вложить их в недвижимое имущество, и притом так, чтобы оно давало доход. С этой целью было куплено около деревни Камб (находящейся вблизи Бордо) имение «Les Магroniers» – «Каштаны» с фруктовыми садами и виноградниками. Управление имением было поручено трем эмигрантам во главе с Балавинским. Лето 1921 года мы провели в деревне Камб в доме, который для нас снял Балавинский.
Дом прилепился к крутому склону горы так, что со стороны фасада он был трехэтажным и одноэтажным с задней стороны. Моя комната помещалась на третьем этаже, с дверью, выходящей прямо в крошечный, залитый солнцем садик, в котором росли зеленые фиги, похожие на груши, и кусты вербены. Если листок вербены растереть между ладонями, руки долго сохраняют томительно горьковато-сладкий запах. Из этого садика каменная лестница в три марша вела прямо на кухню, находящуюся на первом этаже, в которой стояла большая плита и был водопроводный кран.
По утрам я отправлялся в далекие прогулки на велосипеде. Я катил по пыльным, но твердо утрамбованным проселочным дорогам. Одна деревня сменялась другой. Они носили названия, хорошо нам знакомые по этикеткам на винных бутылках: Барзак, Кадияк и т. п. Встречавшиеся крестьяне приветливо здоровались, как это принято во всех деревнях всех стран. Вокруг – виноградники, виноградники, виноградники, уходящие во все стороны на многие километры. Родина вин. Безоблачное небо, высоко стоящее палящее солнце. Где-то рядом катит свои волны широкая, прохладная Гаронна. Все деревни расположены близко друг от друга. Они соединены узкоколейной железнодорожной веткой, по которой ходят маленькие пыхтящие паровозики с тремя вагончиками. Дорога одноколейная, она идет вдоль шоссе, подобно трамвайной линии. На некоторых остановках – разъезды: поезд, пришедший с одной стороны, тяжело дыша, ждет встречного. Дорога ведет к Бордо, к этой столице вин.
Я возвращался домой усталый, выпивал стакан холодной воды. При этом наша прислуга Фернанда с испуганным лицом бежала к маме:
– Мальчик пьет воду!
Она говорила это так, как будто я пил керосин. В этих краях не пьют чистую воду, так же как мы не пьем воду дистиллированную. Вода обязательно должна быть подкрашена вином. Только тогда она безвредна. Все на свете относительно. Мы часто ели кукурузу. Вся деревня хохотала:
– Эти русские едят кукурузу так, как будто они свиньи!
Здесь кукуруза – это корм для скота. В то же время здесь едят блюда, нам незнакомые. Например, суп из мулей. Мули – это маленькие синие ракушки, величиной со сливу. Когда их бросают в горячую воду, они раскрываются, и легко выскабливается их содержимое.
Часто мы все вместе ходили в имение «Каштаны». Надо было подняться в гору по неровной каменистой дороге. На пути встречались входы в катакомбы, в которых здесь выращивали шампиньоны. Эти катакомбы образуют целую подземную сеть, простирающуюся на многие километры. Обычно входы в них заколочены досками. Однажды мы обнаружили открытый вход. Отчим, я и Никита сделали несколько шагов внутрь. Юлия Ивановна и мама остались снаружи. Из пещеры пахнуло могильным холодом, и полная темнота окутала нас. Мы повернулись и сделали несколько шагов назад к выходу. Но выход исчез. Сделали несколько шагов назад, потом – вперед. Выхода не было. Мы заблудились. Мы взялись за руки: отчим, потом Никита, потом я. Отчим двигался вперед, тростью ощупывая дорогу, и мы следовали за ним, как слепцы. Я держал маленькую ручку Никиты, но Никиту я не видел. Нас окружала абсолютная чернота. Мы звали на помощь, но наши голоса тонули, оставаясь без ответа. Наконец после какого-то поворота забрезжил просвет. Это был выход из катакомб, но не тот, в который мы вошли. Он был заколочен снаружи досками. На наши крики никто не отвечал. Отчим пытался оторвать доски, но это оказалось ему не под силу. Мы пошли дальше бродить по черным коридорам. Наконец выход нашелся. Не знаю, сколько часов мы оставались под землей. При выходе из пещеры на камне сидела бледная Юлия Ивановна. Мама пошла в мэрию просить о помощи. В катакомбах есть обрывы и подземные озера. Оказывается, мы были на волоске от гибели. Внизу показалась мама. Ее сопровождал какой-то человек с фонарем в руках. На этот раз прогулка в «Каштаны» была отменена. Мы вернулись домой.
Обычно прогулки в «Каштаны» совершались без приключений. Поднявшись на гору, мы упирались в забор из проволочной сетки. Войдя в ворота, попадали в фруктовые сады «Les Marroniers»: черешни, груши, сливы и, конечно, персики. Их было несметное количество. Они валялись на земле под деревьями. Все эти сады сливались в один громадный райский сад. Да, Адам и Ева жили, наверное, вот в таком саду. Я обычно забирался на какое-нибудь дерево, устраивался поудобнее и читал, протягивая руку то вправо, то влево, и срывал персик. За этим фруктовым садом начинались виноградники, бесконечные ряды, уходящие к горизонту.
В одноэтажном каменном доме помещалась большая кухня. Однажды вечером в ней собрались все хозяева «Каштанов», отчим, мама и я. Здесь, в Камбе, Алексей Николаевич заканчивал роман «Сестры». (Первые десять глав романа были напечатаны в журнале «Грядущая Россия». Последующие – в «Современных записках».) Отчим собрал нас, чтобы прочитать последние страницы. Мы сидели за большим деревянным столом. Пылал очаг, поблескивала медная посуда на полках. За дверью, открытой в сад, время от времени падали звезды, чертя на черном бархатном небе огненный, сразу угасающий след. Какой далекой и непонятной казалась отсюда Россия. Какими родными были Катя и Даша.
Мы возвращались домой поздно вечером, спускаясь по крутой дороге. Стрекотали цикады. Я смотрел на мамино лицо, освещенное луной, и все время повторял в уме последние строчки романа: «Пройдут годы, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только – кроткое, нежное, любимое сердце ваше...»
Вскоре отчим уехал в Париж. Мама, Юлия Ивановна, Никита и я продолжали жить в Камбе. Наступили дни сбора винограда, так называемый Vendange. Это был всеобщий праздник. Вереницы телег, груженные корзинами винограда, с лошадьми, украшенными разноцветными лентами и бумажными цветами. На улицах пели и танцевали. В сборе винограда участвовали все: и мужчины, и женщины, и дети. В бетонном бассейне, в который из корзин сваливали виноград, босые парни, в брюках, засученных до колен, ввинчиваясь пятками в гроздья винограда, танцевали странный танец, похожий на современный твист. Из бассейна по желобам стекала в бочки грязная жижа. Трудно было поверить, что она превратится в прозрачное вино. Это было рождением вина. Наполненные бочки откатывали, на их место катили с грохотом пустые.
Незадолго до нашего отъезда из Камба произошло неожиданное событие. Юлия Ивановна получила письмо из Парижа. Альбер писал, что он надолго уезжает в Алжир. По дороге он хочет заехать в Камб, чтобы повидать Юлию Ивановну. Вся семья готовилась к этому дню. Прислугу Фернанду отпустили на этот день домой. Юлия Ивановна гладила белую блузку, подогревала в плите щипцы для завивки волос. Меня и Никиту мама увела на целый день в «Каштаны». Юлия Ивановна осталась одна в доме.
Вечером мы вернулись. У Юлии Ивановны дрожал подбородок. Она готова была разрыдаться. Они с мамой ушли в спальню. Оказалось, что Альбер сделал Юлии Ивановне предложение. Он хотел, чтобы она сразу же уехала с ним в Алжир. Юлия Ивановна отказалась. Она плакала, сама не зная отчего. От потрясений этого дня. С тех пор Альбер не появлялся на нашем горизонте.
Отчим часто писал маме из Парижа. Он писал, что не может более жить в пустоте, в эмигрантском парижском безвоздушном пространстве. Звал нас скорее в Париж. Предлагал переехать жить в Берлин.
Мы приехали из Камба в Бордо утром. Поезд в Париж отходил вечером. Прежде всего мы отправились в баню. Точнее – в ванное заведение. Слева и справа по длинному коридору были расположены кабины, в которых была ванна, висели зеркало и вешалка и стоял клеенчатый диван. Когда мы, чистые, с мокрыми волосами, уже уходили, Юлия Ивановна заметила, что из кабин и в кабины выходят и заходят парочки. Юлия Ивановна и мама пошушукались по этому поводу. В дальнейшем оказалось, что это ванное заведение служит по совместительству домом свиданий.
Ночь мы провели в поезде. Утром были в Париже.
Бад Мюнстер ам Штейн, осень 1921
После нашего возвращения из Камба в Париж мы прожили в квартире на улице Ренуар не более месяца. Мы переезжали жить в Берлин. В октябре начались сборы. За два года жизни в Париже мы обросли вещами. Все это разбиралось, выбрасывалось, упаковывалось. Внизу у подъезда уже стояли два каретообразных темно-красных такси. Я в последний раз вышел на балкон. Было солнечное утро. Передо мной лежал золотистый осенний Париж. Пахло прошедшим ночью дождем. Париж начинал свой очередной трудовой день. Мы прощались с Парижем.
Алексей Николаевич уехал в Берлин раньше нас, налегке. Мы же должны были поселиться в маленьком курортном городке Бад Мюнстер ам Штейн вблизи Висбадена и ждать его вызова. Мы занимали в вагоне отдельное купе. В соседнем купе ехала семья Еристовых: князь Еристов с женой и четырехлетней дочерью Ириной. Они тоже ехали в Берлин с более или менее долгой промежуточной остановкой в Мюнстере.
Поезд приходил в Мюнстер ночью и стоял всего три минуты. Заблаговременно мы и Еристовы перетащили весь наш несметный багаж в тамбур вагона. Там были чемоданы и тюки с постельным бельем, швейная машинка, громадный ящик с моими каменными кубиками. Кто-то подарил их мне в Париже в день рождения. Это были прекрасные разноцветные кубики, но поднять ящик один человек не мог. Кроме того, мой велосипед и другие вещи ехали в багажном вагоне. Мама спросила Еристова:
– Как по-немецки швейная машина?
– Die Schweinemaschine (то есть «свинская машина»), – отвечал не задумываясь Еристов.
Когда поезд подошел к освещенной платформе, мама и Еристов махали руками из окна вагона, вызывая носильщиков. Один носильщик вскочил в вагон еще до полной остановки поезда. Быстро выгружались на платформу наши вещи. Носильщик, находящийся в вагоне, передавал их другому, находящемуся на платформе. Мама воскликнула:
– Осторожно, осторожно, это моя Schweinemaschine!
Носильщики переглянулись.
Мы вышли из вокзала на площадь. Было темно и промозгло. Никакого транспорта в этот глухой ночной час около вокзала не было. Удалось нанять какую-то двухколесную тележку, на которую нагрузили весь багаж и которую катили два носильщика. Никиту и Ирину Еристову поместили на тележке между чемоданами. Остальные шли пешком. Я вел за руль свой велосипед.
Так мы дошли до расположенного поблизости отеля «Кайзерхоф». В окнах было темно. После наших звонков и стука в дверь зажегся свет в холле, а затем на лестнице. Нами предводительствовала Юлия Ивановна. Она одна, в отличие от всех остальных, свободно и хорошо говорила по-немецки. Она была рослой и представительной. Все остальные, сбившись в кучу и тихо переговариваясь между собой по-русски, напоминали изображение «толпы» на сцене оперного театра. После того как наши фамилии были записаны в книгу, лежащую на конторке, Юлию Ивановну вся гостиничная администрация начала и продолжала в течение всего нашего пребывания в Мюнстере называть Frau Grafin – госпожа графиня.
Нам отвели три комнаты на втором этаже, соединенные дверями, наподобие анфилады. В большой угловой комнате расположились Юлия Ивановна с Никитой, в следующей, проходной, – я, в третьей – мама. Еристовых поместили в двух комнатах рядом с нами. В это несезонное время года гостиница была почти пуста. Нам в комнаты принесли кофе с круглыми булочками, и мы улеглись под пухлые перины, будто бы провалились в пуховую бездну.
На следующее утро я отправился осматривать город. Это оказался маленький, чистенький, аккуратный городок, расположенный на левом плоском берегу узенькой речушки, правый берег которой был гористым. Там возвышалась скала, на самом верху которой торчали остатки старинной башни. К ней вела крутая извилистая тропинка. За небольшую плату лодочник перевез меня на другой берег к подножью скалы. Я взобрался на нее. Там открывался дивный вид во все стороны. День был облачный. Время от времени, разрывая облака, появлялось солнце на голубом клочке неба. Вокруг холмы, холмы, разрезанные в разных направлениях черными линиями железных дорог. На многих холмах – полуразрушенные средневековые замки. В течение нашей жизни в Мюнстере мы (мама, Еристов и я) не раз совершали длинные прогулки к этим замкам. Некоторые из них были превращены в музеи. Нам показывали оружие средневековых рыцарей, «пояс невинности», который рыцарь надевал на свою жену, отправляясь в поход, – железное, тяжелое, запирающееся на замок, антигигиеничное устройство. От разрушенных стен, покрытых мхом, веяло холодом и мраком средневековья.
Наша жизнь в Мюнстере вошла в обыденное русло. Прогулки, чтение. Утренний завтрак нам приносили в комнату. Обедать и ужинать мы спускались в пустоватый ресторан «Кайзерхоф». Иногда по вечерам в углу ресторана собиралась компания немцев, местных жителей. Они громко говорили, курили сигары, подымали кружки с пивом. Маме кто-то сказал, что очень полезно пить пиво с молоком. Меня заставляли два раза в день выпивать по кружке черного пива, разбавленного молоком. Я давился этим омерзительным напитком, но меня заставляли пить его как лекарство.
Мама чуть ли не каждый день получала письма из Франции от Балавинского. В конверт были вложены красивые дорогие открытки с изображением цветов, исписанные с другой стороны мелким бисерным почерком.
Недалеко от Мюнстера помещался большой курортный город Крейцнах. Туда из Мюнстера ходил маленький одновагонный трамвайчик (полчаса езды). В Крейцнахе были большие магазины. Около одной из витрин я всегда останавливался и мог бы стоять, завороженный, часами. Эта витрина была посвящена игрушечной железной дороге: рельсы, стрелки, семафоры, мостики, разводной круг, пассажирские, товарные, санитарные вагоны, паровоз с тендером и т.д. Я до сих пор вспоминаю эту витрину с замиранием сердца.
В Крейцнахе была также филармония. Мама решила развивать мальчика и стала регулярно ездить со мною на симфонические концерты. Сперва я был разочарован. Я думал, что вот сейчас отыграет музыка, и тогда начнется что-то. Но это «что-то» так и не начиналось. Постепенно я привык к концертам. Музыка растопила мое сердце. Она обволакивала меня, унося вдаль, в какие-то неизведанные просторы.
Началась зима. Выпал снег. Стояли морозные солнечные дни. Мальчишки, разбежавшись, скользили по коротким ледяным дорожкам на тротуаре. Скатывались на санках с горок. Появились лыжники в вязаных шапках с помпонами. В Мюнстере начали появляться курортники. Приближалось рождество. Это лютеранское рождество не было похоже на наше православное. В витринах магазинов и в самой церкви появились искусно слепленные мизансцены всегда на одну и ту же тему: дева Мария, младенец на охапке сена и толпа волхвов. Нас, воспитанных в духе православной религии, не мог не раздражать этот лютеранский натурализм.
Вскоре после Нового года мы получили очередное письмо от отчима. Он писал, что стал редактором литературного приложения к сменовеховской газете «Накануне», издаваемой в Берлине. «Смена вех» – это сборник, изданный в Праге в 1921 году, призывающий идти за советской властью и сотрудничать с большевиками.
В феврале мы простились с Еристовыми и уехали в Берлин.








