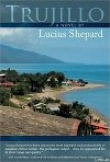Текст книги "Город еретиков"
Автор книги: Федерико Андахази
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Лирей, 1347 год
Жоффруа де Шарни было известно, что само по себе изображение Христа является проблемой столь же серьезной, сколь и древней. Да, конечно, не осталось никаких следов от течения иконоборцев, в прошлом запрещавшего всякое создание и поклонение портретам, – однако до сих пор никуда не исчезла первая заповедь, прозрачная и непреклонная. Согласно Книге Исхода, Бог-Отец сказал Моисею на горе Синай:
20:4. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;
20:5. не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня (…)
Как же могло случиться, что именно Иисус стал первым нарушителем самой главной из заповедей, оставив после себя свое изображение, запечатленное на ткани, для последующего поклонения? Если Иисус Христос поступал наперекор заповедям, тогда возникали сомнения в его божественности и таким образом само учение о Троице оказывалось под подозрением. Отец и Сын не только утрачивают свою единосущность – оставляя свой образ на полотне, Иисус восстает против Бога-Отца. Речь ведь идет не просто об одной из заповедей, а о первой из десяти, что не оставляло места для разночтений. Герцог впервые засомневался в своем предприятии. Он почувствовал страх. Жоффруа де Шарни осознал, что плащаница, которую он собирается изготовить, может быть воспринята не как обыкновенная подделка, а как ересь: она сама по себе являлась противоречием словам Святого Писания. Иегова, осудивший на горе Синай всяческие изображения, не может отказаться от собственного слова. Жоффруа де Шарни понимал, что изображения действуют на толпу более красноречиво и убедительно, чем любой трактат или вероучение; он сознавал, что умело написанная картина, на которой святой побеждает дьявола, произведет более сильный эффект, чем даже само Священное Писание, – учитывая, что подавляющее большинство верующих не умеют читать. Но ему было также известно, что первая заповедь, установленная Богом-Отцом и подтвержденная Христом, запрещает какое бы то ни было поклонение изображениям. У иконоборцев имелись основания, чтобы разрушать любые иконы с человеческим обликом, на самом деле они просто-напросто соблюдали божественную заповедь. В той же Книге Исхода Иегова обрушивается на идолопоклонников из Ханаана:
34:13. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их.
34:17. Не делай себе богов литых.
Не было никакой возможности трактовать первую из заповедей как-либо по-другому. Всякое толкование, идущее наперекор прямому значению, являлось не чем иным, как лживыми ухищрениями, которые выдумывали на вселенских соборах, понимая, какой проповеднический потенциал несут в себе зрительные образы. Кстати сказать, евреи всегда хранили верность этой заповеди, и их храмы никогда не украшались человеческими фигурами, животными и вообще рисунками, не имеющими абстрактного характера. Сама идея единого и всемогущего Бога делала немыслимыми какой бы то ни было пантеон и богов, схожих с природными явлениями – такими как дождь, гром или ветер, или связанными с космографией – с солнцем, луной и звездами. Бог, творец Вселенной, был столь грандиозен, что его было невозможно не только изобразить, но даже вообразить. Если человек не в состоянии представить себе границы Вселенной и постичь бесконечность – что может он знать об облике Бога, если Он больше, чем любое число, и обширней, чем сама вечность? Для человека, в его ничтожности, попытка изобразить Создателя всего на свете считалась ересью и оскорблением Бога. Бог был единственным, кто обладал полномочием на творение, на придание материи формы и даже своего образа и подобия. Он мог создать одно существо из ребра другого существа, однако для человека было бы непростительным дерзновением, высокомерным притязанием на место Всевышнего создавать образ либо подобие того, «что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». С другой стороны, магометане тоже не осмеливались помещать портреты в своих роскошных мечетях. Среди христиан находились и такие, кто называл причиной поразительных побед мусульманских войск их упрямый отказ от изображения человека. Арабское влияние в Византии явилось одним из существенных факторов, породивших движение иконоборцев. То ли под воздействием суеверий, приписывавших этому запрету военную мощь арабов, то ли по естественной склонности согласовывать свои обычаи с обычаями победителей, то ли чтобы получить возможность проповедовать среди исламских войск – в общем, Восточная христианская церковь поспешно обратилась к первой заповеди. В III веке Евсевий провозгласил, что всякое изображение Иисуса противно Священному Писанию, а потому должно считаться идолопоклонничеством. За много лет до него Астерий Амасийский уже сказал: «Не делай копий с Христа; с него довольно уже и унижения Воплощением, которому он подверг себя добровольно, ради нас. А лучше неси в своей душе символический отпечаток бестелесного Слова». «Имеет ли смысл изготавливать реликвию, противоречащую этому священному Слову?» – спрашивал себя герцог, внезапно потерявший уверенность в успехе своего замысла. Наверное, чистым безумием было думать о возрождении древнего течения иконоборцев, которые решили бы спалить полотнище герцога, а заодно – и его самого? Жоффруа де Шарни понимал, что в конечном счете движение иконоборцев явилось результатом незримой войны – борьбы между властями церковными и светскими. Побуждаемые тем же стремлением к богатству, которое направляло и шаги герцога, византийские монахи накапливали в своих церквах разнообразные чудотворные иконы. И вот толпы верующих отправлялись в паломничество и оставляли свои подношения в обмен на право молиться перед святынями о милости. Чем более многочисленны и важны были эти иконы, тем более богатыми и прославленными становились выставлявшие их напоказ монастыри. Вот почему монахи, ясно видя прихожан, преклоняющих колени перед иконами, закрывали глаза на первую заповедь – при этом их сундуки наполнялись и власть их росла. Императоры с беспокойством наблюдали за неудержимым ростом престижа духовенства в ущерб мирской власти. Византийский император Лев Третий был первым, кто заметил, что церковная аристократия – помимо того что она освобождена от уплаты налогов – стала обладательницей обширнейших территорий, а также благодаря владению священными изображениями может рассчитывать на суеверное благоговение народа. Приняв все это во внимание, Лев Третий запретил культ изображений и тем самым остановил безудержный рост власти монашества и на освободившемся месте построил свою абсолютистскую и воинственную державу. Но герцог был далек от наивности: он знал, что смысл Писания может меняться столько раз, сколько потребуется для очередной власти. Однако в тот раз дела зашли слишком далеко; Церковь тогда, рассуждал Жоффруа де Шарни, претендовала на всю полноту власти не только над делами небесными, но и над мирскими, так что Томас Беккет, архиепископ Кентерберийский, позволил себе следующее утверждение: «Положение клирика таково, что он не имеет над собой царя, кроме Христа. Клирики не могут подчиняться мирским правителям, но только их собственному царю, Царю Небесному. Христианским государям надлежит подчинить свою власть власти церковников, а не пытаться возвыситься над ними. Христианским государям следует повиноваться велениям Церкви, а не выказывать собственное могущество; государи должны склонить головы перед епископами, вместо того чтобы их осуждать». Жоффруа де Шарни решил про себя, что для возвращения призрака иконоборчества нет никаких предпосылок. Преследование человеческих изображений теперь уже никому не принесет выгоды. К тому же теперь картины, на которых запечатлены апостолы, Мадонна, Иисус и даже сам Бог-Отец в облике старца с седой бородой – в прежние времена за подобную ересь расплачивались жизнью, – расплодились настолько, что обратного пути уже нет, сказал себе герцог. Вновь воспрянув духом, бодро подволакивая хромую ногу по залам своего лирейского замка, Жоффруа де Шарни опять наполнялся энтузиазмом, готовностью приняться за свое благородное начинание. Можно ведь вспомнить и о том, убеждал себя герцог, что на втором Вселенском соборе в Никее, проходившем в 787 году, дискуссия с иконоборцами была решительным образом прекращена, когда Церкви пришлось признать полезность священных изображений. Разумеется, чтобы поступать противно такой ясной и принципиальной заповеди, церковникам пришлось слегка вмешаться в ход событий. На взгляд Жоффруа де Шарни, их обоснования были скудны и недостаточны; скудость обоснования можно, например, обнаружить в трудах Фомы Аквинского. В своей «Summa Theologiae» святой утверждал, что культ изображения имеет своим объектом не икону как таковую, но самого Бога, которого воплощает в себе эта форма. Таким образом, поклонение, направленное на зримый образ, на нем не останавливается: окончательная его цель – это божество, чьим отражением является икона. С другой стороны, уверяли епископы, когда свершилось падение человека по причине первородного греха и Иегова ушел из его каждодневной жизни, Его образ сделался таким размытым, что в конце концов человечество совершенно его позабыло. И тогда люди начали путать Бога с другими вещами и стали поклоняться им, как будто бы речь шла о богах. Такие фальшивые божества отображались средствами скульптуры, резьбы и живописи. Запрет, содержащийся в первой заповеди, говорили церковники, направлен против подобных изображений и основан на идолопоклонническом характере их культа. К тому же, поскольку иудеи были всего-навсего жалкой горсткой душ, осаждаемых народами, практиковавшими поклонение идолам, Господь пожелал охранить этих избранных от общения с фальшивыми божествами. И все-таки, размышлял Жоффруа де Шарни, эти аргументы были крайне слабыми: невозможно настолько недооценивать древние религии Ближнего Востока; кто осмелится всерьез утверждать, что эти народы не разделяли статую и божество, которое она представляла? Если для них та или иная фигурка, статуя или картина сами по себе являлись божеством, то как объяснить, что одно и то же изображение повторялось по многу раз, но каждый раз получало новое имя? Вот простой пример: в чем заключается принципиальная разница между статуей Анубиса и статуей святого Петра? Разумеется, никому не придет в голову, что каждое новое изображение Петра относится к новому святому – нет, все они отсылают к основателю Церкви; точно так же и египтяне не считали, что каждое изображение Анубиса – это сам по себе новый бог. Древним египтянам можно предъявить обвинение в политеизме, но, уж конечно, же не в тупости. Напротив, продолжал про себя герцог, именно Римская Церковь способствовала почитанию различных Мадонн, как будто бы на самом деле она не была всегда одной и той же: в каждой церкви стояла собственная Богоматерь, и все они как будто бы состязались между собой в чудотворной силе и оказании милостей в обмен на обеты и, разумеется, подаяния. И действительно, каждой из них поклонялись особым способом, и нередко можно было увидеть процессии, в которых статуи Богоматери несли на носилках, как будто бы Мадонны таким образом доказывают преданность своих прихожан. А если к тому же одна из таких фигур плакала кровавыми слезами, ее почитание превращалось в одержимость: к ногам статуи стекались толпы паломников, во что бы то ни стало стремившихся к ней прикоснуться. Как могла Церковь не распознать в подобных церемониях примитивное идолопоклонничество – точно такое же, которое Господь осудил в своих десяти заповедях? И вот, раздумывая о слабости постулатов святого Фомы, герцог неожиданно нашел объяснение, которое показалось ему безупречным. Это было обоснование, которое не только позволяло ему оправдать существование плащаницы, но к тому же обращалось в наиболее весомый аргумент, к которому Церковь прибегала для защиты культа изображений, при этом ничуть не впадая в противоречие с первой заповедью. Это решение не содержало теологических противоречий: пришествие в мир Иисуса Христа, то есть Бога во плоти, должно было вызвать многообразные последствия. В свете такого события учения Ветхого Завета должны были облечься новым смыслом. Первая заповедь могла быть справедливой только ввиду материальной невозможности объять величие Бога: тогда, как следствие, любая человеческая попытка его отобразить оказывалась оскорблением. Лик Божий представлял собой неразрешимую загадку. Бесспорно, все было именно так вплоть до того момента, пока Господь сделался зримым в маленькой деревушке под названием Вифлеем. Первая заповедь, произнесенная Богом, была не менее категоричной и истинной, как и Его последующее решение явиться во плоти, сделаться Христом. И вот, Жоффруа де Шарни завершил безмолвный разговор с самим собой следующим выводом: «Иисус Христос – это зримый образ Бога-Отца». Как и всегда, когда ему требовалось подтвердить какую-нибудь теологическую догадку, он раскрыл Библию, чтобы отыскать в ней неопровержимое доказательство. Он перелистывал страницы наудачу; герцогу смутно помнилось, что он уже встречал рассуждения на эту тему, и он сразу же углубился в Евангелие от Иоанна. После долгих и безуспешных поисков Жоффруа де Шарни, озаренный светом свечи, в конце концов натолкнулся на фрагмент, который разыскивал:
14:6. Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
14:7. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.
14:8. Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.
14:9. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
И вот она перед ним, не менее ясная и прозрачная, чем первая заповедь, мысль, которую он стремился обосновать. Однако выраженная не в светских, земных словах, а произнесенная самим Богом, ставшим человеком. С этой новой точки зрения Священная Плащаница, когда-то покрывавшая тело Христово, будет нести грядущим поколениям такую весть: «Я есмь Отец, Сын и Святой Дух. Вот мой облик, и я запечатлел его на этом полотне, чтобы никто не спутал меня с фальшивыми богами и не впал в идолопоклонничество». Священное полотно было явлено, чтобы удостоверить истинность заповеди, а не опровергнуть ее. И кроме того, плащаница станет аргументом против любого приступа иконоборчества, подтверждением, что сам Иисус через Святой Дух сотворил образ Отца, эмпирическим путем показав сущность Пресвятой Троицы.
Герцог, удовлетворенный гигантской интеллектуальной конструкцией, которую ему удалось построить в течение этой плодотворной ночи, затушил свечу и уснул прямо за столом.
Снаружи солнце начинало карабкаться по виноградной лозе.
25Tpya, 1347 год
Каждую ночь Кристина писала в сумраке монастырской обители, чтобы ее не выдал свет и чтобы настоятельница вновь не застигла ее врасплох. Изможденная, она спешила закончить свою потаенную работу перед рассветом, чтобы успеть спрятать рукопись в библиотеке, пока монастырь все еще спит. Теперь, разделавшись с представлением, что тело – это всего лишь подспорье для вознесения души, девушка захотела, чтобы Аурелио избавился от тенет закона и действовал согласно велениям собственного сознания. Глаза Кристины покраснели от бессонницы и напряжения; она писала:
Теперь я хочу поговорить с вами о Законе. По вашим письмам я чувствую, насколько вас мучает необходимость быть верным Божьим законам. И вот я говорю вам: если вы страдаете от того, что верны Господу, вы ему не верны; ведь если вы в самой глубине вашего сознания не считаете Его Закон справедливым, то, возможно, это потому, что законы, которые вы почитаете Божьими, таковыми не являются. С другой стороны, если нам что-то досталось в наследство от проповедей святого Павла, так это, несомненно, незнание закона – поскольку вне нашего сознания не существует закона, способного озарить нас верой. Вот краеугольный камень христианства, вот то, на чем зиждется его отличие от наших предшественников – от иудеев. И, конечно же, не случайно, что именно евреем был первый, кто расслышал самое сокровенное послание Иисуса. Разумеется, я имею в виду Павла, называемого также «иудей из Тарса». Никто лучше святого Павла не мог интерпретировать новую весть, принесенную Мессией народу Израиля. Именно апостол Павел превратил слово Иисуса в богословское учение, но, главное, он был первым, кто увидел, что грандиозность Слова Спасителя такова, что несет в себе неизбежный разрыв с традицией его собственной веры и с его собственными иудейскими ценностями. Не проделай Павел свою гигантскую работу, христианство угасло бы, едва родившись. И нет никакого парадокса в том, что апостол был иудеем из самого ортодоксального колена Израилева – Вениаминова. Только лишь абсолютно чистокровный еврей, в отношении закона – фарисей, мог понять, а поняв, объяснить и распространить по свету, далеко за пределами собственного народа, Вселенскую Весть Иисуса Христа. И, возможно, именно потому, что он был чистым иудеем, он стал самым древним из чистых христиан. Павел обратился в христианство, как и многие другие иудеи. Однако он сделал это уникальным и решительным, способом. Любой иудей мог прислушаться к слову Христа, не изменяя решительным образом своей точки зрения на мироздание и, главное, своих обычаев. Однако Павел тотчас же заметил, что за этим деянием веры стоит изменение самого существенного из иудейских принципов: соотношения религии и закона. Насколько ревностно и уважительно относился он к законам в бытность свою раввином, настолько же быстро, как только Иисус вошел в его сердце, Павел осознал, что новая религия требует абсолютного отказа от всякого закона. Когда Павел преобразился после чудесного явления Христа, он тотчас же принялся проповедовать Слово среди своих единоверцев, но также и среди язычников. Павел, как иудей, говорил о приходе, о смерти и о воскресении еврейского Мессии. Однако его проповедь переходила границы народа Израилева. И вот вскоре он убедился, что народы, не принадлежащие к религии Авраама, с ужасом относятся к обрезанию – первому из законов Священной Книги, Библии, который следовало исполнять в отношении новорожденных ради их же спасения. И тогда Павел в Послании к Римлянам объявил, что человек может обойтись и без обрезания, которое предписывает закон, поскольку оно может совершаться не только с телом, но и с душой.
2:25. Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием.
2:26. Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?
2:27. И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона при Писании и обрезании?
2:28. Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти;
2:29. но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога.
Новообращенные язычники, казалось, вовсе не стремились признавать это правило, как и почти всю совокупность еврейских законов. Этих людей было очень сложно убедить, что христианство, приходящее из Иудеи, не имеет ничего общего с верой иудеев. И тогда, чем больше пытался Павел донести слово иудейского Мессии, тем яснее он понимал, что сможет преуспеть, только если сам он – парадоксальным образом – перестанет быть иудеем. Однако, с другой стороны, чем многочисленнее становились язычники, которых апостолу удавалось обратить, тем дальше распространялась Священная Книга иудеев – Библия. Христианство переставало быть событием, имевшим отношение только к сынам Израилевым; теперь оно простиралось на все народы, но в то же время было связано нерушимым мостом с еврейской традицией, поскольку Иисус происходил из дома Давидова.
3:28. Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников,
3:30. потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру.
Моисеев закон, чтобы распахнуть себя для язычников, теперь должен был оторваться от собственных корней и перестать быть законом. И в тоже время пророчество Ветхого Завета получало свое исполнение в фигуре Христа – Мессии. Однако чтобы выстроить свою теологическую систему, Павел должен был порвать с Законом. На самом, деле иудейский Закон содержал в себе шестьсот тринадцать предписаний, которые невозможно было даже запомнить. Павел обнаружил, что соблюдение Закона является требованием, основание которого не связано с убежденностью, но диктуется принуждением, и что ничего из того, что совершается по необходимости, а не исходит из сердца и разума, не может привести к спасению. Почему действие, не имеющее никакого значения, просто предписанное законом – речь идет об обрезании, – должно стать залогом спасения? Для святого Павла не существовало иного пути к спасению, помимо пути веры, которую не мог определить ни один человек – только Бог. О его величии свидетельствовала не только человеческая жизнь на земле, не только поступки, но в первую очередь обращение человека к Богу посредством веры. А это есть нечто, что происходит между душою человека и Господом; не существует способа перевести эту религиозную связь в рамки закона, потому что ничто не достигнет такой высоты, как взгляд Бога. И вот в том же послании апостол Павел говорит, что единственный способ доказать свою веру – это стать как те язычники, которые
2:15. показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую.
Спасение возможно только в том случае, если человек, изучивший Евангелия, избирает Бога – таким и только таким образом Бог избирает человека. Павел был самым верным приверженцем свободы. А чтобы соединиться с Христом через осознанный выбор, нужно было освободиться от закона.
3:28. Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.
2:1. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же.
Павел считает, что не может называться христианином тот, кто осмеливается судить своих ближних. Закон не только лишается своего первоначалия; свобода воли становится более значимой, чем суждение о верности того или иного выбора.
2:3. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и (сам) делая то же?
Эта фраза совершенно определенна: суд над ближним теперь превращается в грех – грех, осуждать за который может только Господь и никто, кроме Господа.
2:14… ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон.
Здесь Павел имеет в виду тех, кто, не будучи евреями, не знают закона, явленного через Моисея, и все-таки могут надеяться на спасение в той мере, в какой воспримут слово Иисуса и понесут его истину в своих сердцах, хотя и не подчиняясь предписанным нормам. Таким образом, в учении апостола Павла вера не привязана к закону записанному, распространившемуся изустно или же привнесенному в мир каким-нибудь человеком, – нет, она являет себя только тогда, если люди
2:15. показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую.
Однако святой Павел пошел намного дальше: он не только осмеливается порвать с законом, но и осуждает его. Как явствует из его собственных слов, закон – это семя греха, проклятое зерно, которое, именуя запретные дела, их взращивает, их превозносит и распространяет. Закон, мой любимый Аурелио, несет в своем произнесении нарушение самого себя,
4:13. ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления.
Итак, скрижали закона оказываются десятью заповедями грехов, которые, быть может, грешникам никогда бы не пришло в голову совершить, если бы Моисей, возгласив о них, не сообщил об их возможности. Тот же Павел обвиняет себя в собственных грехах, которые совершил, будучи рабом закона:
7:7. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай.
7:8. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мертв.
Прежде зло не обитало в душе человеческой, однако после обращения Моисея к своему народу грех пустил там свои ростки, приняв форму закона. Такая точка зрения поясняется Павлом в притче о вдове:
7:2. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества.
7:3. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа.
7:4. Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
Итак, вера есть семя жизни, а закон – семя смерти. С другой стороны, законы упрочивают себя в форме письменного слова, и в той же мере упрочивает себя зло:
7:9. Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил,
7:10. а я умер; и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти.
Следующее утверждение целиком заключает в себе суть учения Павла. В нескольких словах он говорит о том, сколь малого достаточно, чтобы оставаться верным Иисусу – даже не зная ни об одном из законов, записанных или выбитых на каменных скрижалях:
13:8. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон.