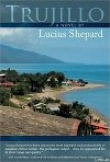Текст книги "Город еретиков"
Автор книги: Федерико Андахази
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Лирей, 1347 год
Жоффруа де Шарни притязал на то, чтобы стать епископом в собственной церкви. В конечном счете, рассуждал он, все, что он вкладывает в это предприятие, должно обеспечить ему по меньшей мере такую прерогативу. Что ни говори, строительство церкви все-таки являлось торговой операцией, такой, как и все остальные, и было бы недопустимой небрежностью оставить руководство им в чужих руках. Кто, как не он, должен возглавить столь значительное начинание? – вопрошал себя герцог. Однако Анри де Пуатье вовсе не собирался упрощать ему задачу; епископ не помогал ему раньше, и не было оснований предполагать, что теперь он откажется от своей жесткой позиции. Епископу города Труа было совсем не по душе рукоположение мирян в священнослужители, и потом, он имел возможность опереться на уложения, принятые в Сардике,[19]19
Сардика – древнее название города София. В 343 г. там проходил один из первых церковных соборов.
[Закрыть] в которых было предписание для подобных случаев: «Если богатей, или законник, или государственный чиновник попросит о сане епископа, его нельзя посвящать в сан, если только этот человек прежде не исполнял должности электора, дьякона или священника, так, чтобы он поднимался к высшей ступени, то есть к епископству, постепенно, шаг за шагом. Епископский сан следует возлагать только на того, кто в течение продолжительного времени находился под наблюдением церкви и чья полезность была неопровержимо доказана». И это отнюдь не был случай Жоффруа де Шарни. Да, конечно, эти уложения нарушались с того самого дня, когда они были составлены, на заре христианства. Как правило, самые высокопоставленные церковники были людьми, связанными и с политикой, и с коммерцией. Во время своих встреч с Анри де Пуатье Жоффруа де Шарни пытался убедить епископа, что принадлежность к мирскому сословию не может являться препятствием для его клерикальных устремлений. Герцог приводил епископу Труа длинный перечень знаменитых деятелей, которых рукоположили в сан, хотя они и не были выходцами из лона церкви; он без зазрения совести сравнивал ceбя со святым Иеронимом и Блаженным Августином, с Паулином из Нолы и с Эриугеной, первым христианским философом, – все они были людьми мирскими, но добились положения в Церкви. Даже сам святой Амвросий был крещен, поднялся по всем ступеням церковной иерархии и в конце концов сделался епископом Миланским за столько же дней, сколько потребовалось Богу для сотворения мира. Однако Анри де Пуатье оставался непреклонен. Герцогу ничуть не помогали указания на случаи Фабиана и Евсевия, Филогония Антиохийского и Нектария Константинопольского – если вспомнить лишь самые отдаленные во времени примеры. Тогда Жоффруа де Шарни переходил на почти что угрожающий тон, смутно намекая на свое (предполагаемое) героическое прошлое, на свои (якобы существующие) связи с военными самого высокого ранга, напоминая епископу Труа, что Евсевий и святой Мартин Турский были рукоположены в сан силою оружия имперского войска. Анри де Пуатье откровенно смеялся в ответ и говорил:
– Если вы собираетесь ввести в мою церковь войска, то вам меня не следовало и предупреждать. Я тотчас же распоряжусь выкопать могилу здесь неподалеку.
Возможно, герцог и чувствовал, что выглядит несколько смешно. Однако, невзирая ни на какие препятствия, он продолжал настаивать и убеждать. Видя, что ему не удается поколебать высокомерие епископа, Жоффруа де Шарни прибегал к самому надежному своему средству – к подкупу. Он с заговорщицким видом осторожно прощупывал почву, пытаясь определить, насколько его собеседник готов к такому повороту событий. Словно бы вспоминая об интересных исторических происшествиях, не имеющих никакого отношения к их разговору, герцог упомянул про подкуп епископов на Эфесском конклаве 401 года, разоблаченный Хризостомом, епископом Константинопольским. Глядя в пол, нервно поигрывая пальцами, герцог де Шарни цитировал признание обвиняемых: «Мы признаем, что платили мзду за то, чтобы нас посвятили в епископский сан и освободили от налогов».
– Какая гадость! – не испытывая никакой гадливости, ораторствовал Жоффруа де Шарни, пытаясь угадать реакцию Анрн де Пуатье, – если бы по крайней мере они прибегли к подкупу ради более благородных задач, вроде тех, что направляют мои стопы…
– Да неужто возможно заниматься мздоимством во имя возвышенных целей? – отвечал на это епископ и, прежде чем герцог делал первый шаг на эту зыбкую почву, напоминал ему о позиции императора Константина, который стремился избежать нашествия торговцев и богачей и потому запретил представителям цеховых объединений и других привилегированных групп становиться священниками.
И тогда Жоффруа де Шарни заканчивал их очередную встречу, поднимаясь с кресла и признавая внутри себя, что проиграл еще одну битву. И все-таки герцога поддерживала надежда на главную победу, когда на его штандарте будет значиться: Святая Христова Плащаница. Она станет волшебным ключом к получению собственной церкви, и ничто не помешает ему ее возглавить и формально, и на деле.
19Труа, 1347 год
Одной ничем не примечательной ночью настоятельница, охваченная волнением, лишавшим ее сна, обходила монастырские коридоры, сама не зная, что хочет там отыскать. Среди этих теней царило абсолютное спокойствие, но вдруг, когда аббатиса проходила мимо двери сестры Кристины де Шарни, ей показалось, что в щели между досками мерцает слабый огонек. Мать-настоятельница уже собиралась постучать в дверь, но ее захватило любопытство, и она отдернула руку. Женщина склонилась пониже и приникла глазом к узкой щелке, сквозь которую пробивался свет. И тогда мать Мишель увидела обнаженное тело послушницы, склонившейся над маленькой конторкой. Ее наблюдательная точка позволяла рассмотреть стройные очертания тела Кристины. Мать Мишель сильно удивилась, увидев, что ее подопечная что-то сосредоточенно пишет в этот предрассветный час, однако сильнее любопытства разума оказалась жадность сладострастия – желание исподтишка рассмотреть это тело, которое настоятельница до сих пор еще не познала. Сердце аббатисы билось часто-часто, когда она созерцала эти обширные и упругие груди, легко покачивавшиеся, когда девушка погружала перо в чернильницу. Мать Мишель не могла и не хотела помешать своей руке скользнуть под монашеское облачение и проникнуть в вертикальную щель, требовавшую ласки. Средний палец аббатисы проворно сновал между складок этих немых губ, пока она наблюдала за тем, как соски молодой монахини трутся о бумагу, в то время как их обладательница в поисках правильных слов устремляла взор в потолок. Порой Кристина с некоторым неудовольствием откидывалась назад, не подозревая, что выставляет напоказ всю красоту своих ног – длинных, но при этом не худых, и тогда аббатисе приходилось сдерживать стоны, рвавшиеся наружу посреди монастырского безмолвия. Теперь, чтобы успокоить влажный жар, наполнявший все ее естество, одного пальца было уже недостаточно, и аббатиса удовлетворяла свое возбуждение, погружая в себя указательный, средний и безымянный пальцы. И вот на глазах у настоятельницы молодая монахиня слегка приподнялась, потянулась за стаканом с водой, стоявшим на краю пюпитра, и взору матери Мишель открылись округлые и крепкие полушария ее ягодиц, словно точеные завитки на спинке деревянного стула, на котором она сидела. Этого зрелища аббатиса уже не могла вынести; обливаясь холодным потом, она в исступлении постучала в дверь. Кристина, словно повинуясь рефлексу, быстро захлопнула тетрад и огляделась в поисках укрытия, куда можно было бы спрятать; однако монашеская келья была обставлена так скромно и незатейливо, что в ней не было ни одного укромного уголка. Прижав тетрадь к обнаженной груди, девушка в отчаянии металась; по комнате, не подозревая, что за ней наблюдают. Три новых удара в дверь привели ее в совершенное замешательство.
– Кто здесь? – пробормотала Кристина, притворяясь, что только сейчас проснулась.
Аббатиса назвала себя и тоном, не терпящим отлагательства, потребовала, чтобы ее подопечная открыла дверь. Кристина наскоро набросила одеяние, спрятала тетрадь под кроватью и чуть-чуть приоткрыла дверь. И увидела на пороге мать Мишель с пылающими щеками и прерывистым дыханием.
– Матушка, с вами все в порядке? – спросила не на шутку встревоженная послушница.
– Я не могла заснуть, шла мимо, увидела свет и подумала, что ты тоже не спишь и тебе нужна компания. Не пригласишь меня войти? – отвечала настоятельница изумленной монашенке.
Дело в том… – залопотала Кристина, – дело в том, что я как раз собиралась ложиться.
Аббатиса не могла признаться, что подсматривала за ней, что слова Кристины далеки от истины, что мать Мишель видела ее ночные занятия. Поэтому она ограничилась строгим вопросом:
– Быть может, есть что-то, о чем я не должна знать?
Кристине не удалось скрыть выражение недовольства и покорности судьбе, но проницательность матери Мишель вынудила ее открыть дверь и пригласить настоятельницу к себе. Молодая послушница поспешила присесть на свою постель, чтобы прикрыть ногой край тетради, торчавший из-под кровати. Мать Мишель уселась с ней рядом. Ее взгляд прохаживался по телу, наспех укрытому монашеским одеянием, в конце концов он остановился на прекрасных бутонах, набухавших под тканью, – на тех самых, которыми настоятельница только что любовалась сквозь щелку в двери. Кристина сразу же разгадала намерения аббатисы; догадка девушки подтвердилась, когда та положила руку ей на бедро. По спине послушницы пробежал холодок – все это ей совсем не нравилось. Кристина немного отодвинулась, стараясь не выглядеть невежливой. Мать Мишель была слишком возбуждена, чтобы ходить вокруг да около; она, казалось, не остановится ни перед чем, лишь бы в конце концов получить юное и вечно ускользающее тело Кристины. Она неожиданно и резко нагнулась, сунула руку под кровать и, к ужасу молодой монахини, вытащила оттуда только что спрятанную тетрадь.
– Быть может, ты захочешь заниматься чтением не в одиночку, а так, как это делаю я? – сказала настоятельница, намекая на собрания в библиотеке, во время которых она в полный голос зачитывала откровения святых дев.
Кристина подумала про себя, что, если ее заметки станут общественным достоянием, ее писательство может стоить ей жизни и теперь уже у нее не будет возможности начать сначала, как это случилось после ее изгнания из семьи. Действовать нужно было стремительно. В тот самый момент, когда настоятельница раскрыла тетрадь, юная монашенка прошептала:
– Как долго я ждала этой минуты…
Лицо аббатисы просветлело. И тогда Кристина взяла ее за руку, тем самым заставляя выпустить тетрадь. Она поднесла палец матери Мишель к своим губам, оросила своей слюной и медленно повела его по своему телу – сначала по шее, потом по груди, до самого соска, оставляя горячий влажный след. Девушка закрыла глаза, словно не желая быть свидетельницей этой сцены, в которой она не только исполняла ведущую роль, но которую сама же и разыгрывала с единственной целью – не позволить аббатисе прочесть ее записки. И вот, направляя палец настоятельницы, Кристина продвигала его от одной груди к другой. Девушка жмурилась все крепче, представляя, что это палец Аурелио; мысль об этом позволяла ей продолжать и даже бороться с отвращением. Мать Мишель заходилась в стенаниях; в конце концов она добилась того, чего желала с первого дня своей встречи с Кристиной. Аббатиса получала нездоровое наслаждение от ситуации, когда ее подопечная становилась ее повелительницей, и целиком отдавалась ей на милость. Таким образом. взяв инициативу на себя, послушница могла продолжать игру так, как сама пожелает, и при этом ставить барьеры безудержному любострастию настоятельницы. Однако тетрадь с еретическими записями Кристины все еще лежала на юбке матери Мишель, и это сильно беспокоило молодую монашенку; когда она попыталась завладеть тетрадью, отодвинуть ее подальше, аббатиса зажала ее между ног, словно догадываясь, что от этого предмета зависит продолжение ее блаженства. И тогда Кристина поняла, что ей будет не так-то просто получить обратно свои записи. Она поднялась с постели, отошла на несколько шагов и стянула с себя монашеское одеяние, подставляя свое обнаженное тело взору матери-настоятельницы, Потом Кристина развернула стул, стоявший возле пюпитра, и села, раскинув ноги, чтобы матери Мишель пришлось к ней приблизиться и выпустить тетрадь. Однако старшая монахиня, захваченная этим зрелищем, только крепче зажала свою добычу между ляжек и, мягко приподнимаясь и опускаясь, принялась тереться промежностью о твердый и тяжелый переплет тетради. Такая позиция оставляла простор для деятельности ее рукам, и настоятельница поспешила избавиться от верхней половины своего платья, обнажив груди – большие, круглые и все еще упругие. Полулежа на скромной постели и не отрывая глаз от Кристины, аббатиса продолжала наслаждаться кожаным переплетом и одновременно ласкала свои соски, время от времени поднося их ко рту и проходясь по ним языком. Все выходило совсем не так, как задумала Кристина: девушка в отчаянии видела, что настоятельница не только не выпускает ее еретических сочинений, но почти что поглощает их своих телом. А ей нужно было вернуть их во что бы то ни стало. Кристина уже ублажила мать Мишель зрелищем нагого молодого тела, теперь девушке предстояло сделать большее. Она поднялась со стула, приблизилась к аббатисе, встала перед ней на колени – и решительным движением задрала подол ее юбки. Но когда Кристина попыталась продвинуться выше колен, она столкнулась с сопротивлением настоятельницы, не желавшей расставаться со своим трофеем. Это была серьезная проблема. И тогда Кристина переменила тактику: очевидно, не могло быть и речи о том, чтобы раздвинуть ноги настоятельницы силком, как будто взламывая дверь; нужно было отыскать хитрый ключик, с помощью которого дверь мягко распахнется сама. И тогда послушница собрала всю свою смелость, нежно приникла к своей настоятельнице и поцеловала ее в губы. Когда Кристина почувствовала, что мать Мишель покорна ее воле, она, не прерывая поцелуя, прикоснулась к грудям аббатисы и принялась ласкать их так, как это умеют делать только женщины, – задерживаясь на тех местах, возбуждение которых было бы приятно и ей самой. Затем Кристина, лежавшая на аббатисе, сделала неожиданный переворот, и ее лоно очутилось прямо перед лицом старшей монахини, а ее собственное лицо легло поверх юбки, рядом с тетрадью. Только тогда настоятельница раздвинула ноги, наконец расставаясь с этими драгоценными записями. Но теперь Кристине предстояло перешагнуть через последние барьеры. Это была цена, которую она согласилась заплатить за свои записки. Кристина никогда прежде не прикасалась к лону другой женщины; однако, располагая сведениями о своем собственном строении, она в точности знала, как обращаться с женским телом, чтобы доставить ему максимальное удовольствие. Так она и поступила. А еще Кристине не осталось ничего другого, кроме как позволить аббатисе проделать то же самое с ней самой – а познания этой женщины в искусстве наслаждения были прямо пропорциональны ее возрасту и ее мудрости. Изнемогая от собственных стонов, две женщины полностью отдались друг другу – пока одновременно не достигли экстаза, а вслед за этой вспышкой на них снизошла усталость от хорошо исполненной работы.
Удовлетворенная и наконец-то успокоенная, мать Мишель оделась и вышла из комнаты – с бессонницей теперь было покончено. Кристина прижала тетрадь к груди и так и заснула – в надежде, что наутро начисто забудет о происшедшем.
20Лирей, 1347 год
Жоффруа де Шарни был неоригинален в своем стремлении любыми способами завладевать священными предметами. На самом деле охота за реликвиями восходит к эпохе Амвросия, епископа Миланского, к 300 году. Если в Риме сохранялись останки Петра и Павла, если в Константинополе были Андрей, Лука и Тимофей, если в Иерусалиме нашли голову Иоанна-Крестителя, цепи, которыми истязали Павла, и даже крест Господень, то чем же хуже его город? Интерес Амвросия к святыням граничил уже с болезненностью. За время его пребывания в сане епископа находки сыпались как из рога изобилия – и если не все они, то большая их часть были грубой подделкой: епископа Миланского приводили в восхищение гвозди, пронзившие плоть Христову, а Елена, мать императора Константина, превратила их в украшения для своего скипетра. Этот культ начал принимать обличье суеверия, и пресвитеру Вигиланцию пришлось даже объявить почитание реликвий идолопоклонничеством. Светские власти озабоченно наблюдали, как множится число могил святых – это было делом рук монахов, которые без зазрения совести разделывали тела на части и продавали, словно речь шла о коровьих тушах. Монахи зашли так далеко, что император Феодосий был вынужден издать указ, гласивший: «Захороненные тела нельзя ни расчленять, ни перемещать. Запрещается покупать, продавать или делать предметом какого-либо торга останки мучеников». Вот именно это и стремился предотвратить Анри де Пуатье. Всякий раз когда Жоффруа де Шарни заводил речь о возможности разместить в новой церкви величайшую реликвию всего христианского мира, епископ города Труа занимал осторожную позицию Вигиланция и Феодосия, осуждавших могильный фанатизм Амвросия. Однако и Жоффруа де Шарни, и его предшественник, епископ Миланский, знали, что гораздо проще проникнуть в сердце толпы с помощью суеверия и доверчивости, чем с помощью веры – через магию, а не через слово Священного Писания. Как только были свергнуты языческие боги древности, они превратились в ужасных демонов, заставлявших трепетать мнительные души. А потому останки святых представляли собой надежную защиту от дьявольских порождений, таившихся в сумерках. Чем больше реликвий удавалось накопить в церкви, тем больше становилось число прихожан, каждый день приникавших к ней под крыло. Жоффруа де Шарни напоминал епископу, что на могилах святых возводились целые соборы, что одно-единственное ребро какого-нибудь мученика способно привлечь многотысячные толпы. Но прелату даже не интересно было знать, какой именно реликвией обладает, по его словам, герцог. А ведь Жоффруа де Шарни, не имевший в своих руках пока что даже подделки, уже полагал себя обладателем той самой плащаницы, что покрывала тело Христово. Итак, видя, что все разговоры с Анри де Пуатье ни к чему не ведут, герцог решил двигаться дальше по намеченному плану и уже со святыней в руках добиваться разрешения на постройку церкви – если потребуется, то и у самого Папы.
Прежде чем привлекать к работе художника, герцог, запершись в своем доме в Лирее, принялся раздумывать, как же должна выглядеть эта плащаница. В первую очередь она должна нести в себе дыхание чуда: так же, как на мифическом Эдесском плате и на полотне, только что виденном им в Овьедо, на ней должен быть запечатлен образ Христа. Но его плащаница должна затмить собой невразумительное Овьедское полотнище; с другой стороны, для создания эффекта правдоподобия ей требуется поддержка истории. По замыслу герцога, как только святыня будет выставлена на обозрение, люди тотчас же поверят, что это и есть прославленный mandylion из Эдессы и что герцог завладел им с помощью геройских подвигов в бытность свою рыцарем-тамплиером – каковым он в действительности никогда не являлся. Но тут возникала серьезная проблема: по всем свидетельствам, на этом загадочном Эдесском полотне был запечатлен только Христов лик. На этот счет споров не возникало: само существование этой утраченной турецкой плащаницы могло вызывать сомнения, однако, даже если все рассказы о ней были мифами, они единодушно свидетельствовали, что платок покрывал только лицо Христа. А Жоффруа де Шарни не собирался довольствоваться малым. Он должен был предоставить людям Сына Божьего в полный рост. И вдруг герцога озарило: из самой неприемлемости выбора возникла идея, примирявшая обе возможности. Этот лик Христа, запечатленный на ткани, который, если верить слухам, видели во время осады Эдессы, должен быть не платком, а широким полотном, но свернутым так, что было видно только лицо. Герцог взял со стола большой лист бумаги и, неумело черкая углем, изобразил на нем человеческую фигуру. Потом он начал сворачивать и разворачивать бумагу, пока не добился того, что на виду осталось только лицо. Для этого понадобилось сложить лист в четыре раза. Вот она, направляющая идея, подумал про себя герцог. Таким образом, мифический эдесский mandylion превратился в саван, полностью покрывавший тело Христово. Герцог подумал о фреске в одной авиньонской церкви, которая когда-то сильно его взволновала. Это был диптих: на одной части было запечатлено снятие Иисуса с креста, а на другой изображалось, как Иосиф Аримафейский оборачивает тело Христа полотнищем. Герцог вспомнил, что этот кусок ткани на фреске столь обширен, что охватывает все тело целиком. Спина Иисуса покоилась на полотне, ткань загибалась над его головой и покрывала его спереди, до самых ступней. Если Христова плащаница и вправду была такой, как изображалась на фреске, это создавало определенные трудности, однако давало и немалые преимущества. В таком случае полотно должно быть по меньшей мере в два раза длиннее. Жоффруа де Шарни снова принялся неумело рисовать человеческую фигуру – теперь на самом большом куске бумаги – и убедился, что теперь, чтобы на виду осталось только лицо, бумагу придется перегибать восьмикратно. Но такая стопка ткани будет слишком плотной, ее невозможно в течение длительного времени выдавать за обычный платок, подумал герцог. И все-таки для него такой вариант несказанно полезен: теперь на ткани отпечатается не только лицо Христа, как на платке в Овьедо, а все тело целиком, спереди и сзади. Такое изображение куда более красноречиво, поскольку являет собой диптих как бы из двух портретов – Иисус к нам лицом и Иисус к нам спиной; впервые Господь показан во всей своей полноте, таким, каким он и был. Сердце герцога забилось чаще от одной только мысли об этом. Если бы он обладал способностями художника, то начал бы работу прямо сейчас, своими собственными руками, чтобы никто, кроме него, не узнал о тайне плащаницы. Однако ему требовался художник, и уж конечно, чрезвычайно одаренный. Теперь так: каким образом фигура Христа запечатлелась на полотне? Разумеется, чудесным образом. Но как может выглядеть чудо, сотворенное с куском ткани? Это должно быть нечто пленяющее, доселе невиданное. Жоффруа де Шарни быстро отбросил мысль о нанесении: на полотно крови или иной субстанции, схожей с ней по виду. На то имелось две причины: во-первых, кровь являлась веществом физическим, а это могло наложить отпечаток на метафизический характер чуда; и во-вторых, могли возникнуть предположения, что плащаница – это всего лишь подражание полотну из Овьедского собора. Герцог расстелил на полу плащаницу, купленную им у торговца с площади, и в очередной раз подверг ее тщательному осмотру: Жоффруа де Шарни убедился, что это столь грубая подделка, что она может послужить ему примером, как не следует поступать. Работа художника была до такой степени очевидной, что можно было различить даже отдельные мазки. Черты лика Христова были в точности скопированы с изображения, впервые появившегося в Византии, а потом навязчиво воспроизводившегося в бесчисленном количестве картин, скульптур и барельефов. Цвета были слишком яркими и реальными, чтобы свидетельствовать о чудесном событии; этот рисунок никоим образом не производил впечатления Божественного творения, если даже предположить, что Господь снизошел бы до такого банального занятия в сравнении с его высочайшими помыслами. Герцог решил про себя, что плащаница, которую он собирается изготовить, не должна напоминать картину, не должна рассматриваться как произведение искусства или провоцировать на какие-либо эстетические суждения – она должна быть выполнена в неподражаемой, ни с чем не сравнимой технике. Это должно быть творение такой природы, чтобы созерцающий его проникся ощущением чуда.
Чтобы незамедлительно приступить к делу, герцогу требовался подходящий кусок ткани. Это было задачей не из легких, так как старинные полотнища, тканные в Палестине, сильно отличались от тех, что можно было купить в лавке. А даже такую деталь не следовало упускать из виду, поскольку Жоффруа де Шарни понимал, что на его «священную» плащаницу обрушится пристальный взгляд критиков, первый из которых – Анри де Пуатье. С другой стороны, полотнища с древнего Ближнего Востока имели ярко выраженные особенности и различались между собой; точнее говоря, производству тканей уделялось такое значение, что города давали свое название материалам, которыми они славились: из Газы происходили платки, в которые обычно оборачивали покойников; полотна под названием «фустан» были родом из деревни Фустат близ Каира; «Дамаск» обязан своим именем сирийскому городу; mussolina, он же муслин, привозили в Европу из персидского города Мосул; baldacco – это итальянизированное название Багдада, отсюда и балдахин – это маленькое алтарное покрывало; тафтан производили в Тафте, а табис, хорошо известный во Франции, происходил из пригорода Аттабийи. Герцог, преданный почитатель реликвий, хорошо знал, что материал и его фактура позволяли с легкостью обнаружить фальшивку. Однако раздобыть старинную обработанную ткань из Палестины было делом непростым.
Венеция, 1347 год
Чтобы приобрести заветный платок, Жоф-груа де Шарни предпринял путешествие в Венецию. На то были две причины. Первая – желание остаться незамеченным, поскольку в Труа и в Лирее герцог был человек известный, и он не мог сначала купить ткань, а затем предъявить ее в качестве реликвии под носом у торговца, который ее ему продал. Вторая причина состояла в том, что Город Каналов являлся не просто крупнейшим центром торговли – здесь чувствовалось сильное влияние Византии, здесь можно было раздобыть ткань из любой точки Ближнего или Среднего Востока. На рынке возле площади Святого Марка Жоффруа де Шарни приобрел у сирийского торговца газовое полотно; герцог сильно сомневался в правильности этой покупки, поскольку ткань была слишком тонкой выделки – вряд ли такой стали бы покрывать тело сына плотника. Потом герцог обратил внимание на деревенскую ткань неясного происхождения, простая фактура которой придавала ей действительно древний вид. В конце концов, совершенно растерявшись посреди вороха платков и цветастых ковров, французский герцог обнаружил льняное полотнище, выделявшееся на фоне всех прочих своей строгой белизной. Жоффруа де Шарни подумал про себя, что именно такое полотне мог приобрести Иосиф Аримафейский. Однако более пристальный осмотр показал, что уток сплетался с основой весьма хитроумным способом в отличие от простого переплетения крест-накрест, как это делалось в эпоху Иисуса. Несмотря на то что это полотнище было соткано слишком современным способом и его было невозможно выдать за продукт ткацкого станка из древней Палестины, в которой представления об утке и основе были самые элементарные, Жоффруа де Шарни сказал себе, что теперь у него есть три превосходных куска ткани, и отправился в обратную дорогу, довольный своими покупками.
Теперь предстояло определить самое важное: как будет выглядеть Иисус. Этот вопрос только казался несложным – на поверку выяснилось, что вопрос о внешности Христа на плащанице таит в себе немало проблем.