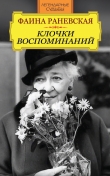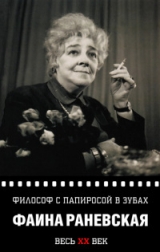
Текст книги "Философ с папиросой в зубах"
Автор книги: Фаина Раневская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
– Бог мой, что с вами? Почему вы плачете?
– Я так любила, так любила Вас весь вечер… – горестно вздохнула Раневская, продолжая рыдать.
Знаменитый артист пристально посмотрел на Фаину, тогда еще никому неизвестную в Москве фигурантку (так называют актрису, играющую маленькие роли без слов. – Ред.), и убежденно, взволнованно сказал:
– Запомните эту девушку, друзья мои… Она всенепременно, всенепременно станет великой актрисой!
Фаина Георгиевна называла Певцова своим учителем. С великой благодарностью вспоминала его: «…он любил нас, молодых… Он внушал нам, что настоящий артист обязан быть образованным человеком. Должен знать лучшие книги мировой литературы, живопись, музыку.
Я в точности помню его слова, обращенные к молодым артистам: «Друзья мои, милые юноши, в свободное время путешествуйте, а в кармане у вас должна быть только зубная щетка. Смотрите, наблюдайте, учитесь».
Он убивал в нас все обывательское, мещанское. Он повторял: «Не обзаводитесь вещами, бегайте от вещей». Ненавидел стяжательство, жадность, пошлость. Его заветами я прожила долгую жизнь».
Все мужчины таковы
Всю жизнь Раневская была одинока и по большому счету несчастна: ни семьи, ни детей. Замуж Фаина Георгиевна так и не вышла, возможно, потому, что считала себя хоть и обаятельной, но некрасивой. С горечью она говорила: «Моя внешность испортила мне личную жизнь». А может, слишком горестными были ее редкие увлечения мужчинами… На вопрос, почему она никогда не была замужем, Раневская отвечала, что «от представителей противоположного пола ее удивительным образом тошнит».
В молодости (дело было еще до революции) с Раневской в Баку произошел такой конфуз. Поздним вечером, когда она возвращалась из театра, на темной аллее парка к ней пристал какой-то подвыпивший гуляка и начал откровенно заигрывать, видимо, приняв за уличную кокотку. Пытаясь избавиться от навязчивого кавалера, Фаина Георгиевна воскликнула: «Мужчина, вы, наверное, обмишулились. Я старая, некрасивая женщина. У меня уже дети вашего возраста. Как вам не стыдно!» Повеса обогнал Раневскую, внимательно посмотрел в лицо, теперь хорошо видное в свете уличного фонаря, и произнес: «Вы правы. Дико извиняюсь!»
– Какой подлец! – восклицала Раневская, рассказывая это случай. – Впрочем, все мужчины таковы!
Первое свидание
Раневская уверяла, что на амурном фронте ее всегда преследовали неудачи. Хотя в молодости, по словам актрисы, представители сильного пола часто назначали ей свидания. Вот одна из записочек, полученная Раневской от кавалера во время выступления в одесском театре (дело было в годы революции) – на обороте программки было написано: «Артистке в зеленой кофточке. Жду у фонтана на Греческой в полночь. Попробуй только не прийти!»
Фаине было лет четырнадцать-пятнадцать, когда ее пригласили на первое в ее жизни свидание. Она по уши влюбилась в одного гимназиста. Как рассказывала сама Раневская, тот сразил ее фуражкой, под козырьком которой красовался великолепный герб гимназии, а тулья по бокам была опущена и лежала на ушах. Это великолепие, по словам Фаины, сводило ее с ума. И вот однажды красавчик-гимназист милостиво назначил «малявочке» рандеву. Раневская понеслась на крыльях любви к условленной скамейке в парке и… вместо кавалера обнаружила на ней смазливую девчонку. Как оказалось, свою соперницу. Та потребовала, чтобы Фаина немедленно удалилась – как третья лишняя. Девочки долго препирались, кому из них гимназист назначил рандеву. Явился, наконец, сам юный Дон-Жуан, нисколько не смутившийся при виде их обеих. Гимназист нагло уселся на скамейку между девочками и принялся что-то весело насвистывать. А соперницы рьяно продолжали отстаивать свои права. Фаина заявила, что не тронется с места: «Здесь мне назначено свидание! Я костьми лягу, а никуда не уйду».
Наконец, юный ловелас соизволил сделать свой выбор. И, увы, не в пользу нашей героини. Гимназист и смазливая девчонка о чем-то немного пошептались, после чего соперница подняла с земли несколько увесистых камней и стала кидать в Фаину под одобрительное улюлюканье кавалера. Раневская заплакала и ретировалась с поля боя… Впрочем, тут же нашла в себе силы, чтобы вернуться и ответить обидчикам. Она гневно выкрикнула им в лицо: «Вот увидите, вас Бог накажет!» И ушла, полная собственного достоинства.
Амур был в стельку пьян
Когда однажды Раневскую спросили, была ли она когда-нибудь влюблена, актриса рассказала произошедший с ней трагикомический случай, который напрочь отбил у нее охоту не только влюбляться, но даже и смотреть на «этих гадов и мерзавцев» мужчин. История эта относится ко временам начала ее артистической карьеры. Лет в девятнадцать-двадцать она поступила в труппу какого-то провинциального театра. И тут же влюбилась. И не в кого-нибудь, а в первого красавца труппы, по которому сохла вся женская половина творческого коллектива! Разумеется, он был невозможным бабником, как и положено актеру с амплуа «герой-любовник». Она же, по ее признанию, даже в молодости сторонилась мужчин, поскольку была «страшна, как смертный грех». Фаина влюбилась как кошка: тенью ходила за красавцем, таращила на него глаза… А он, понятно, обращал на нее ноль внимания… Но однажды герой-любовник вдруг подошел к Раневской и нежно прошептал на ушко: «Милашечка, вы ведь возле театра комнату снимаете? Так ждите меня сегодня вечером: буду к вам часиков в семь».
Ликующая Раневская тут же побежала к антрепренеру, заняла денег в счет жалования, отпросилась домой, накупила вина, всякой вкусной еды, надела свое любимое зеленое платье (к рыжим волосам), накрасилась, напудрилась… Сидит и ждет… Час ждет, другой…
Наконец, часов около десяти вечера, заявился наш герой-любовник, в дымину пьяный, потрепанный, в обнимку с какой-то крашеной шлюхой.
– Милочка, – заикаясь, сказал он Фаине, – погуляйте где-нибудь пару часиков…
«Вот это была моя первая и последняя любовь», – утверждала Раневская.
Гусарское достоинство
И действительно, о «романтической» стороне жизни великой актрисы неизвестно почти ничего. О своих увлечениях Фаина Георгиевна предпочитала не распространяться. Однажды призналась: «Все, кто меня любил, не нравились мне. А кого я любила – не любили меня». Может, поэтому она называла свою судьбу «шлюхой»?
По утверждению биографа Раневской Алексея Щеглова (она называла его своим «эрзац-внуком»), серьезные увлечения мужчинами у нее все-таки были. Известно, что Раневская симпатизировала певцу Георгу Отсу и маршалу Ф. И. Толбухину. Когда Раневская в 1947 году приехала в Тбилиси на гастроли, Федор Иванович, командовавший в то время Закавказским военным округом, пригласил ее на прогулку по старому городу. По дороге актриса рассказывала ему уморительные истории о том, как на тбилисской киностудии снимали комедию по рассказу ее земляка Чехова. 27 августа в ресторане в районе Мтацминда они отпраздновали, как признавалась Фаина Георгиевна после, самый веселый день рождения в ее жизни. Никогда еще она не чувствовала себя такой счастливой.
На каждом углу судачили об их романе. Но Раневская опровергала все досужие слухи: «Федор Иванович просто дивный друг и собеседник!» О своем увлечении маршалом Раневская призналась близким только в последние годы своей жизни… Их роман прервала неожиданная смерть Толбухина в 1949 году.
…Хотя Фаина Георгиевна упорно молчала о своей личной жизни, как партизанка Зоя на допросе, какие-то пикантные истории все же дошли и до нас. Так гуляла байка о том, что в 1915 году у Раневской был любовник – гусар Мариупольского Императрицы Елизаветы Петровны полка.
Вот эпизод из их бурного романа, якобы в редакции самой Раневской:
«…Когда мы остались вдвоем, я уже лежу, он разделся, подошел ко мне, и я вскрикнула:
– Ой, какой огромный!
А гусар довольно улыбнулся и, покачав в воздухе своим достоинством, гордо сказал:
– Овсом кормлю!»
Понятно, байка – есть байка, какой с нее спрос?
Неизвестный Горький
Фаина Георгиевна оставила в своем дневнике весьма любопытную запись о великом пролетарском писателе, который завещал потомкам летать, а не ползать. Раневская в своей школьной тетрадке в клеточку записала следующее: «У души нет жопы, она высраться не может!» – это сказал мне Чагин со слов Горького о Шаляпине, которому сунули валерьянку, когда он волновался перед выходом на сцену. Он (Чагин. – Ред.) рассказал о деловом визите к Горькому. Покончив с делами, Г. пригласил Чагина к обеду. Столовая была полна народу. Горький наклонился к Чагину и сказал ему на ухо: «Двадцать жоп кормлю!»
В поисках святого искусства
Раневская утверждала: «Я переспала со многими театрами и ни разу не испытала чувства удовлетворения!»
В начале 1930-х годов Фаина Георгиевна становится актрисой Московского Камерного театра Александра Таирова. Знаменитый режиссер пригласил ее в спектакль «Патетическая соната» на роль Зинки-проститутки. Образ продажной девы, тоскующей о лучшей жизни, и вместе с тем сознающей невозможность вырваться из очерченного судьбою круга, был благодатным материалом для Раневской. Она продемонстрировала не только свой неистовый темперамент, но и зрелое мастерство актрисы, сочетавшее внешнюю характерность с точнейшими психологическими оттенками и деталями. Сыграв Зинку, Раневская «проснулась знаменитой» – о ней заговорила вся Москва. Сотни столичных проституток в 1931-м году брали штурмом Камерный театр, чтобы посмотреть не сам спектакль, – а на удивительную актрису, наделенную невероятным даром перевоплощения. Кто-то даже пустил слушок, будто Таиров вывел на сцену настоящую «жрицу любви» и она рубит правду-матку: «За всех за нас!»
Это была несомненная удача, однако все главные роли в театре на несколько лет были расписаны на жену Таирова – блистательную актрису и красавицу Алису Коонен. Словом, играть Раневской, кроме роли Зинки-проститутки, было нечего. Прослужив четыре года в Камерном театре (1931–1935), Фаина Георгиевна ушла в Центральный театр Красной Армии, где сыграла одну из знаменитых и возможно лучших своих театральных ролей – горьковскую Вассу Железнову. Но и здесь актриса надолго не задержалась. Она стала настоящей странницей по столичным театрам. За Центральным театром Красной Армии (1935–1939) последовал Театр драмы (ныне Театр им. Маяковского) (1943–1949), затем Театр им. Моссовета (1949–1955) и Театр им. А. С. Пушкина (1955–1963). Труппу последнего возглавлял талантливейший режиссер Борис Равенских. Но между двумя творческими личностями пробежала вдруг черная кошка… И Раневская опять вынуждена была вернуться к не слишком чтимому ей худруку Юрию Завадскому в Государственный академический театр им. Моссовета, где и прослужила до конца жизни (1963–1984).
Однажды в телевизионном интервью Раневская, со свойственной ей самоиронией, вспоминала свою насыщенную театральную жизнь и скитания по провинциальным и московским театрам. Известная тележурналистка Наталья Крымова спросила ее о причинах столь стремительной и частой смены творческих коллективов:
– Почему Вы столько раз переходили из одного театра в другой? Что Вы искали на новом месте?
В ответ Фаина Георгиевна многозначительно произнесла:
– Искала подлинное святое искусство.
– И что же нашли? – не унималась собеседница.
– Да.
– И где же?
– В Третьяковской галерее, – возвысив голос, торжественно произнесла Раневская.
Диагноз: психопатка
Раневская дружила с великим Таировым, который, по ее словам, был «не только большим художником, но и человеком большого доброго сердца». Александр Яковлевич словно предчувствовал, что его любимое детище – Камерный театр – вскоре закроют, ибо слишком смелые сценические поиски режиссера не вписывались в рамки официальной советской идеологии. Раневская вспоминала: «Однажды, провожая меня через коридор верхнего этажа, мимо артистических уборных, Александр Яковлевич вдруг остановился и, взяв меня за руку, сказал с горькой усмешкой: «Знаете, дорогая, похоже, что театр кончился: в театре пахнет борщом». Действительно, в условиях того времени технический персонал, работавший в театре безвыходно, часто готовил себе нехитрые «обеды» на электроплитках. Для всех нас это было в порядке вещей, но Таиров воспринимал это как величайшее кощунство. И в этом, казалось бы, незначительном, чисто житейском эпизоде, я увидела то, что нас, работавших с ним, всегда восхищало: его неизменно рыцарское, абсолютно бескомпромиссное отношение к искусству, которому он служил».
Раневская очень сопереживала Таирову, когда Камерный театр действительно закрыли, а режиссера подвергли унизительной антисемитской травле. В 1949 году во время кампании против «евреев-космополитов» Александра Яковлевича обвинили в «низкопоклонстве перед Западом», раскрыли его псевдоним (настоящая фамилия режиссера Корнблит. – Ред.), отстранили от руководства театром. Фаина Георгиевна рассказывала об ужасе в глазах Таирова, когда он прибегал к ней и растерянно спрашивал: «Везде висят мои афиши, расклеены по всему Тверскому бульвару, разве театр закрыт?!» Да, Камерный был закрыт, а на его месте появился другой театр – им. Пушкина – и уже с другим режиссером. Это сводило Таирова с ума, отбирало у него последние силы. Год спустя великий режиссер умер.
Раневская тяжело переживала смерть друга и учителя. У нее началась бессонница, перед глазами постоянно стоял ушедший Александр Яковлевич, она плакала все ночи напролет…
В итоге Фаина Георгиевна вынуждена была даже обратиться к психиатру.
Им оказалась пожилая усатая армянка мрачного вида. Она устроила Раневской настоящий допрос с целью выявить симптомы ее психического расстройства.
Позже Фаина Георгиевна остроумно изображала, как армянка с акцентом спрашивала ее:
– Ну, на что жалуешься?
– Не сплю ночью, плачу.
– Так, значит, не спал, рыдал?
– Да, все время плачу.
– Сношений был? – внезапно спросила армянка, впиваясь в Раневскую взглядом Горгоны.
– Нет, что вы, что вы!
– Так. Не спишь. Рыдал. Любил друга. Сношений не был. Диагноз: психопатка! – безапелляционно заключила врачиха.
Правда-матка
Как-то Фаина Георгиевна, прознав о том, что ее давний друг драматург Николай Эрдман отправляется в гости к самой Щепкиной-Куперник, напросилась пойти вместе с ним. Зная пристрастие Раневской к ненормативной лексике, Эрдман строго-настрого предупредил актрису о том, чтобы она в гостях тщательно следила за своей речью.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, замечательная писательница, драматург, поэтесса и переводчица, правнучка великого русского актера Михаила Щепкина, слыла образованнейшей, утонченнейшей женщиной своего времени, поборницей чистоты великого русского языка.
– Клянусь тебе, К-х-коленька, что я не пророню ни слова, – обещала другу Раневская.
Царственной Татьяне Львовне было в это время под шестьдесят, она перевела тогда кого-то из мировых классиков, то ли Шекспира, то ли Лопе де Вегу, то ли Ростана, и жила в полном достатке, содержа трех или четырех приживалок. За столом, который ломился от всякой всячины, разговор шел неторопливый и благопристойный. Фаина Георгиевна стоически молчала, не вмешиваясь в светскую беседу.
Как известно, в свои девичьи годы Щепкина-Куперник была страстно влюблена в Чехова. И разговор за столом, конечно, зашел об Антоне Павловиче.
Фаина Георгиевна вспоминала: «Я благоговела перед нею, согласно кивала, когда она завела речь о Чехове, о его горестной судьбе и ялтинском одиночестве, когда супруге все недосуг было приехать»…
Речь шла о вдове Антона Павловича Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой, пережившей великого писателя на 55 лет. Их шестилетний брак был исключительно эпистолярным – супруги написали друг другу по 400 писем, но Книппер ни дня не прожила с Антоном Павловичем. Писатель вынужден был из-за болезни поселиться в Ялте, а Ольга Леонардовна, примадонна Художественного театра, не торопилась к больному мужу, выискивая невероятные причины, из-за которых она, ну никак, не может оставить Москву. К тому же ходили упорные слухи об ее служебном романе с Немировичем-Данченко. В общем, все свидетельствовало о том, что Книппер вышла замуж за великого писателя исключительно из тщеславия. После революции Ольга Леонардовна сделала себе блестящую карьеру и нажила состояние на том, что она, дескать, официальная вдова Чехова.
Когда Щепкина-Куперник с гостями стала обсуждать персону Книппер, «градус» разговора за столом повысился, все немного завелись, единодушно осуждая Ольгу Леонардовну за наплевательское отношение к Антону Павловичу и вообще за легкомыслие. Ощутив опасность ситуации, Николай Эрдман обеспокоенно покосился на Раневскую, но было уже поздно.
– Татьяна Львовна, а ведь Ольга Книппер – бл…дь, – категорично заявила Фаина Георгиевна, – полнейшая бл…дь!
Рубанув правду-матку, Раневская сама обмерла от страха, подумав, что сейчас ей откажут от дома!
Все приживалки истово перекрестились, после чего каждая смиренно сказала:
– Истинно ты говоришь, матушка, бл…дь.
– Рот на замок! – прикрикнула хозяйка дома, и приживалки тут же смолкли. После чего изысканная Татьяна Львовна всплеснула ручками и очень буднично, со знанием дела воскликнула:
– И вправду, бл…дь, последняя бл…дь!..
Адский комбинат
На киноэкране Раневская впервые появилась уже в солидном 38-летнем возрасте, когда ее театральный стаж составил целое двадцатилетие. Первые попытки актрисы обратить на себя внимание кинорежиссеров были провальными. Как вспоминает сама Раневская, в начале 1930-х годов она собрала многочисленные фотографии, на которых была снята в десятках ролей, сыгранных в периферийных театрах, и отправила их на «Мосфильм». «Мне тогда думалось, что эта фотогалерея может продемонстрировать режиссерам мою способность к перевоплощению и поразить их, – признавалась актриса. – Я с нетерпением стала ждать приглашения на съемки, но была наказана за такую нескромность. Один мой приятель, который в то время играл в кино, чем вызывал во мне чувство черной зависти, вскоре вернул мне все снимки, сказав: «Это никому не нужно – так просили вам передать». Я возненавидела всех кинодеятелей и даже перестала ходить в кино».
И опять все решил счастливый случай. Однажды на улице Раневскую остановил улыбчивый молодой человек. Он признался, что ему безумно понравилась игра актрисы в спектакле Камерного «Патетическая соната», после чего он загорелся желанием, во что бы то ни стало снимать ее в кино. По словам Раневской, она так обрадовалась, что кинулась ему на шею… Этим молодым человеком оказался начинающий кинорежиссер Михаил Ромм, а фильм «Пышка» (1934), куда он пригласил сниматься Раневскую, был его первой самостоятельной режиссерской работой. Фаина Георгиевна сыграла небольшую роль аристократки госпожи Луазо. Фильм снимался в немом варианте (он был озвучен лишь в 1955 году), тем не менее, чтобы лучше прочувствовать образ госпожи Луазо, Раневская достала подлинник рассказа Мопассана и разучила несколько фраз на языке оригинала. И как блестяще, как убедительно сыграла Фаина Георгиевна! Особенно запоминается небольшой эпизод – госпожа Луазо с неподражаемым смаком ест курицу. Даже у сытого человека во время просмотра слюнки потекут – он наверняка бросится к холодильнику и начнет жадно жевать.
Однако, как вспоминала Раневская, съемки «Пышки» проходили в чрезвычайно сложных условиях. Киногруппе предоставили огромный, только что отстроенный, нетопленный, пахнущий сырой штукатуркой, павильон комбината «Мосфильм». От холода у актеров зуб на зуб не попадал. Постоянная суета, мучительно долгая установка света, шум аппаратуры, вечная неразбериха… – все это выводило актрису из себя. К тому же начальство Москинокомбината предоставляло для съемок «второстепенного» немого фильма только ночные смены. «С тех пор я, как сова, по ночам не сплю!» – жаловалась Раневская. Платье ей сшили из той же ткани, которой обтянули дилижанс, – пудового веса. К тому же заставили носить накладной живот и ягодицы. «Я чувствовала себя штангистом, месяц не покидающим тренировочный помост!» – с гневом восклицала актриса. После съемок в «Пышке» Раневская поклялась, что никогда не переступит больше порога этого ада!
Так непросто начинался многолетний роман актрисы с кинематографом.
Не имей сто рублей
Главную героиню в «Пышке» сыграла молодая актриса весьма скромного дарования Галина Сергеева (гораздо больше, чем своими ролями в кино и театре, она известна как жена великолепного тенора Ивана Козловского. – Ред.). Зато Сергееву природа наградила роскошным пышным бюстом четвертого размера. Рассказывают, что впервые увидев Галину в платье с глубоким декольте, Раневская, к удовольствию смешливого Ромма, выдала такую остроту:
– Да, не имей сто рублей, а имей двух грудей!
И Фаина Георгиевна не ошиблась: в следующем, 1935 году секретарь ЦИК и лучший друг Сталина Авель Енукидзе, известный ценитель прекрасного пола, лично включил Галину Сергееву в список актеров, достойных предоставления к почетным званиям. Свое неожиданное решение государственный муж объяснил так: «У этой артистки очень выразительные большие… глаза». И Сергеева всего в двадцать лет (!) стала заслуженной артисткой республики. Впрочем, дальнейшая ее судьба в кино не сложилась. Жизнь же Авеля Енукидзе закончилась и вовсе трагически. В 1937 году по личному распоряжению Сталина он был расстрелян, как враг народа.
Уличная слава
В картине «Подкидыш» (1939 г., режиссер Михаил Ромм) Раневская сыграла властную, командующую подкаблучником-мужем, немолодую женщину по имени Леля. Фаина Георгиевна виртуозно выстроила этот образ, заставив играть каждую деталь. Комедийность ее персонажа подчеркивала нелепая соломенная шляпа и необъятных размеров ситцевый зонт в руке.
Фильм «Подкидыш», как бы сказали сегодня, стал настоящим блокбастером того времени. За маленькую девочку, потерявшуюся в огромном городе, переживала вся страна. Фильм уже в первый год проката посмотрело свыше 35 миллионов человек. И своей популярностью картина во многом обязана таланту и остроумию Фаины Георгиевны. Сама же актриса считала роль Лели одной из самых незначительных в своей кинокарьере, а после неожиданного успеха буквально ее возненавидела.
Дело в том, что специально для своей героини Раневская выдумала несколько хлестких запоминающихся фраз. Всем наверняка запомнился знаменитый диалог Лели с ее забитым муженьком, бесподобно сыгранным актером Петром Репниным:
– Ты всегда поступаешь так, как ты хочешь, – ворчит наша бой-баба. – Ты всю жизнь меня терроризируешь. И этот человек клялся носить меня на руках!
– Но, Леля… – пытается вставить слово несчастный муженек.
– Уйди, зверь! Нет-нет, завтра же я уеду к маме навсегда!
– Леля! Послушай меня. Давай отдадим этого ребенка, – пытается остановить ее муж. – Уверен, тебя арестуют…
– Муля, не нервируй меня! – говорит Раневская-Леля своим неподражаемым голосом.
Последняя фраза стала настолько крылатой, что всю оставшуюся жизнь преследовала Фаину Георгиевну. Именно выражение «Муля, не нервируй меня!» первым вспоминали при знакомстве с актрисой. Раневская не могла и шагу ступить – за ней следом сразу же бросались мальчишки, выкрикивая придуманную, на свою беду, Раневской фразу…
Однажды на одной из центральных улиц Москвы – улице Горького (ныне Тверская. – Ред.) – актрису окружил целый отряд пионеров. Сорванцы в красных галстуках дружно стали скандировать опостылевшую фразу из «Подкидыша»: «Муля, не нервируй меня!» Раневская не выдержала и скомандовала им в ответ: «Пионэры, стройтесь попарно и идите в жопу!»
В своем дневнике в 1948 году Фаина Георгиевна записала: «Встретила Корнея Чуковского. Шли по Тверскому. Меня осаждали как всегда теперь ненавистные, надоевшие школьники. Чуковский удивился моей популярности. Я сказала ему, что этим ограничивается моя слава – улицей, а начальство не признает…»
Кстати, не меньший шквал популярности обрушился и на второго участника знаменитой сцены из «Подкидыша». Актера Петра Репнина тоже долгие годы дразнили Мулей, поскольку именно он сыграл этого персонажа. Актеру нельзя было пройти и шага по улице незамеченным. За ним непременно увязывалась толпа мальчишек, а поклонницы томно шептали ему на ушко: «Му-у-уля…»
Товарищ, которая «всегда разная»
Иосиф Виссарионович Сталин обожал фильмы с участием Фаины Раневской. «Подкидыш» он мог смотреть без конца. По его словам, эта картина поднимала ему настроение на весь день.
Однажды ночью Фаину Георгиевну разбудил звонок. Это был ее хороший знакомый, великий режиссер Сергей Эйзенштейн. Его голос в трубке звучал необычно торжественно и взволнованно:
– Фаина Георгиевна! Вы бы знали! Слушайте меня внимательно. Я только что из Кремля. И как Вы думаете, что сказал о Ваших работах в кино сам Иосиф Виссарионович?!
Оказалось, Эйзенштейн был на одном из знаменитых ночных просмотров в кремлевском кинозале «вождя народов». После сеанса Сталин произнес короткую хвалебную речь:
– Вот товарищ Жаров замечательный актер… Правда, даже если подкрасится, понаклеит усики, бакенбарды или нацепит бороду, все равно сразу видно, что это товарищ Жаров. А вот товарищ Раневская ничего себе не наклеивает и все равно всегда разная…
Хулиган Брежнев
Фотографию Леонида Ильича Брежнева Раневская аккуратно вырезала из газеты и повесила у себя дома над кроватью.
Актриса так объясняла свой «верноподданнический» поступок:
– Он такой добрый.
Когда Брежнев вручал Фаине Георгиевне в 1976 году в связи с 80-летним юбилеем орден Ленина, то вместо приветствия, улыбаясь, прошамкал: «А вот идет наша Муля, не нервируй меня!» Раневская со свойственной ей прямотой выговорила главному коммунисту страны за это, погрозив пальчиком: «Леонид Ильич, как вам не стыдно, так говорят только хулиганы и мальчишки!» И что же? Всесильный генсек покраснел от смущения и искренне принес свои извинения великой актрисе. А потом признался, что просто по-человечески очень ее любит.
«Он такой добрый», – не уставала повторять Фаина Георгиевна.
Экскурсия в баню
Главную героиню фильма «Подкидыш» – непоседу Наташу – сыграла 5-летняя Вероника Лебедева. Как она вспоминала много времени спустя, Раневская частенько выходила на съемочную площадку в дурном настроении, капризничала, выражала недовольно своей игрой и игрой партнеров. И отчасти ее нервозность можно понять. На съемках фильма актеры работали в плотном окружении зрителей, так как милиции не удавалось справляться с толпищами зевак. «У меня лично было такое чувство, что я моюсь в бане, и туда пришла экскурсия сотрудников из Института гигиены труда и профзаболеваний», – язвила Раневская, описывая съемки «Подкидыша».
Исторические бусы
Режиссеру фильма «Подкидыш» Татьяне Лукашевич приходилось мириться с капризами гениальной актрисы. Как рассказывала Вероника Лебедева, однажды, когда Раневская была сильно не в духе, Лукашевич даже обратилась за помощью к маме девочки, постоянно сопровождавшей ее на съемках. «Подойдите, пожалуйста, к Фаине Георгиевне и скажите, что она сегодня хорошо выглядит! Иначе Раневская точно сорвет мне съемки», – взмолилась кинорежиссер. Добрая женщина подошла к великой актрисе и сделала ей комплимент. Как всегда расстроенная чем-то, Раневская в ответ лишь снисходительно кивнула ей: «Спасибо, милочка, мне очень приятно». И тут Фаина Георгиевна случайно заметила у женщины на шее бусы – это была обыкновенная стекляшка, бижутерия, красная цена которой в воскресенье на базаре – три рубля. Однако Раневской вещица так понравилась, что она непременно захотела ее заполучить. Актриса заявила не терпящим возражения тоном: «Б-буду сниматься только в этих бусах!»
Ну, что тут было поделать? Капризов Раневской на съемочной площадке боялись как чумы. Мама Вероники, не раздумывая, сняла с шеи бусы и отдала их великой актрисе. И теперь Леля в фильме щеголяла только в них. Так эти обыкновенные бусы вошли в историю.
Спекулянтка Муля
Летом 1941 года Раневская вместе с семьей Павлы Вульф уехала в эвакуацию в Ташкент. Они поселились в частном доме. Жилось в Ташкенте трудно и голодно, несмотря на то, что актерам полагались продуктовые пайки. Фаина Георгиевна снималась в массовке в кино – пыталась хоть что-то заработать. Но денег все равно катастрофически не хватало. Однажды, когда они с Павлой Леонтьевной остались совсем без средств, Раневская решила продать чего-нибудь из одежды и понесла вещи в комиссионный магазин. Ей бы отправиться на барахолку, где обычно и сбывали такой товар, но Раневская хотела, чтобы все было по закону. Однако у входа в комиссионку к ней подскочила бойкая «перекупщица», предложившая приобрести вещи по более выгодной цене, чем дадут в магазине. И Раневская в «приступе предприимчивости» согласилась. Но едва она достала товар из сумки, как рядом с ней сейчас же материализовался страж порядка: молодой узбек-милиционер. И «спекулянтку» на глазах многочисленных зевак повели в отделение. Сгорая от стыда, Раневская изо всех сил старалась делать вид, что они со служителем порядка просто идут куда-то вместе и при этом непринужденно по-дружески общаются.
– Он идет решительной, быстрой походкой, – рассказывала Раневская, – а я стараюсь поспеть за ним, попасть ему в ногу и делаю вид для собравшейся публики, что это просто мой хороший знакомый… Но вот беда: ничего не получается, – он не очень-то меня понимает, да и мне не о чем с ним говорить. И я стала оживленно, весело произносить тексты из прежних моих ролей, жестикулируя и пытаясь сыграть непринужденную приятельскую беседу…
Но несносная толпа детишек бежала за ней следом по тротуару и в упоении кричала: «Мулю повели! Смотрите, нашу Мулю ведут в милицию!» «Представляете, они радовались, они смеялись, – с негодованием восклицала Раневская. – Я поняла: они меня ненавидят!»
И заканчивала рассказ со свойственной ей гиперболизацией и трагическим изломом бровей:
– Это ужасно! Народ меня ненавидит!
Правда, благодаря такой народной «ненависти», милиционер тут же отпустил ее восвояси.
У каждого свой Муля
Именно здесь, в Ташкенте, во время войны Фаина Георгиевна познакомилась с великой Ахматовой. Впоследствии их с Анной Андреевной связали долгие годы преданной и нежной дружбы.
Раневская относилась к великой поэтессе с большим почтением и любовью. Называла ее «Раббе» или «Раббенька» (от слова «раввин») – за мудрость, понимание, отзывчивость. В своем дневнике Фаина Георгиевна писала: «Любила, восхищалась Ахматовой. Стихи ее смолоду вошли в состав моей крови». Биограф Анны Андреевны Анатолий Найман писал: «Почтение Раневской к Ахматовой было демонстративное, но не наигранное…» Она говорила своим «рыдающим басом с характерным очаровательным заиканием, что больше всех на свете чтит двух людей: «А-ханночку Андреевну» и «А-хантона Павловича», обоих боготворит, оба гении…»