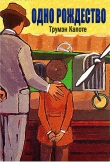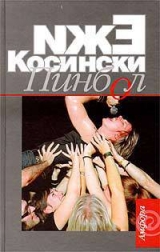
Текст книги "Пинбол"
Автор книги: Ежи Косински
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Донна бросила взгляд на Домостроя и тут же продолжила, словно не желала дать ему возможность вставить слово. В последующие недели она часто спрашивала Марчелло, отчего у него возникало желание возвращаться в "Смертельный зной" и заниматься там с нею любовью при посторонних.
– Марчелло рассказал мне, что он не такой, как большинство мужчин, предпочитающих справлять свои сексуальные нужды в уединении. Он способен достичь высот страсти, лишь занимаясь любовью в присутствии посторонних. Настоящее возбуждение от секса он чувствует не дома, где ничто и никто не разделяет их, а в местах, подобных "Смертельному зною", где близость или даже просто ее имитация постоянно подвергается опасности, испытанию – на сцене, на публике, чуть ли не в осаде.
"Смертельный зной" для него храм, где можно совершать экстатические ритуалы – как один на один со своей избранницей, так и в окружении сопереживающих зрителей. Заниматься там любовью, говорил он, это словно ходить по проволоке без сетки внизу. Даже предвкушение визита в "Смертельный зной" возбуждает его. Он часто воображал совершенно особенную ночь: или множество «евнухов» – одиноких покорных мужчин – преклоняют передо мной колени по его приказу и целуют мне ноги, или то же самое делают «каннибалы», которых в "Джем Сейшн" было больше всего, – сладострастных уродов, которых удерживает лишь его присутствие, но которые в любой момент готовы умыкнуть меня и, прежде чем Марчелло успеет меня отыскать, сделать со мной что угодно, как они часто поступают с другими мужчинами и женщинами, оставленными в лабиринте склепов "Смертельного зноя".
Собственно, я и жила-то с Марчелло так долго именно потому, что с ним начала ощущать себя более живой, чем когда-либо, а его воспринимать уже не как любовника, но стража, охраняющего меня от тьмы.
Марчелло непрерывно клялся, что любит меня, настаивая на том, что если я люблю его тоже, то не должна смущаться того, что мы проделывали в "Смертельном зное". Он говорил, что, хотя обладает там мною на глазах у множества людей, я не должна забывать, что это только глаза и ничего более. Между их телами и моим всегда находится его тело, а если они и касаются меня, то разве не касается меня песок, когда я лежу на пляже? Эти люди, говорил он, не более чем человеческий песок. Он убеждал меня, что в смысле секса я единственная женщина в его жизни, с которой он чувствует себя свободно.
Донна никогда не знала, где Марчелло бывает днем. Пока сама она занималась в Джульярде или готовилась к лекциям дома, он постоянно ездил куда-то по своей работе на видео, так что несколько ее попыток позвонить ему по номеру, что он дал, оказались неудачными: никто даже не снял трубку. В конце концов они договорились, что он переберется к ней, и, когда он приехал, ее поразило, как мало у него вещей – один костюм, несколько рубашек, две пары брюк, две пары туфель и набор туалетных принадлежностей. Неужели это все его имущество, удивлялась она. Потом она заметила, что у него никогда нет при себе кредитной карты, или автомобильных прав, или хотя бы записной книжки; ему никогда никто не звонит и не пишет. Когда она спросила об этом, Марчелло ответил, что он свободный художник, причем достаточно преуспевающий, чтобы не зависеть от столь прозаических вещей, как ежедневники или ежемесячные счета. Он сказал, что предпочитает платить наличными, и платил наличными за все, что покупал.
Он был неутомимым любовником, желание его было столь постоянным, оргазмы столь частыми, а семяизвержения столь обильными, что у нее никогда не возникало сомнений в его верности. Более того, она ни разу не обнаружила на нем ни малейшего следа каких-либо духов, помады или пудры, кроме своих собственных.
Но однажды Андреа Гуинплейн, сокурсница, пригласила ее и других студенток в квартиру Чика Меркурио, их общего дружка, посмотреть "Игру органа", порнографическую пародию на бродвейский мюзикл.
Как только начался фильм, на экране появился голый Марчелло – в титрах он значился Диком Лонго, – стоящий перед зеркалом в театральной гримерной и удовлетворяющий одной рукой себя самого, а другой невероятно толстую платиновую блондинку.
Потрясение оказалось столь неожиданным, столь убийственным, что какое-то время она отказывалась верить своим глазам. И все же осталась смотреть, как Дик Лонго проходит через вереницу жалких потаскух, демонстрируя свою, похоже, прославленную, способность изливаться на каждом повороте идиотского сюжета. В то время как Андреа со своим дружком и прочие студентки шумно реагировали на самые горячие эпизоды и обменивались грубыми шутками относительно телесных достоинств исполнителей, Донна постепенно сообразила, что это она, а не Дик Лонго является главным действующим лицом представления.
Когда снова зажгли свет, никто не подал виду, что узнал в Дике Лонго дружка Донны. Для пущего веселья Андреа принялась раздавать ксерокопии интервью с Диком Лонго из порножурнала, где звезда экрана признавался, что последние три-четыре года снимается ежегодно в сотнях порнографических сцен, и похвалялся, что не было ни одного рабочего дня, чтобы он не испытал по меньшей мере пары оргазмов – перед камерой, разумеется. Заметив, как поглядывают на нее украдкой другие студентки. Донна чувствовала себя раздетой, будто перед завсегдатаями "Смертельного зноя", все-таки умыкнувшими ее.
Замолчав, она посмотрела на Домостроя в ожидании какой-либо реакции, но он сидел абсолютно подавленный. Он гадал, правду ли ему говорила Андреа о том, что Донна продолжала жить с Марчелло и после того, как узнала о Дике Лонго. Если это правда, то что за нужда заставила ее наложить на себя подобное наказание?
Словно прочитав его мысли, Донна продолжила свой рассказ. После просмотра она вернулась домой и ждала Марчелло, чтобы разоблачить его. Она точно знала, что будет делать, когда он вернется, чистый, выбритый и эротичный, как всегда. Она схватит кухонный нож, самый длинный из всех, и, в ярости мстя за унижение, которому подверглась в глазах друзей, опозоренная тем, что была для него просто очередной настежь распахнутой дыркой, станет резать, и колоть, и рубить его, пока не перестанет дергаться и вздрагивать его тело, пока кровь не забьет ему легкие и не хлынет из горла.
Но когда он вошел, чистый, благоухающий одеколоном, щеголяющий новой прической и тут же потянулся к ней с поцелуем, точно так, как она это представляла себе, – ее хватило только на то, чтобы спросить, почему он никогда не рассказывал ей, что каждый день, покидая ее, отправляется трахать всех этих белых, и черных, и желтых сук, спереди и сзади, одну за другой, одну у другой, по команде, перед камерой, получая наличными за каждую эрекцию, за каждый оргазм, – и все это одновременно с заверениями, что любит ее?
Он ответил, что, как и говорил ей с самого начала, любит только ее. Он сказал, что трахать всех этих бесчисленных сук – его работа; что, когда он с ними, его член ничем не отличается от руки массажиста, и только с Донной он становится собой и способен преодолеть тот психологический барьер, который до встречи с ней непреодолимой преградой возвышался между ним и смертельным зноем его жизни.
Она не стала ни визжать, ни выгонять его, и еще несколько месяцев их отношения продолжались.
С неожиданной ясностью Донна осознала, что, пока они были вместе, именно она, не скрывая этого, наслаждалась тем, что могла ненадолго освободиться от комплексов и забыть о морали. Она поняла, что использовала его, чтобы испытать себя. И теперь, благодаря полученному опыту, она наконец-то чувствует себя сформировавшейся женщиной. Она сказала, что Марчелло был не более чем свидетелем этого процесса, а если точнее – просто одной из грязных лап, тянувшихся к ней из темных чуланов "Смертельного зноя".
Домострой всегда был уверен, что настоящая музыка рождается лишь при условии, что хороший композитор пишет не для других, а для себя самого. На самом пике своей карьеры он отказался от уступок и перестал писать так, как того желали критики, тогда они принялись яростно нападать на него за каждую новую работу. В результате от него отвернулась и публика – всегда переменчивая, а в век диско и телевидения в особенности. После широчайшей клеветнической кампании, развязанной против него и его музыки одной особенно враждебной кликой, лишенный творческой поддержки коллег, критиков и публики, он в конце концов перестал сочинять вообще, решив, что творчество его никому не нужно и не понятно.
Он понял, что нуждается в Донне, ибо, рассказывая о своей жизни, она открыла ему такую правду о нем самом, о которой он никогда не подозревал. Слушая ее, он понял, что его жизнь потеряет всякий смысл, если не будет заполнена Донной. Он чувствовал, что способен заполучить ее, используя какую-нибудь хитрую тактику, однако это казалось ему недостойным – все равно что писать музыку на потребу критиков или доказывать себе, что по-прежнему можешь их разозлить. Другой способ – добиваться ее прямо, без психологических уловок или контроля над собой, действовать, повинуясь внутреннему голосу, то есть именно так, как он когда-то писал музыку. Если таким он придется ей не по вкусу и потеряет ее, как однажды потерял критиков и публику, то по крайней мере не солжет ни ей, ни себе. Как говаривал его отец: "Когда идет дождь, бревно гниет, а корни врастают глубже". Домострою хотелось, чтобы у их отношений были здоровые корни.
В конце концов он решил оставить все на ее усмотрение. Он поблагодарил ее за искренность и сухо добавил, что был бы рад поговорить с ней о Варшавском конкурсе имени Шопена; возможно, при подготовке к выступлению ей пригодится какая-то частица его опыта. Она спросила, есть ли у него дома инструмент, и он ответил, что есть, да еще какой – концертный рояль, причем она может пользоваться им в любое время. Они договорились, что Донна приедет в "Олд Глори" на следующей неделе, в один из его выходных.
Когда наступил этот день, Домострой никак не мог успокоиться. Несколько раз он прошелся по "Олд Глори", стирая пыль с рояля, проверяя, достаточно ли на кухне алкоголя и льда, переставляя столы и стулья. На тот случай, если Донна согласится остаться на ночь, он поменял простыни и наволочки и повесил в ванной чистые полотенца.
За несколько часов до назначенного времени Домострой принял дополнительные меры предосторожности, дабы обеспечить безопасность Донны в этом небезопасном квартале. Он подъехал к ближайшей бейсбольной площадке и разыскал там главаря местной банды, именующей себя "Рожденные свободными". В одиночестве пребывая в "Олд Глори", Домострой регулярно платил им за покровительство, хотя знал, что владелец этого заведения, живущий в Майами, ежемесячно отстегивает своим старым приятелям из полиции Южного Бронкса, дабы те глаз не спускали с его залежавшегося имущества. Но по личному опыту он также знал, что банда "Рожденных свободными", которую местные жители переименовали в "Рожденных прожженными", после захода солнца становится полновластным хозяином здешних трущоб. Не желая рисковать, Домострой явился со своим платежом несколькими днями ранее положенного.
Не то чтобы все это обеспечивало полную безопасность – несколько раз было так, что, возвращаясь поздно вечером домой, Домострой замечал, что за ним кто-то наблюдает из углублений в стенах или зарослей кустарника. Он прекрасно понимал, какую легкую добычу представляет собой, и никогда не знал, были это "Рожденные свободными" или чужаки, пользующиеся отсутствием поблизости местных бандитов.
Услышав, что в ворота въезжает машина, он почти не сомневался в том, кто сегодня к нему пожаловал. Донна приехала минута в минуту. Домострой видел в окно, как ее маленький белый спортивный автомобиль пересекает пустую стоянку, оставляя за собой шлейф пыли. Он вдруг вспомнил, что Южный Бронкс – родина Донны, так что она, возможно, ориентируется в этом лабиринте аллей, улиц и переулков лучше, чем он.
Она смутилась, когда он приветствовал ее. Он пожал ее прохладную крепкую руку, и она, подавшись вперед, поцеловала его в щеку. Когда губы ее коснулись его лица, а груди на миг прижались к его груди, Домострой испытал трепет восторга, такой же краткий, как и ее поцелуй, однако и этого было достаточно, чтобы лишиться самообладания. С огромным трудом скрывая возбуждение, он жестом пригласил ее к бару, сообщив, что когда-то здесь каждый вечер собиралось до двух тысяч гостей, и провел по огромному танцевальному залу, ни словом не упомянув о существовании узкого коридорчика, примыкавшего к кладовым и ведущего в его скромное жилище.
Оказалось, что она привезла с собой ноты и хотела, чтобы он послушал ее игру. Большой концертный рояль на сцене танцевального зала годился для этого как нельзя лучше. Домострой поднял крышку и спросил, умеет ли она, учитывая плачевное состояние большинства роялей, сама настраивать инструмент. Донна призналась, что всегда полагалась на помощь профессионального настройщика.
Домострой предупредил, что концертный рояль – это не кровать, которую может застелить любая горничная, так что, если она решит ехать в Варшаву, ей следует научиться приводить в порядок любой рояль, особенно же тот, который ей предоставят для выступления, дабы быть уверенной в плавности звука и окраске тона каждой клавиши. Ей необходимо также быть уверенной в левой педали, а что касается настройки рояля, то она должна уметь делать это сама или хотя бы с помощью настройщика.
Домострой объяснил ей, что настройщики, как и музыкальные критики, люди упрямые и неподатливые. Они могут морочить ей голову, заявляя, что, мол, поскольку они не пытаются учить ее играть на рояле, то и она не вправе учить их, как настраивать инструмент. Однако здесь следует проявить твердость. Еще он сказал, что даже если ей покажется, что с роялем все в порядке, пусть отойдет от него подальше и послушает снова. Многие пианисты считают табурет единственным подходящим местом для оценки звучания инструмента, но Домострой уверен, что они глубоко ошибаются. Независимо от того, где ей придется играть в будущем – в лучших концертных залах мира или же акустически менее пригодных помещениях, – она всегда должна попросить настройщика поиграть, когда она находится в шестидесяти футах от рояля, что соответствует четырнадцатому ряду, ибо только в этом случае она сможет понять, как слышит инструмент публика; и если звук недостаточно хорош, настройщик обязан довести его до совершенства.
Такая проверка абсолютно необходима, говорил Домострой, потому что физические характеристики концертного зала – размер и форма сцены, наклон стен и потолка, а также способность их поверхностей к поглощению или отражению – серьезно влияют на реверберацию и распространение звука.
Готовясь к встрече с Донной, Домострой нарочно оставил несколько мелких погрешностей в настройке и теперь с удовольствием отмечал, как сноровисто распознала их Донна и, следуя его инструкциям, внесла необходимые изменения. Она почти прижималась к нему, когда склонялась над внутренностями фортепьяно, чтобы увидеть, как он обращается с ключом для настройки, проверяя положение каждого молоточка и состояние войлока, его покрывающего. Близость ее тела возбуждала Патрика. Во рту у него пересохло, и, чтобы отвлечься, он стал демонстрировать настройку еще более дотошно.
Наконец Домострой сказал, что, прежде чем она начнет играть, он хочет сделать еще одно замечание. Впервые услышав ее игру у Джерарда Остена, он обратил внимание на то, как она использует педали, – хотя и самобытно, но временами неуверенно. Возможно, ей сможет помочь точка зрения Домостроя на роль педалей при исполнении музыки Шопена.
Донна промолчала, и он пустился в объяснения. Он напомнил ей, что, хотя Шопен никогда не отмечал в нотах использование левой педали, однако лучше многих других композиторов понимал, насколько важны педали для окраски звука фортепьянных пьес. Умелое использование педалей позволяет пианисту добиться богатства и разнообразия оркестровки. Однако, предупредил Домострой, пианисты, злоупотребляющие педалями или использующие их для того, чтобы скрыть недостаточную беглость пальцев и силу удара, лишь привлекают внимание к своим недостаткам, ибо малейшая погрешность в технике становится виднее при неуместном использовании педалей.
Затем он попросил ее сыграть несколько пьес, в полном объеме демонстрирующих использование Шопеном педалей, и начать с Баллады фа минор.
Некоторое время он слушал с закрытыми глазами, а затем остановил ее, попросив повторить со 169-го до 174-го такта, где требовалось особенно деликатное обращение с педалью. Шопен начинал каждый из трех исходных тактов с легкого нажатия, продолжал стремительный басовый пробег вообще без педалей и переходил к легато правой рукой. Домострой убеждал Донну не использовать педали на этом плавном переходе, а когда она призналась, что ей никогда не удавалось сыграть эти ноты легато без педали, он объяснил это недостаточной беглостью пальцев. Он советовал не размывать пассаж, а освободить педаль, как указано на 169-м такте, и затем на трех шестнадцатых в третьей доле почти незаметно нажать педаль, дабы выделить момент синкопы: это позволит ей плавно взять ноты правой рукой, удерживая при этом общее впечатление сдержанности звука.
Затем он велел сыграть ей несколько отрывков: начало Ноктюрна фа мажор, чтобы посмотреть, не размывает ли педаль мелодию правой руки; Ноктюрн ми мажор, демонстрирующий уникальный шопеновский контраст между звуками с педалью и без нее; Прелюдию ля минор, исполняемую, помимо короткого пассажа в самом конце, вообще без педали; и, наконец, Прелюдию си минор, в которой Шопен изначально пометил обычное использование педали в каждой второй доле второго и третьего тактов, исполняемых левой рукой, но затем зачеркнул свои пометки, оставив в рукописи невероятно долгую педаль на всех трех вступительных тактах.
Закончив играть, Донна робко взглянула на него, словно студентка, боязливо ожидающая критических замечаний учителя.
Со всей деликатностью, на которую он был способен, Домострой сказал, что видит в ее игре два противоположных начала: желание освободиться от пометок Шопена, дабы получить возможность для импровизации – порыв, возможно, унаследованный от игравшего джаз отца, – и потребность в буквальной точности и неотступном следовании каждому значку в нотах Шопена, что, безусловно, является следствием классической школы Джульярда. С ее безусловным талантом и достаточной практикой, продолжил Домострой, почему бы не научиться сливать воедино оба эти импульса и справляться с наиболее трудными пассажами Шопена не только тщательностью исполнения, но и всей изобретательностью и энергией прирожденной джазистки? Чтобы достичь этого, ей, по его мнению, необходимо развивать гибкость и силу в спине, плечах и локтях, а также в запястьях и пальцах. Еще он предложил показать ей специальные упражнения для большей подвижности суставов пальцев и прямо сказал, что нужно больше времени проводить за роялем, не только репетируя и оттачивая пьесы Шопена, но уделять внимание упражнениям и гаммам для совершенствования техники игры в целом. Он посоветовал ей некоторые упражнения Крамера и Клементи, оказавших немалое влияние на технику Шопена, работы Черни, Хуммеля и аранжировки этюдов Шопена Леопольда Годовского, особенно же его двадцать два этюда для левой руки, включающие до-диезную вариацию на тему так называемого "Революционного этюда".
Донна внимательно слушала его и, даже если завуалированная его советами критика казалась для нее неожиданной или задевала ее, старалась этого не показать. Она лишь спросила, как он оценивает ее шансы на победу в Варшавском конкурсе. Домострой с той же прямотой ответил, что если она не усовершенствует технику и силу удара, ее шансы он оценивает не слишком высоко, однако добавил, что за несколько недель она многого сможет добиться, если будет работать по-настоящему.
Наконец она встала, и Домострой повел ее к выходу. Снаружи было тепло и солнечно, и они неторопливо обогнули "Олд Глори", пересекли стоянку и дошли до высокой проволочной ограды. Дальше, насколько хватало глаз, лежало мертвое гетто, обугленные руины с разбитыми окнами, старыми покосившимися ступенями, ведущими к заколоченным дверям, задними дворами, заваленными камнями и полусгоревшим мусором. Они пошли по тропинке, тянувшейся вдоль ограды, и встревоженная их приближением крыса выскочила из высокой травы и понеслась к руинам.
Домострой время от времени искоса поглядывал на девушку. Раньше он видел ее только при искусственном свете и не знал, как блестит ее кожа на ярком солнце. Под изящными линиями ее бровей сияли длинные дуги век, словно озаренные внутренним светом, а глаза, оттененные густыми ресницами, оказались зелеными, как свежая листва. Он отметил милые ямочки под безупречно очерченными скулами, тонкую игру света на пухлых и гладких губах. Ее красота ошеломляла, чуть ли не подавляла его; она была царственна, хотя непринужденна и чиста, как душа, что скрывалась внутри.
Кто-то пронзительно свистнул с крыши пустующего дома, и, когда Домострой посмотрел в ту сторону, он увидел, что ему машет троица "рожденных свободными". Он помахал в ответ.
– Недалеко отсюда была моя школа, – сообщила Донна. Она показала в сторону руин. – Там и тогда были развалины. Я часто ходила через них, одна или с ребятами; там мы играли в прятки, дрались, гонялись за кошками и крысами и нередко сами убегали от мерзавцев, охочих до девушек. Я заползала вот в такие вонючие канавы и ждала моего парня.
Они шли в тишине, нарушаемой только чирикающими воробьями, что копошились в земле и в кустах.
– Однажды я услышала, как мой отец поет старый блюз, – сказала она и пропела:
Пойдем же -
Я отыскал укромное местечко!
Ах, как я рад,
Что отыскал укромное местечко!
И я сказала себе, что больше не хочу возвращаться в эти канавы, и решила найти для себя в этой жизни какое-нибудь укромное местечко, и поняла, что им может быть музыка. С тех пор я освободилась от рабства.
С минуту она размышляла, затем улыбнулась:
– Знаешь, всякий раз, когда я пытаюсь думать о себе как о серьезном музыканте, мне вспоминается декоративное панно с вышитыми на нем строчками Пола Лоуренса Данбара, которое моя мать повесила у нас в кухне:
Брось-ка этот шум, мисс Люси,
Ноты отложи.
Толку-то потеть над ними,
Если ты совсем завяла
За своей игрой.
Разве ты способна звуки
Донести из этой кухни
До густых лесов безбрежных.
Как поет Малинди…
Донна закончила, и Домострой почувствовал, что в ней происходит какая-то внутренняя борьба. Она, несомненно, признательна ему за сегодняшний день и, возможно, хочет выразить это, оставшись с ним подольше, может быть даже позволив ему за собой поухаживать. Но он не пытался за ней ухаживать. И когда она собралась уходить, не сделал попытки ее задержать, хотя чувствовал себя самым несчастным человеком на свете. Он не хотел становиться ее любовником вследствие признательности, которую она, должно быть, испытывает, и, более того, не хотел делить ее с Джимми Остеном. Он проводил ее до автомобиля и отворил перед ней дверцу.
Скользнув на сиденье, она положила руку ему на плечо.
– Когда мы увидимся снова, Патрик? – несколько неуверенно спросила она.
– Когда пожелаешь, – резко отозвался он. – Просто приезжай.
– Но я не хочу навязываться. У тебя ведь есть и собственная работа.
– Нет у меня ничего. Приезжай в любое время.
– Ловлю тебя на слове, – сказала она, заводя мотор. – Три раза в неделю – это, наверное, слишком много?
Его вдохновила подобная перспектива, однако он постарался скрыть это от Донны.
– "Мы несем ответственность за все дозволенные удовольствия, которыми не сумели насладиться", – процитировал он Агаду и усмехнулся, дабы избавить от смущения и ее, и себя. – Для начала сойдет. И когда мы приступим?
– Как насчет завтра? – с готовностью предложила она, и у Домостроя не осталось сомнений в том, что она с удовольствием принимает его помощь.
– Привет Джимми, напомни ему о моем существовании, – сказал он.
– Конечно, хотя сомневаюсь, что он забыл о тебе! – Донна тронулась с места; волосы ее всколыхнулись на ветру.
В растрепанных чувствах Домострой поплелся в танцевальный зал. Когда он обернулся, ее уже не было. Стоянка была пуста. Даже "рожденные свободными" покинули свой пост.
Донна не стала скрывать от Остена, что ездила к Домострою. Она даже рассказала ему, что собирается заниматься с композитором чуть ли не ежедневно, чтобы за оставшееся до Варшавского конкурса время взять от него как можно больше. Остен не мог оспорить ни ее право, ни нужду в такой помощи, однако его возмущало, что для этого был избран именно Домострой. Ему слишком хорошо была известна репутация этого типа, а теперь, в придачу, он все больше и больше подозревал, что Домострой и есть тот человек, который снимал женщину из Белого дома и, возможно, вместе с нею писал письма Годдару. В конце концов, озадаченный повышенным интересом Донны к Домострою, он решил выяснить, в чем же тут все-таки дело, и однажды вечером взял напрокат машину и покатил в "Олд Глори".
Прежде ему случалось проезжать через Южный Бронкс, но он всегда направлялся куда-то еще, и лишь теперь, отыскивая нужное место, Остен впервые осознал, насколько этот район похож на трущобы Тихуаны. Не считая того, что в Тихуане, по крайней мере, обитатели трущоб жили с надеждой, пусть несовместимой с реальностью, что их город, по причине близости к богатым Соединенным Штатам, однажды превратится в деловой и культурный центр и сами они тоже восстанут из праха, как все эти вырастающие вокруг новые здания и магистрали. Но здесь, в Южном Бронксе, не было ни новых зданий и магистралей, ни повода для подобных надежд.
Он отыскал "Олд Глори" и, медленно объехав все строение, увидел автомобиль Донны, стоявший у входа в танцевальный зал рядом со старым кабриолетом, принадлежащим, скорее всего, Домострою. Он знал, что Донна пробудет там весь вечер, так что решил дождаться, когда сумерки уступят место темноте.
Включив радио, изрыгающее рок-блюз, он кружил по безлюдным пространствам, убивая время, пока не показалась луна и не засеребрились в ее сиянии черные стены танцевального зала.
Он поставил машину за проволочной оградой и шагнул в высокую траву. В одной руке он держал параболический микрофон, в другой – зажженный фонарь. Установив микрофон на треноге, он направил «тарелку» в сторону освещенного окна, ярким пятном выделявшегося на черном фоне гигантского танцевального зала. Он включил микрофон и, нажав кнопку, привел в действие танталовый фильтр, устраняющий все посторонние звуки. Затем он присоединил микрофон к маленькому кассетному магнитофону и стал прислушиваться к звукам, доносившимся из "Олд Глори", – кто-то, то ли Донна, то ли Домострой, играл на рояле Шопена. Он сел на корточки и оперся плечом об ограду.
Если не считать звуков музыки, вокруг царило безмолвие. За спиной уходили вдаль ряды обугленных зданий. Перед ним таинственно мерцал серый асфальт безбрежной стоянки и, словно призрачный замок, возвышался "Олд Глори" со всеми своими арками, колоннами, балконами и покатой крышей.
Он сел на землю и придвинулся ближе к ограде. И в этот момент что-то тяжелое обрушилось ему на затылок. Он ничком повалился в мокрую траву. Послышались резкие голоса. С трудом сообразив, что на него напали сзади, он провалился во тьму.
Очнулся он, совершенно не понимая, где находится и как долго оставался без чувств; голову будто в тисках защемили. Он сидел в старом продавленном кресле рядом с концертным роялем и, когда поднял глаза и увидел встревоженное лицо склонившейся над ним Донны, решил, что находится в ее студии в Карнеги-холл. Повернув голову, он увидел Патрика Домостроя с параболическим микрофоном и магнитофоном в руках, а рядом с ним трех смуглых латиноамериканцев в желтых кепках с надписями "РОЖДЕННЫЕ СВОБОДНЫМИ".
– С тобой все в порядке, Джимми? – спросила Донна, похлопывая его по плечу.
Остен поднял руку и нащупал шишку на затылке, затем взглянул на руку, нет ли на ней крови. Крови не было.
– Со мной все в порядке, – сказал он, не забыв инстинктивно изменить голос.
– Я думал, ты студент. А ты, оказывается, шпион, – подошел к нему Домострой.
"Рожденные свободными" зловеще заулыбались.
Остен чувствовал себя малолетним воришкой, которого схватили за руку в кондитерской лавке, и мысль о том, как он смешон в глазах Донны и Домостроя, заставила его покраснеть от стыда.
– Мне плевать на то, что ты думал! – крикнул он. – Я-то знаю, чем вы здесь занимаетесь!
– Что ты хочешь этим сказать? – отпрянув, ахнула Донна.
– То, что сказал. – Остен ухватился за возможность предстать обманутым любовником. – То, что ты мошенница и лгунья! Разве не так?
Донна вспыхнула.
– Ты не знаешь, что говоришь! Как ты можешь быть так несправедлив ко мне – и к себе самому? Я здесь играю на рояле. Разве тебе не известно, как это важно для меня? Ты не имеешь права… никакого права… – Она отвернулась, скрывая слезы.
– Гляди, с каким партизанским набором он вышел пошпионить, – подал голос один из "рожденных свободными" и, поигрывая мускулами, сделал несколько шагов в направлении Остена.
– Почему бы тебе не вернуть все это обратно в ЦРУ, парень? – поддакнул второй.
– Зря только портишь казенное имущество. Здесь пока еще не Сальвадор, – усмехнулся третий.
– Успокойтесь! – попытался угомонить головорезов Домострой. – Он не работает на ЦРУ. Просто шпионит за ней, – он махнул рукой в сторону Донны. – Она его подружка.
Бандиты заржали, и Донна с упреком посмотрела на Домостроя:
– Патрик, прошу тебя…
– Он прав, Донна, – перебил ее Остен, стремясь сбить с толку Домостроя. – Он прав, – медленно повторил он, вставая. Он расправил плечи, поморщился и покосился на девушку: – Я хотел выяснить, что между вами происходит. – Он бросил испепеляющий взгляд на Домостроя, и троица "рожденных свободными" радостно захихикала.
– Ну и наглый же ты, парень, – протянул один из них. – А известно ли тебе, что ты без разрешения залез на чужую территорию? – Он подмигнул приятелям. – Это страна "рожденных свободными", здесь для тебя заграница, парень; это место давным-давно откололось от дяди Сэма. Еще раз тебя здесь поймаем, сынок, это дорого тебе обойдется!
– В следующий раз я буду знать, что с вами делать! – огрызнулся Остен.
Наконец Донна взяла себя в руки. Она уже не собиралась плакать, просто злилась.
– Следующего раза не будет, Джимми, – сказала она. – А теперь, я думаю, тебе лучше уйти. – Но голос ее все-таки задрожал, когда она добавила: – Я больше не хочу тебя видеть.