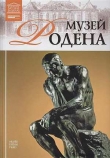Текст книги "Агасфер (Вечный Жид) (том 2)"
Автор книги: Эжен Сэ
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
– Ага! так она ваша подруга? – спросил задумчиво Роден.
– Да, это моя лучшая подруга.
– И вы ее любите?
– Как сестру... Бедная девушка! я стараюсь сделать для нее, что могу!.. Но как это вы в ваши годы, такой почтенный человек можете знать Королеву Вакханок?.. Ага... то-то вы под чужими именами прячетесь...
– Милая моя девочка, право, мне теперь не до смеха, – проговорил Роден так грустно, что Розе даже стало совестно за свои насмешки, и она спросила:
– Но откуда же вы знаете Сефизу?
– Увы! я знаю не ее... а одного славного парня, который любит ее без ума...
– Жака Реннепона?
– Иначе Голыша. Он теперь, бедняга, в долговой тюрьме, – со вздохом проговорил Роден. – Я вчера его там видел.
– Вчера? Как все хорошо вышло! – воскликнула Роза, хлопая в ладоши. Пойдемте тогда поскорее к Филемону: вы успокоите Сефизу насчет ее возлюбленного... она в такой тревоге. Пойдемте скорее!
– Ах, милая девушка! Если бы у меня еще были хорошие новости об этом славном малом, которого я люблю, несмотря на все его глупости (кто их на своем веку не делал, глупостей-то!), – добродушно и снисходительно заметил Роден.
– Еще бы! – сказала Роза, покачивая бедрами, точно все еще была в костюме дебардера.
– Скажу больше, – добавил Роден, – я его и люблю за глупости, так как что ни говори, а у тех, кто так великодушно бросает деньги для других, всегда добрая душа и доброе сердце.
– А знаете, право, вы славный человек! – проговорила Роза, пришедшая в восторг от философских воззрений Родена. – Но отчего бы вам не сходить к Сефизе, чтобы потолковать с ней о Жаке?
– К чему сообщать ей то, что она уже знает? Что Жак в тюрьме?.. Все, чего я желал бы, – это вытащить бедного малого из столь запутанного дела.
– Ах! сделайте это! Освободите Жака из тюрьмы, – с живостью вскричала Роза. – Мы вас за это с Сефизой расцелуем!
– Что имеем, не храним... милая шалунья! – с улыбкой отвечал Роден. Но успокойтесь: я не жду награды за то добро, какое стараюсь делать.
– Значит, вы надеетесь выручить Жака из тюрьмы?
Роден покачал головой и произнес с огорченным и разочарованным видом:
– Сначала я надеялся!.. Но теперь... делать нечего... все изменилось!
– Почему же? – удивленно спросила Пышная Роза.
– Я уверен, что вам показалась очень забавной эта дурная шутка насчет моего имени... Я вас понимаю, милая девочка... вы ведь только эхо... Кто-нибудь, конечно, подучил вас: "Поди, мол, и скажи господину Шарлеманю, что он господин Роден... то-то выйдет потеха!"
– Само собой разумеется, что мне и в голову не пришло бы назвать вас господином Роденом; такого имени из головы не выдумать! – отвечала Махровая Роза.
– Ну, так вот этот неловкий шутник и повредил, – конечно, сам того не зная, – участи бедного Жака Реннепона.
– Ах ты Господи! И это потому, что я вас назвала господином Роденом вместо господина Шарлеманя? – воскликнула Роза с грустью, начиная раскаиваться, что приняла участие в шутке по наущению Нини-Мельницы. – Но что же общего между этой шуткой и услугой, которую вы хотели оказать Жаку?
– Этого я не могу вам сообщить... Мне очень жаль бедного Жака... поверьте, милая, но... пропустите меня все-таки вниз...
– Послушайте... прошу вас, – сказала Пышная Роза. – А если я вам открою того, кто меня научил назвать вас Роденом, вы тогда не покинете Жака?
– Я, моя милая, не желаю выпытывать чужие секреты! Вы были, быть может, во всей этой истории игрушкой или эхом очень опасных людей! Ну, и сознаюсь вам: несмотря на интерес, который мне внушает Жак Реннепон, я вовсе не хочу создавать себе врагов. Я человек маленький... Храни меня Господи!
Пышная Роза никак не могла понять, чего боялся Роден, а последний на это именно и рассчитывал. После минутного размышления молодая девушка сказала:
– Знаете, все это для меня очень мудрено, я ничего не понимаю. Я знаю только одно, что крайне жалею, если повредила Жаку своей шалостью. Поэтому я решилась вам во всем признаться... быть может, моя откровенность и пригодится...
– Откровенность часто освещает самые темные вещи, – поучительно проговорил Роден.
– Ну что же, тем хуже для Нини-Мельницы, – объявила Пышная Роза. Зачем он меня подучил сказать глупость, которая может повредить возлюбленному бедной Сефизы? Вот что было: Нини-Мельница, толстый шут, увидел вас сейчас на улице; наша привратница назвала вас господином Шарлемань. Он мне и говорит: "Нет, его зовут Роденом. Давай подшутим над ним. Роза, идите, постучитесь к нему и назовите его прямо Роденом. Увидите, какую он смешную рожу скорчит". Я обещала, правда, Нини-Мельнице его не выдавать, но раз это может повредить Жаку... тем хуже для него, я называю вам его имя.
При имени Нини-Мельницы Роден не мог удержаться от жеста изумления. Конечно, бояться этого памфлетиста, которого он сделал главным редактором газеты "Любовь к ближнему", было нечего. Но благодаря болтливости в пьяном виде Нини-Мельница мог ему мешать и навредить, так как Родену, по только что родившемуся плану, часто пришлось бы бывать в этом доме, чтобы через Сефизу влиять на Голыша. Поэтому социус мысленно решил отделаться от этого препятствия.
– Итак, моя милая, – сказал он Пышной Розе, – вас научил подшутить надо мною господин Демулен?
– Не Демулен, а Дюмулен, – возразила Пышная Роза. – Он пишет в духовных журналах и за хорошую плату защищает священников. Что касается его собственной святости, то его патронами могут считаться разве св.Суаффар, да св.Шикар, как он сознается сам.
– Должно быть, он веселый господин?
– Да, славный малый!
– Позвольте, позвольте, – заметил Роден, делая вид, что вспоминает. Ему так лет тридцать шесть – сорок... толстяк... такое красное лицо?
– Да, точно стакан с красным вином, – отвечала Пышная Роза, – а среди лица нос, как спелая малина!
– Ну да, это он... Господин Дюмулен... конечно! Теперь я вполне спокоен, моя милая, меня больше не тревожит эта шутка. Да, да. Достойный человек, этот господин Дюмулен... только немножко сильно любит развлекаться...
– Так что вы все-таки постараетесь помочь Жаку? Вам не помешает глупая шутка Нини-Мельницы?
– Надеюсь, что нет.
– А мне не нужно говорить Нини-Мельнице, что я вам призналась, как он научил меня назвать вас господином Роденом?
– Почему же нет? Во всех делах всегда нужно говорить правду, дитя мое.
– Но Нини-Мельница так наказывал не выдавать его вам...
– Но ведь вы мне его назвали из хороших побуждений... почему же вам ему в этом не признаться?.. Впрочем, это ваше дело, моя милая... Поступайте, как знаете.
– А Сефизе я могу сказать о вашем добром намерении помочь Жаку?
– Откровенность, дитя мое, откровенность важнее всего. Когда говоришь правду, ничем не рискуешь...
– Бедняжка! Как она обрадуется! – с живостью прервала его Роза. – И как это ей теперь нужно!
– Пусть только она не преувеличивает... Точно я ведь ничего обещать не моту... ну, хоть бы насчет его выхода из тюрьмы! Скажу только, что буду хлопотать... Одно могу обещать наверное... ведь она очень нуждается, ваша подруга, со времени заключения Жака в тюрьму?
– Увы! да!
– Ну, так вот я могу обещать... маленькую помощь, начиная даже с сегодняшнего дня... Это чтобы дать ей возможность жить честно... И если она будет вести себя умно... если умно будет себя вести... то позднее... быть может...
– Ах! вы не можете поверить, как вовремя вы пришли на помощь бедной Сефизе!.. Право, точно вы ее ангел-хранитель!.. Честное слово, Роден вы или Шарлемань, а я поклянусь, что вы превосходный...
– Тише, тише, не надо преувеличивать, – прервал ее Роден. – Скажите просто: "добрый, мол, вы старичок", и больше ничего, моя милая девочка. Нет!.. вы посмотрите, как странно вещи складываются! Ну, мог ли я знать, когда услыхал, что кто-то ко мне стучится, – а откровенно сказать, это меня порядочно рассердило, – кто бы мог мне сказать тогда, что это пришла молоденькая соседка, которая под предлогом неуместной шутки дала мне возможность сделать доброе дело?.. Ну, идите же, успокойте вашу подругу... Она еще сегодня получит пособие; итак, надейтесь и верьте! Слава Богу, добрые люди на земле еще не перевелись.
– Вы тому подтверждение!
– Помилуйте... это очень просто! Стариковское счастье – видеть счастливыми молодых!
Все это произносилось с таким искренним простодушием, что у Пышной Розы навернулись слезы на глаза, и она продолжала совсем растрогавшись:
– Слушайте, конечно, и я и Сефиза – мы простые, бедные девушки, и не из слишком добродетельных... Но сердца у нас добрые, и если когда-нибудь вы заболеете, так только дайте нам знать: никто лучше нас за вами ухаживать не станет... мы ведь лишь этим и можем вам отплатить... Конечно, и Филемона я так настрою, что он даст себя в куски за вас изрезать, ручаюсь за это, так же как Сефиза поручится за Жака, который будет полностью ваш на жизнь и на смерть!..
– Видите, милая девочка, разве я не правду говорил? Голова шалая, но сердце золотое! А теперь, до свидания!
И Роден поднял свою корзинку, которую он поставил возле себя на пол.
– Дайте-ка мне корзинку: она вам мешает, – отбирая у Родена корзину, заметила Пышная Роза. – А сами обопритесь на меня: на лестнице так темно... вы можете оступиться.
– Спасибо, милочка, принимаю ваше предложение... Я уже не слишком бодр...
И, отечески опираясь на правую руку Пышной Розы, которая несла корзинку, Роден спустился по лестнице и вышел на двор.
– Вон видите, там, на четвертом этаже, толстую рожу, приклеившуюся к стеклу? – спросила Родена Пышная Роза, указывая на свое окно. – Это Нини-Мельница и есть... Узнаете?.. ваш ли?
– Мой, мой! – отвечал Роден и благосклонно махнул рукой Дюмулену, который с изумлением отскочил от окна.
– Бедняга!.. я уверен, что теперь... после своей глупой шутки, он меня боится... – улыбаясь, заметил Роден. – Он ошибается.
Сказав "он ошибается", Роден зловеще закусил губы, но Пышная Роза этого не заметила.
– Ну, а теперь, моя милая, бегите домой, утешьте вашу подругу добрыми вестями... Ваша помощь мне больше не нужна, – сказал Роден, когда они вошли под ворота.
– Отлично, я горю нетерпением рассказать Сефизе о вашей доброте!..
И Пышная Роза побежала к лестнице.
– Тише, тише, шалунья, а корзинку-то мою, корзинку-то куда утащили?
– Ах! и в самом деле!.. извините! вот она!.. Нет, как Сефиза будет рада, бедняжка. До свидания!
И хорошенькая фигурка Пышной Розы исчезла за поворотом лестницы, на которую она взбежала быстрыми и нетерпеливыми шагами.
Роден вышел из-под ворот.
– Вот ваша корзина, хозяюшка, – сказал он, останавливаясь на пороге лавки матушки Арсены. – Очень вам благодарен за вашу любезность.
– Не за что, я всегда к вашим услугам. Хороша ли была редька?
– Великолепная, хозяюшка, сочная и превосходная.
– Очень рада! Скоро ли мы вас увидим опять?
– Надеюсь... Не можете ли вы мне указать, где здесь ближайшая почта?
– Налево за углом.
– Тысячу благодарностей.
– Верно, любовное письмецо! – засмеялась привратница, которую привели в игривое расположение духа шутки Пышной Розы и Нини-Мельницы.
– Ай, ай, ай! хозяюшка! – ухмыляясь, отвечал Роден.
Затем, сразу сделавшись серьезным, он низко поклонился и сказал:
– Ваш покорный слуга!
И вышел на улицу.
Мы поведем теперь читателя в больницу доктора Балейнье, где до сих пор заперта мадемуазель де Кардовилль.
5. СОВЕТЫ
Адриенну де Кардовилль еще строже заперли в доме доктора Балейнье после того, как Агриколь и Дагобер пытались освободить ее ночью, после того, как солдат, довольно тяжело раненный, смог только благодаря беззаветной храбрости Агриколя, которому геройски помогал Угрюм, достигнуть маленькой калитки монастыря и выбежать на наружный бульвар вместе с молодым кузнецом.
Пробило четыре часа. Адриенну со вчерашнего дня перевели в комнату третьего этажа дома умалишенных; решетчатое окно, защищенное снаружи навесом, скудно пропускало свет в комнату. Девушка после разговора с Горбуньей со дня на день ожидала освобождения, рассчитывая на вмешательство друзей. Но ее сильно тревожила неизвестность по поводу участи Дагобера и Агриколя.
Совершенно не зная, чем кончилась борьба между ее освободителями и сторожами больницы и монастыря, она напрасно осаждала вопросами своих сиделок. Они оставались немы. Конечно, эти обстоятельства еще больше восстанавливали Адриенну против княгини де Сен-Дизье, отца д'Эгриньи и их клевретов. Грустно сидела она у столика, перелистывая какую-то книгу и опершись головой на руку, причем ее бледное лицо, с глубокой синевой под глазами – признаком тревоги и утомления – почти совсем скрывалось под спустившимися на лоб длинными локонами золотистых волос.
Дверь отворилась, и в комнату вошел доктор Балейнье. Светский иезуит, служивший покорным и пассивным орудием в руках ордена, доктор не вполне был посвящен, как мы уже говорили, в тайны княгини и аббата д'Эгриньи. Он не знал ни о том, почему Адриенну лишили свободы, ни о резкой перемене в положении аббата д'Эгриньи и Родена, происшедшей вчера после вскрытия завещания Мариуса де Реннепона. Он только накануне получил строгий приказ отца д'Эгриньи (уже подчинившегося Родену) покрепче запереть мадемуазель де Кардовилль, обращаться с ней строже и заставить ее – дальше будет видно, какими способами, – отказаться от мысли преследовать их по суду.
При виде доктора Адриенна не могла скрыть презрения и отвращения, внушаемых ей видом этого человека. Господин Балейнье, напротив, был, как всегда, слащав, сиял улыбками и совершенно спокойно и уверенно приближался к девушке. Он остановился в нескольких шагах перед нею, как бы желая внимательнее разглядеть ее, и, сделав вид, что совершенно удовлетворен наблюдениями, заметил:
– Ну, слава Богу, несчастное приключение предпоследней ночи не оставило тех дурных последствий, которых я боялся... Вам сегодня лучше: свежее цвет лица и спокойнее манеры... Только глаза немножко ярче блестят, чем следует... но совсем не так болезненно, как ранее!.. Как жаль! Вам было гораздо лучше, а теперь из-за этого неприятного ночного происшествия ваше выздоровление должно затянуться, потому что вы снова вернулись к тому же состоянию экзальтации, тем более досадному, что вы себе не отдавали в нем отчета... Но, к счастью, благодаря нашим заботам ваше выздоровление не затянется на слишком продолжительный срок.
Как ни привыкла Адриенна к нахальству служителя иезуитов, она все-таки не удержалась и заметила с улыбкой горького презрения:
– Как опрометчива ваша искренность! Сколько бесстыдства в вашем усердии честно заработать обещанную награду!.. Ни на миг вы не сбросите своей маски. Вечно ложь и хитрость! Знаете, если вам так же утомительно играть роль в постыдном фарсе, как мне отвратительно на это смотреть, так, пожалуй, вам платят не так уж и много!
– Увы! – проникновенно заметил доктор. – Все те же фантазии, что вы не нуждаетесь в моем уходе. Считать, что я играю комедию, когда говорю о том печальном положении, которое заставило меня привезти вас сюда помимо вашей воли! Если бы не это маленькое проявление владеющего вами безумия, можно было бы надеяться, что вы на пути к совершенному выздоровлению. Позднее ваше доброе сердце поможет вам разобраться в этом, и судить меня вы будете иначе: как я того заслуживаю.
– Да, – отвечала Адриенна, подчеркивая его слова. – Надеюсь, что близок тот день, когда вы будете судимы, _как вы того заслуживаете_!
– Вот вторая мания! – с сожалением воскликнул доктор. – Послушайте, будьте же разумнее... бросьте это ребячество...
– Отказаться от мысли судом потребовать возмездия за себя и наказания для вас и ваших соучастников?.. Никогда, о, никогда!
– Ну, хорошо! – заметил доктор, пожимая плечами. – Ведь я уверен, что по выходе из больницы вы будете думать совсем о другом... моя прелестная неприятельница!
– Конечно, вы по-христиански забываете то зло, какое делаете... Но я, к счастью, обладаю хорошей памятью!
– Поговорим серьезно, – начал суровым тоном Балейнье. – Неужели вы действительно решитесь обратиться в суд?
– Да. А вы знаете, если я чего хочу, то весьма упорна в своих желаниях.
– Ну, так я вас умоляю, для вас же самой, в ваших интересах: не раздувайте этого дела, – убежденно произнес Балейнье.
– Я думаю, что вы немножко смешиваете свои интересы с моими.
– Послушайте! – с хорошо разыгранным нетерпением начал доктор, как бы вполне уверенный, что сможет убедить мадемуазель де Кардовилль. – Неужели у вас хватит безрассудной отваги привести в полное отчаяние двух добрых и великодушных людей?
– Только двоих? Шутка была бы полнее, если бы вы сказали троих: вас, тетушку и аббата д'Эгриньи, потому что, вероятно, это те самые великодушные и добрые особы, за которых вы меня просите?
– Ах, не в нас дело!
– А в ком же? – с изумлением спросила Адриенна.
– Дело идет о двух бедняках, подосланных, вероятно, теми, кого вы называете своими друзьями, с целью освободить вас; они забрались ночью в сад монастыря, а оттуда сюда; выстрелы, которые вы слышали, были направлены в них.
– Увы! Я была в этом уверена... А мне не хотят сказать, ранили их или нет! – с трогательной грустью воскликнула Адриенна.
– Один из них был действительно ранен, но, должно быть, не очень опасно, потому что мог идти и убежал от преследователей.
– Хвала небу! – радостно воскликнула молодая девушка.
– Очень похвально радоваться тому, что они ускользнули. Но тогда удивительно, почему вы непременно хотите навести полицию на их след?.. Странный способ доказать свою благодарность.
– Что вы хотите сказать?
– Потому что ведь если их арестуют, – продолжал доктор, не обращая внимания на слова Адриенны, – то за ночное нападение со взломом они попадут на каторгу.
– О!.. и все это из-за меня!
– Мало того, что _из-за вас_, они будут осуждены вами.
– Мною?
– Конечно, если вы вздумаете мстить вашей тетушке и аббату д'Эгриньи. О себе я не говорю: я в полной безопасности. Словом, если вы будете жаловаться в суд за лишение вас свободы, то это случится непременно.
– Я вас не понимаю, объяснитесь! – сказала Адриенна с возрастающей тревогой.
– Какое вы еще дитя! – воскликнул с убежденным видом светский иезуит. Как вы не можете понять, что если правосудие займется каким-нибудь делом, то направить или остановить его по своей охоте будет абсолютно невозможно? Когда вы выйдете отсюда, вы подадите жалобу на меня и на свою семью. Не так ли? Что же из этого выйдет? Начнется следствие, будут вызваны свидетели, правосудие произведет самые подробные дознания... Что же дальше? Конечно, станет известным и это покушение, которое я и настоятельница монастыря, во избежание толков хотели оставить без последствий. Ввиду того, что это деле уголовное и предусматривает наказание, связанное с поражением в правах, начнут деятельно отыскивать виновников. А так как они, вероятно, задержались в Париже, – то ли из долга, то ли из-за работы, – да к тому же чувствуют себя в полной безопасности, поскольку действовали из благородных побуждений, то их очень скоро найдут и арестуют. Кто же будет виновен в аресте? Вы сами, подавая на нас жалобу.
– Это было бы ужасно, месье! Это невозможно!
– Очень возможно, – продолжал господин Балейнье. – В то время, как я и настоятельница, несмотря на наше неоспоримое право жаловаться, хотим погасить это дело, вы... вы... для которой эти несчастные рисковали каторгой... вы намереваетесь их предать!
Адриенна достаточно понимала иезуита и сразу догадалась, что чувство жалости и милосердия доктора Балейнье к Дагоберу и его сыну вполне зависит от того, какое решение она примет: даст волю своему законному желанию отомстить врагам или нет... Роден, приказания которого исполнял, сам того не зная, доктор, был слишком ловок, чтобы объявить мадемуазель де Кардовилль прямо: "Если вы вздумаете нас преследовать, мы донесем на Дагобера и его сына"; ведь можно добиться тех же результатов, если хорошенько ее напугать опасностями, угрожающими друзьям. Как ни мало была девушка знакома с законами, она благодаря простому здравому смыслу понимала, что ночное предприятие старика и сына может навлечь на них серьезные неприятности. В то же время, думая обо всем том, что она выстрадала в этом доме, перечисляя все обиды, накопившиеся в глубине сердца, Адриенна считала оскорбительным для себя отказаться от горького удовольствия публично разоблачить и посрамить гнусные махинации. Доктор Балейнье исподтишка наблюдал за своей одураченной, по его мнению, жертвой и, казалось, очень хорошо понимал причину ее молчания и нерешительности.
– Позвольте, однако, месье, – начала она не без смущения. Предположим, что я, по какому бы то ни было поводу, решусь не подавать ни на кого жалобы, забыть все зло, какое было мне нанесено, – когда же я выйду отсюда на свободу?
– Не знаю: все будет зависеть от вашего выздоровления, – отвечал доктор. – Положим, оно идет довольно быстро... но...
– Снова эта глупая и дерзкая комедия! – с негодованием прервала его мадемуазель де Кардовилль. – Я вас прошу сказать мне прямо: сколько времени я буду еще заперта в этом ужасном доме... Настанет же, наконец, день, когда меня должны будут выпустить?
– Надеюсь... – с набожной миной отвечал светский иезуит, – но когда не знаю... Впрочем, я должен вас предупредить, что всякие попытки вроде той, что сделана ночью, теперь уже неосуществимы: приняты строгие меры... За вами учрежден самый тщательный надзор, чтобы у вас не было никакого сообщения с внешним миром; это необходимо для вашей же пользы, иначе вы снова можете прийти в состояние опасного возбуждения.
– Так что, – спросила испуганная Адриенна, – по сравнению с тем, что меня ожидает, я, значит, пользовалась свободой все это время?
– Все делается прежде всего для вашей пользы! – отвечал доктор самым убедительным тоном.
Мадемуазель де Кардовилль, чувствуя бессилие своего негодования и отчаяния, с раздирающим вздохом закрыла лицо руками. В это время послышались шаги, и в комнату вошла, предварительно постучавшись, одна из сиделок.
– Месье, – сказала она доктору испуганно, – какие-то два господина требуют немедленного свидания с вами и с барышней.
Адриенна с живостью подняла голову; лицо ее было в слезах.
– А как зовут этих господ? – спросил Балейнье, сильно удивленный.
– Один из них, – продолжала сиделка, – сказал мне: "Предупредите доктора, что я следователь и имею дело до мадемуазель де Кардовилль по поручению суда".
– Следователь! – вырвалось у доктора, вспыхнувшего от волнения и тревоги.
– Слава Богу! – воскликнула Адриенна, вскочив с места; радостная надежда сияла на ее лице сквозь недавние слезы. – Моих друзей успели уведомить!.. Наконец-то наступил час правосудия!
– Попросите их сюда, – сказал доктор Балейнье сиделке после минутного размышления.
Потом, становясь все более и более встревоженным, он скинул, наконец, маску добродушия и, подойдя к Адриенне с суровым, почти угрожающим видом, противоречившим его обычному спокойствию и лицемерной улыбке, сказал ей шепотом:
– Берегитесь... мадемуазель!.. Слишком рано вы обрадовались!..
– Теперь уж вам меня не запугать, – отвечала мадемуазель де Кардовилль с сияющими от радости глазами. – Вероятно, господина де Монброна успели предупредить по его возвращении... и он сопровождает судью... чтобы освободить меня!
Затем Адриенна прибавила с горькой иронией:
– Мне остается только пожалеть вас... и ваших сообщников...
– Мадемуазель! – заговорил Балейнье, не в силах будучи скрыть своей усиливавшейся тревоги. – Повторяю вам... берегитесь!.. Помните, что я вам сказал: ваша жалоба повлечет за собой открытие того, что произошло позавчера ночью... Берегитесь! в ваших руках участь и доброе имя солдата и его сына... Поразмыслите над этим!.. Речь идет о каторге.
– Не думайте, пожалуйста, что вам удалось меня одурачить!.. Как будто я не вижу, что вы хотите меня запугать. Признайтесь лучше прямо, что если я пожалуюсь на вас, то вы сейчас же донесете на солдата и его сына?
– Я повторяю одно: что если вы пожалуетесь, то эти люди погибли, уклончиво отвечал иезуит.
Не зная, что и думать об опасных последствиях, какими угрожал ее друзьям доктор, Адриенна воскликнула:
– Что же, вы хотите, чтобы я отвечала ложью на вопросы судьи?
– Вы будете говорить... истинную правду, когда скажете, что вас сочли нужным поместить сюда из-за необыкновенного возбуждения ваших нервов, отвечал доктор, начиная надеяться на успех своей хитрости, – но что теперь, когда состояние вашего здоровья значительно улучшилось, вы вполне согласны с тем, что эта мера была очень разумна, и признаете всю (пользу, какую она вам принесла. Я подтвержу ваши слова... потому что ведь это истинная правда!..
– Никогда! – с негодованием воскликнула Адриенна. – Никогда я не приму участия в этом недостойном обмане! Никогда не унижусь до того, чтобы оправдать бессовестное преследование, которому меня подвергали!..
– Вот и следователь! – сказал доктор, прислушиваясь к приближающимся шагам. – Повторяю... Берегитесь!
Дверь отворилась, и на ее пороге, к неописуемому изумлению доктора, появился Роден в обществе господина, одетого во все черное, с почтенным и строгим лицом.
Роден, действуя коварно и осторожно в соответствии со своим планом, о чем мы расскажем позднее, не только не предупредил аббата д'Эгриньи и, следовательно, доктора о том, что он посетит больницу вместе с судебным следователем, но еще велел накануне доктору построже запереть мадемуазель де Кардовилль.
Можно легко себе представить двойное изумление врача, когда вслед за чиновником, строгая физиономия которого успела уже порядочно напугать его, в комнату вошел скромный и незаметный секретарь аббата д'Эгриньи.
Еще у самых дверей Роден, по-прежнему нищенски одетый, почтительным и в то же время сочувственным жестом указал чиновнику на Адриенну де Кардовилль. Когда, пораженный редкой красотой девушки, представитель правосудия остановился перед ней с взглядом, полным сочувствия и изумления, Роден скромно отошел в сторону. Доктор Балейнье, ничего не понимая во всей этой сцене, попробовал было выразительными жестами просить у Родена какого-нибудь объяснения насчет неожиданного визита представителя правосудия. Но, к вящему изумлению доктора, Роден делал вид, что вовсе не знает его, и смотрел на него как бы с величайшим изумлением. Больше того: когда хозяин лечебницы повторил немые вопросы, Роден подошел к нему, вытянул искривленную шею и громко спросил:
– Вы что-то сказали, доктор?
При этих словах, нарушивших воцарившееся молчание и совершенно поразивших Балейнье, чиновник оглянулся, и Роден с неподражаемым хладнокровием заявил ему:
– Со времени нашего прихода сюда доктор все делает мне какие-то таинственные знаки... Должно быть, он имеет сообщить мне что-нибудь особенное... Но так как у меня секретов нет, то я попрошу его объясниться громко.
При этом заявлении, произнесенном самым вызывающим тоном и сопровождавшемся ледяным взором, Балейнье так растерялся, что в первую минуту совершенно не знал, что и отвечать. Несомненно, этот инцидент и последовавшее за ним молчание произвели очень неблагоприятное впечатление на представителя правосудия, который строго взглянул на доктора.
Мадемуазель де Кардовилль, ожидавшая увидать господина де Монброна, тоже казалась очень удивленной.
6. ОБВИНИТЕЛЬ
Балейнье, растерявшийся вначале и от неожиданного появления следователя и от необъяснимого поведения Родена, скоро совершенно овладел собою и, обратясь к коллеге-иезуиту, заговорил:
– Мое желание заставить себя понять без слов объясняется очень просто. Я видел, что господин чиновник не желает прервать молчания, и, уважая его волю, я только хотел выразить знаками изумление по поводу столь неожиданного визита.
– Я сейчас объясню мадемуазель де Кардовилль мотивы молчания, за которое прошу меня извинить, – отвечал следователь и низко поклонился Адриенне, к которой и продолжал обращаться дальше. – Мне сделано относительно вас, мадемуазель, столь важное заявление, что, войдя сюда, я первым долгом желал собственными глазами убедиться, соответствует ли оно истине: поэтому я и позволил себе так пристально разглядывать вас; могу прибавить одно: что ваш вид, ваше лицо – все это подтверждает, что донесение вполне обоснованно.
– Могу я узнать, – вежливо, но твердо спросил Балейнье, – с кем я имею честь говорить?
– Я следователь, милостивый государь, и явился сюда для предварительного дознания по поводу факта, о котором мне доложили...
– Прошу вас пояснить мне, в чем дело, – спросил, кланяясь, доктор.
Чиновник, фамилия которого была де Жернанд, человек лет пятидесяти, серьезный, прямой, умел соединять суровость своих обязанностей с приветливой вежливостью.
– Вас обвиняют, – сказал он, – в совершении очень грубой ошибки... чтобы не сказать больше... Что касается этой ошибки, то я готов скорее допустить, что вы – хотя и светило науки, по общему мнению, – впали в заблуждение при определении болезни, нежели предположить, что вы могли забыть все самое святое в вашей профессии, которая сама по себе является почти что священнослужением.
– Мне остается только доказать вам, – с некоторой горделивостью заметил Балейнье, – что ни совесть ученого, ни совесть честного человека не заслуживала ни малейшего упрека.
– Мадемуазель, – спросил Адриенну господин де Жернанд, – правда ли, что вас привезли в этот дом обманом?
– Позвольте вам заметить, месье, – воскликнул Балейнье, – что подобная постановка вопроса является для меня оскорбительной!
– Я говорю с мадемуазель де Кардовилль, сударь, – строго заметил господин де Жернанд, – и позвольте мне самому решать – какие вопросы и как задавать.
Адриенна хотела отвечать утвердительно на предложенный вопрос, но взгляд доктора напомнил ей об опасности, которой она подвергала таким образом Дагобера и Агриколя. Адриенной руководило вовсе не низкое и вульгарное желание мести, но она была возмущена недостойным поведением врагов и считала необходимым сорвать с них личину. Борясь с этими двумя чувствами и желая их как-нибудь примирить, она с достоинством и кротостью обратилась к следователю:
– Не позволите ли вы мне вам также задать один вопрос?
– Прошу вас, мадемуазель.
– Мой ответ на ваш вопрос будет ли считаться формальным обвинением?
– Я явился сюда, мадемуазель, чтобы прежде всего открыть истину... и скрывать ее вы не должны ни в каком случае.
– Хорошо, – продолжала Адриенна. – Но предположим, что я, для того чтобы выйти из этого дома, рассказала вам все, на что могу по справедливости пожаловаться... Можно ли будет потом не давать ходу моим жалобам?
– Вы, конечно, мадемуазель, можете не преследовать никого сами, но правосудие во имя общественного блага должно будет продолжить это дело, если вы его и прекратите.