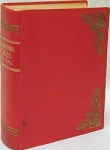Текст книги "Парижские тайны. Знаменитый авантюрный роман в одном томе"
Автор книги: Эжен Мари Жозеф Сю
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 112 страниц) [доступный отрывок для чтения: 40 страниц]
– Кто поручится, что ты дашь мне хоть что-нибудь, когда дело будет сделано? – мрачно и недоверчиво спросил грабитель.
– Я бы, конечно, могла ничего тебе вообще не дать, мой милый, потому что ты у меня в кармане, как когда-то была Певунья. Так что жарься на моей сковородке, пока рогатый пекарь, в свою очередь, не подцепит тебя на вилы, хе-хе-хе!.. Ну что, душегубчик, ты все еще На меня дуешься? – спросила одноглазая, хлопнув бандита по плечу. Тот удрученно промолчал.
– Ты права, – проговорил он наконец со сдержанной яростью. – Такова, видно, моя участь. И это я, я во власти мальчишки и женщины, которую раньше бы убил одним дуновением! О, если бы я так не боялся смерти! – пробормотал он и опустился на придорожный склон.
– А ты стал трусом, ты трус! – презрительно сказала Сычиха. – Поговори теперь о своей «немой», о своей совести, это будет еще смешнее. А если тебя даже на это не хватает, я улечу и брошу тебя.
– Значит, я не смогу даже отомстить тому человеку, который искалечил меня и оставил в этом жалком положении, из которого я никогда не выйду! – вскричал Грамотей с удвоенной яростью. – Да, я очень боюсь смерти, очень... Ну пусть мне скажут: ты получишь этого человека, будешь держать его обеими руками, а потом вас обоих бросят в бездну. Я отвечу: пусть бросят, пусть, потому что я не выпущу его, пока мы оба не достигнем дна. И пока мы будем катиться вниз, я искусаю его лицо, перегрызу горло, вырву сердце, я загрызу его зубами, потому что мой нож для него слишком хорош!
– Вот и прекрасно, чертушка, таким я тебя люблю. Будь спокоен, мы отыщем твоего подонка Родольфа, и Поножовщика тоже. После больницы я долго бродила по аллее, Вдов... все было заперто, заколочено. Но я сказала высокому человеку в трауре: «Когда-то вы хотели нам заплатить, чтобы мы кое-что сделали с этим чудовищем Родольфом. Может быть, после дельца с девчонкой, которое нас ждет, мы займемся Родольфом?..» – «Возможно», – ответил он. Ты слышишь, хитрец? «Возможно!» Мужайся, чертушка. Мы слопаем твоего Родольфа, это я тебе говорю, мы его сожрем!
– Ты правда меня не бросишь? – спросил бандит покорно и в То же время недоверчиво. – Если ты теперь меня бросишь, что же со мной будет? – Да, ты прав. Скажи-ка, душегубчик, вот будет весело, если мы с Хромулей удерем в карете и оставим тебя здесь в поле, а ночи-то уже не летние, холодок прихватывает. Вот будет знатная шутка, а, разбойничек?
При этой угрозе Грамотей содрогнулся; он приблизился к Сычихе и проговорил, весь дрожа:
– Нет, нет, ты не сделаешь этого, Сычиха... и ты тоже, Хромуля... Это было бы слишком жестоко.
– Ха-ха-ха, слишком жестоко! Посмотри на этого простачка! А старикашка с улицы Руля, а торговец быками? А женщина на канале Сен-Мартен? А господин в аллее Вдов? Может, им понравилось, когда ты щекотал их своим кинжалом? Почему с тобой, в свою очередь, нельзя сыграть такую шутку?
– Хорошо, я признаюсь, – глухо проговорил Грамотей. – Да, я был неправ, когда заподозрил тебя, и был неправ, когда ударил Хромулю. Я прошу у тебя прощения, Сычиха... и у тебя тоже, Хромуля... Я прошу прощения у вас обоих.
– Нет, пусть он просит прощения на коленях за то, что хотел избить Сычиху! – заявил Хромуля.
– Вот мартышка, какой он забавный! – со смехом сказала Сычиха. – В самом деле, мне хочется посмотреть, какую рожу ты состроишь, когда будешь стоять на коленях, словно сгорая от любви к твоей ненаглядной Сычихе. Вставай на колени и поторопись, иначе мы тебя бросим, предупреждаю, через полчаса уже наступит ночь.
– Да ведь ему все равно, день или ночь, – насмешливо сказал Хромуля. – У этого господина ставни всегда закрыты, он боится испортить цвет лица.
– Хорошо, вот я на коленях. Прости меня, Сычиха... и прости меня ты, Хромуля. Теперь ты довольна? – спросил бандит, стоя на коленях посреди дороги. – Теперь ты меня не покинешь, скажи?
Эта странная группа на дороге между крутыми склонами, освещенная красноватыми отсветами заката, была ужасна и отвратительна.
Посреди дороги стоял на коленях Грамотей, умоляюще протягивая к кривой Сычихе могучие руки; густая и жесткая шевелюра падала словно грива на его багровый лоб; красные веки, безмерно распахнутые от ужаса, позволяли видеть неподвижные зрачки, потускневшие, стеклянные, мертвые, – взгляд мертвеца.
Его огромные лапы были униженно опущены. Этот коленопреклоненный Геркулес дрожа склонялся перед старухой и мальчишкой.
Кривая Сычиха, закутанная в красную клетчатую шаль, в старом чепце из черного тюля, из-под которого вылезали седые пряди, возвышалась над Грамотеем во весь рост. Ее костлявое лицо с крючковатым носом, старое и обветренное, все в морщинах и пятнах, выражало циничную, жестокую радость; единственный красно-желтый глаз сверкал, как пылающий уголек; хищный оскал губ под длинными волосками обнажал три-четыре пожелтевших и полусгнивших зуба.
Хромуля в своей блузе с, кожаным поясом стоял на одной ноге, опираясь на Сычиху, чтобы сохранить равновесие.
Болезненное и хитрое лицо этого мальчишки, такое же серо-желтое, как его волосы, выражало в этот момент насмешливую, дьявольскую жестокость.
Тень от придорожного склона еще более увеличивала ужас этой сцены, которую уже заволакивали сумерки.
– Пообещайте хотя бы не бросать меня! – повторил Грамотей, испуганный молчанием Сычихи и Хромули, которые наслаждались его страхом. – Неужели вы уже ушли? – прибавил убийца, наклоняясь, чтобы прислушаться, и машинально протягивая вперед руки.
– Нет, нет, мой голубчик, мы здесь, не бойся. Покинуть тебя? Да скорее я поцелуюсь с костлявой. Давай я тебя раз навсегда успокою и объясню, почему не покину тебя никогда. Слушай хорошенько: я всегда обожала кого-нибудь мучить, запускать в кого-нибудь мои когти, в человека или зверя. Еще до Воровки, – пусть пекарь вернет ее мне, потому что мне до сих пор хочется умыть ее серной кислотой! – так вот, до Воровки был у меня мальчишечка, который не выдержал и загнулся, за что меня и упекли на шесть лет за решетку. Все эти шесть лет в тюрьме я мучила птиц: сначала приманивала, а потом ощипывала живьем... Но с них было мало толку, они быстро подыхали. Когда я вышла из тюрьмы, в мои когти попалась Певунья, но эта нищенка ухитрилась сбежать, когда я могла бы еще с ней позабавиться. Потом у меня была собачка, которой досталось все, от чего сбежала девчонка; под конец я отрубила ей одну заднюю лапу и одну переднюю: из-за этого она так смешно ковыляла, так перекатывалась, что я едва не померла от хохота.
«Так и я сделаю с той собакой, которая меня укусила», – пообещал себе колченогий.
– Когда я встретила тебя, голубчик, – продолжала Сычиха, – я домучивала кошку... Так вот, отныне ты будешь моей кошкой, моей собакой, моей птичкой, моей Воровкой; в общем, будешь моей «тварью страждущей»... Понимаешь, душегубчик, вместо того чтобы мучить птицу или пытать ребенка, теперь я смогу позабавиться с волком или тигром, ведь это куда интересней, что скажешь?
– Старая ведьма! – вскричал Грамотей и в ярости вскочил на ноги.
– Полно, ты опять дуешься на свою старушку. Ну что же, покинь ее, ты сам себе господин. Я не стану на тебя сердиться за предательство.
– Да, уходи, дверь открыта! Беги не глядя все прямо! – сказал Хромуля и разразился хохотом.
– Лучше умереть, умереть! – закричал Громотей, ломая руки.
– Ты повторяешься, мой милый, ты уже это говорил. И не болтай чепухи! Ты здоров как буйвол, так что оставь, ты проживешь еще долго на радость твоей Сычихе. Я тебя буду мучить время от времени, потому что в этом моя радость, и к тому же ты должен отрабатывать хлеб, которым я тебя кормлю. А если будешь умником, я буду брать тебя на хорошие дела, как сегодня, и, может быть, на другие, повыгоднее, где ты сможешь пригодиться. Короче – ты будешь моим зверем, моим псом. Я прикажу тебе: принеси! И ты принесешь. Я прикажу: загрызи! И ты загрызешь. Но только вот что, милый, я вовсе не хочу тебя принуждать. Если вместо того, что я тебе предлагаю, ты предпочтешь жить на ренту, кататься в карете со смазливой дамочкой, получать ордена и должности вроде «главного соглядатая»[82]82
Верховного судьи.
[Закрыть] и прозреть, а не оставаться слепым, – пожалуйста, не стесняйся! Весь это так легко! Стоит тебе пожелать – и все тебе преподнесут на блюдечке... Не правда ли, Хромуля?
– На блюдечке и горяченькое, только скажи! – со смехом поддержал ее сын Краснорукого.
Но вдруг он склонился к земле и тихо проговорил:
– Я слышу шаги на тропинке. Прячемся! Это не наша девчонка, потому что идут с той стороны, откуда она пришла.
И действительно, через несколько минут на тропинке появилась крепкая, еще молодая крестьянка с накрытой корзиной на голове; за ней бежала большая собака с фермы. Они пересекли дорогу и поднялись по тропе, по которой недавно прошли священник и Певунья.
Присоединимся к этим двум персонажам и оставим пока трех сообщников в их засаде на овражной дороге.
Глава II.
ДОМ СВЯЩЕННИКА
Последние лучи солнца угасали за массивными стенами замка Экуен и окружающими его лесами. Повсюду вокруг, насколько хватал глаз, простирались обширные поля с коричневыми бороздами, уже отвердевшими от заморозков, безмерное безлюдное пространство, среди которого деревушка Букеваль казалась оазисом жизни.
Прозрачное, чистое небо на западе прочертили длинные пурпурные полосы – верный признак ветров и холодов. Багряные тучи, яркие и пылающие, по мере приближения сумерек становились фиолетовыми.
Тонкий, четкий полумесяц, похожий, на половинку серебряного кольца, тихо засветился на темно-лазурном небосводе. Был торжественный час, царила глубокая тишина. Священник приостановился на вершине холма полюбоваться прекрасным закатом.
Несколько минут он стоял, погруженный в глубокие размышления, затем простер дрожащую руку к далям, наполовину затянутым вечерним туманом, и сказал, обращаясь к Лилии-Марии, которая в задумчивости следовала за ним:
– Взгляни, дитя мое, на эту беспредельность: у нее нет границ!.. И не слышно ни малейшего звука... Мне кажется, безмолвие и бесконечность – это символ вечности... Я говорю тебе это, Мария, потому что ты чувствуешь красоту природы. Часто я с умилением смотрел, с каким благоговейным восторгом ты любовалась этими красотами... ты, столь долго лишенная возможности их созерцать. Наверное, тебя, как и меня, поражает нерушимый покой этого заката?
Девушка не ответила.
Удивленный кюре обернулся; она плакала.
– Что с тобой, дитя мое?
– Отец мой, я так несчастна!
– Несчастна? Даже сейчас... несчастна?
– Я знаю, что не могу жаловаться на судьбу после всего того, что вы для меня сделали... и все же...
– И все же?
– Ах, отец мой, простите меня за мою печаль: наверное, она обидит моих благодетелей...
– Послушай, Мария, мы часто спрашивали тебя о причинах твоей печали, которая охватывает тебя временами и очень беспокоит твою приемную мать... Ты не отвечала, и мы не настаивали, хотя твоя тайна нас тоже огорчает, потому что мы не знаем, как облегчить твои страдания.
– Увы, отец мой! Я не могу сказать, что происходит со мной. Так же, как и вы, я вдруг ощутила всю красоту этого вечера, такую мирную и грустную... Сердце мое разбито... Я сейчас заплачу...
– Но что с тобой, Мария? Ты знаешь, как мы тебя любим. Послушай, признайся мне во всем! К тому же я могу сказать тебе; уже близок день, когда госпожа Жорж и господин Родольф станут твоими крестными и обязуются перед богом всегда охранять тебя от всех бед.
– Господин Родольф?.. Тот, кто спас меня? – вскричала Лилия-Мария, молитвенно складывая руки. – Неужели ой вновь снизойдет ко мне, даст мне новое доказательство своей доброты? О боже, я ничего не буду скрывать от вас, отец мой, я слишком боюсь оказаться неблагодарной, недостойной.
– Неблагодарной? Недостойной?
– Чтобы вы поняли меня, я должна рассказать о первых моих днях на ферме.
– Я тебя слушаю, говори, пока мы идем.
– Вы будете милосердны, отец мой? То, что я расскажу, может быть, очень нехорошо.
– Господь доказал тебе, что его милосердие безгранично. Мужайся!
Собравшись с мыслями, Лилия-Мария заговорила:
– Когда я узнала здесь, что больше не покину ферму и госпожу Жорж, я подумала, что вижу чудесный сон. Сначала я была словно оглушена таким счастьем и каждый миг думала о господине Родольфе. Очень часто, когда я оставалась одна, словно против своей воли я поднимала глаза к небу, чтобы найти его там и поблагодарить. Да, я виновата, отец мой... Я думала о нем чаще, чем о боге... Ибо он сделал для меня то, что мог сделать только господь. Я была счастлива, счастлива, как человек, избежавший смертельной опасности. Вы и госпожа Жорж были так ко мне добры, что порой мне казалось, что я в самом деле больше достойна жалости, чем порицания.
Кюре посмотрел на Певунью с удивлением. А она продолжала:
– Мало-помалу я привыкла к такой безмятежной, спокойной жизни. Я уже не боялась, просыпаясь, что увижу Людоедку, я спала, как бы сказать, в безопасности. И больше всего мне нравилось помогать госпоже. Жорж во всех ее делах, прилежно внимать вашим урокам, отец мой, а еще – слушать ваши проповеди и поучения. Лишь порой мне бывало стыдно за мое прошлое, а в остальное время я думала, что теперь я такая же, как все люди, потому что все были добры ко мне... Но вот однажды...
Рыдания прервали речь Лилии-Марии. – Прошу тебя, успокойся, бедное дитя! Наберись смелости!
Утерев слезы, Певунья продолжала:
– Вы помните, отец мой, на праздник всех святых сюда приезжала со своей дочерью госпожа Дюбрей, арендаторша герцога де Люсене в Арнувиле?
– Конечно, помню. И я был рад, что ты познакомилась с Кларой Дюбрей; у этой девушки много достоинств...
– Это ангел, отец мой, просто ангел! Когда я узнала, что она приедет на несколько дней к нам на ферму, я была так счастлива и только и мечтала о встрече с желанной подругой. И наконец она приехала. Я была в своей комнате, Клара должна была пожить у меня, и я старалась убрать комнату получше. За мной прислали; я вошла в гостиную, сердце мое колотилось. Госпожа Жорж подвела меня к этой юной девушке, такой нежной, скромной и доброй, и сказала: «Мария, вот подруга для тебя!» И госпожа Дюбрей прибавила: «Я надеюсь, что скоро вы будете как две сестрички». Едва ее мать произнесла эти слова, Клара бросилась ко мне и обняла меня. И тогда, отец мой, – продолжала Лилия-Мария, заливаясь слезами, – я не знаю, что со мной вдруг случилось... Но когда нежное, свежее личико Клары прижалось к моей увядшей щеке... эта щека загорелась от стыда... и от раскаяния. Я вспомнила, кем я была... Кто я такая, чтобы меня обнимала юная, честная девушка!.. Мне показалось, что я обманщица, презренная лицемерка...
– Но послушай, дитя мое...
– Ах, отец мой! – вскричала Мария с отчаянием и болью, прерывая священника. – Когда господин Родольф увел меня из Сите, я уже смутно догадывалась, как я низко пала... Но неужели вы думаете, что воспитание, советы и примеры, которые давали мне госпожа Жорж и вы, просвещая мой разум, не объясняли мне, увы, что я была не столько несчастна, сколько виновна?.. До приезда мадемуазель Клары, когда эти мысли терзали меня, я старалась заглушить их, старалась угождать госпоже Жорж и вам, отец мой... Если я краснела от стыда за мое прошлое, то только перед самой собой... Но при виде этой юной девушки, такой прелестной, такой невинной, я поняла, какая пропасть легла навсегда между ею и мной... В первый раз я почувствовала, что существуют шрамы, которые ничто не может сгладить... С того самого дня эта мысль не покидает меня... Что бы я ни делала, она преследует меня, с того самого дня я не знаю ни минуты покоя.
Девушка вытерла глаза, полные слез.
Кюре смотрел на нее с нежностью й состраданием. Потом он заговорил:
– Подумай, дитя мое, если госпожа Жорж рассудила, что ты достойна быть подругой мадемуазель Клары, значит, она считала, что ты заслужила такую дружбу своим хорошим поведением. И, упрекая себя, ты словно упрекаешь свою приемную мать.
– Я это знаю, отец мой, я не права, конечно, но я не могла преодолеть стыд и страх... И это еще не все... Где взять мужества, чтобы договорить до конца?..
– Продолжай, Мария! Пока я вижу: твои сомнения или, скорее, угрызения совести говорят только о доброте твоего сердца.
– Когда Клара поселилась на ферме, я думала, буду радоваться, буду счастлива, что у меня появилась подруга моего возраста, но вместо этого пришла печаль. А Клара, наоборот, была счастлива и весела. Ей устроили постель в моей комнате. В первый же вечер она обняла меня и сказала, что уже полюбила меня, что очень ко мне расположена, и попросила называть ее просто Кларой, как она называет меня Марией. А потом она помолилась и сказала, что будет поминать мое имя в своих молитвах, если я тоже буду поминать ее имя в моих молитвах. Я не могла ей в этом отказать. Мы еще немного поболтали, и она уснула, а я даже не прилегла. Я подошла к ней, я плакала и смотрела на ее ангельское лицо, а потом подумала, что она спит в одной комнате со мной... со мной, найденной в притоне Людоедки среди убийц и воров... Я вся дрожала, словно совершила преступление, меня терзали страхи... Мне казалось, господь когда-нибудь накажет меня за эта Я легла, и мне снились кошмары, я видела ужасные, почти забытые лица Поножовщика, Грамотея, Сычихи, этой одноглазой старухи, которая меня терзала и мучила, пока я была совсем маленькой... О, какая страшная ночь! Господи, какая ночь! Какие ужасные сны!
И Певунья содрогнулась от этих воспоминаний.
– Бедняжка Мария! – с волнением проговорил священник. – Почему же ты раньше не признавалась мне в своих горестях? Я бы помог тебе успокоиться... Но все же продолжай.
– Я уснула поздно; мадемуазель Клара меня разбудила поцелуем, чтобы победить то, что она называла моей недоверчивостыо, «холодком», стремясь доказать свою искреннюю дружбу, она решила доверить мне свою тайну. Когда ей исполнится восемнадцать, она станет женой давно любимого ею сына фермера из Гуссенвиля. Их семьи о свадьбе сговорились уже давно. А потом... она мне рассказала кое-что о себе, о своей жизни... Жизни такой простой, спокойной, счастливой... Она никогда не расставалась со своей матерью и не расстанется, потому что ее жених будет возделывать поля фермы вместе с господином Дюбрейем.
«Отныне, Мария, – сказала она мне, – ты знаешь меня как сестра. А теперь расскажи о себе...»
После этих слов я думала, что умру со стыда. Я краснела и бормотала что-то... Я ведь не знала, что госпожа Жорж рассказала обо мне, я боялась подвести ее. А потому ответила, что я сирота, воспитывали меня люди строгие, жестокие даже, и в детстве я была не слишком счастлива и только рядом с госпожой Жорж познала радость жизни. Тогда Клара, скорее из сочувствия, чем из простого любопытства, спросила, где меня воспитывали: в городе или в деревне? Как звали моего отца? И еще она спрашивала, помню ли я мою мать? И каждый ее вопрос смущал меня и причинял мне боль: ибо мне приходилось все время лгать, а вы, отец мой, научили меня, как пагубна й греховна ложь... Но Клара не могла и подумать, что я ее обманываю. Она подумала, что неуверенные и неясные мои ответы – следы горьких воспоминаний детства, Клара мне верила и жалела меня с такой добротой, что мне становилось плохо. Отец мой, вам никогда не понять, сколько я выстрадала за те первые дни, первые разговоры с Кларой! Сколько мне стоило тогда каждое слово лжи и лицемерия!..
– Несчастная! Да обрушится гнев господний на всех, кто вверг тебя в эту страшную бездну греха и, может быть, заставит всю жизнь раскаиваться в неумолимых последствиях первого падения!
– О да, злодеи этого заслуживают, отец мой, – с горечью продолжала Лилия-Мария. – Ибо отмыть мой позор невозможно. И это еще не все. Клара говорила мне о своем светлом счастье, о близкой свадьбе, о доброй семейной жизни, и я не могла не сравнивать ее судьбу со своей. Потому что, несмотря на всю вашу доброту здесь ко мне, судьба моя неотвратимо несчастна. Вы и госпожа Жорж объяснили мне, что такое добродетель, и в то же время дали понять, как низко я опускалась в прошлом: отныне я пример самого подлого, что может быть в мире, и никто меня в этом не разубедит. Познание зла и добра обошлось мне слишком дорого. Так пусть же свершится моя злосчастная судьба!
– О Мария, Мария!
– Я говорю не то, отец мой? Я не права? Увы! Я не решалась вам в этом признаться... Да, порой я не могу с благодарностью принимать ту бесконечную доброту, с которой вы ко мне относитесь. Мне кажется, мне говорят; если бы тебя не вырвали из бездны унижений, ты бы скоро умерла от нищеты и побоев. Так что же! По крайней мере, я бы умерла, не зная о той чистоте и невинности, о которых я буду горевать всю жизнь.
– Увы, Мария, этого не избежать! Даже такое щедро одаренное создателем существо, как ты, погрузившись однажды в нечистоты, подобные тем, из коих тебя извлекли, будет хранить на себе неизгладимые отметины. Такова непреклонная воля божественного правосудия.
– Вот видите, отец мой! – горестно вскричала Лилия-Мария. – Вы сами сказали: я должна страдать и отчаиваться до самой смерти!
– Ты должна сожалеть, что тебе не удастся вычеркнуть из своей жизни эту горестную страницу, – печально и сурово сказал священник, – но ты должна надеяться и верить в бесконечное милосердие всемогущего. Здесь, на земле, несчастное дитя мое, тебе уготованы раскаяние, слезы, искупление грехов, но когда-нибудь там, – и он воздел руку к небосклону, на котором уже замерцали звезды, – там тебя ждет всепрощение и вечное счастье!
– Сжалься, господи, сжалься надо мной!.. Я еще так молода и, может быть, проживу еще долго! – воскликнула Певунья душераздирающим голосом и упала на колени, инстинктивно обратившись к священнику.
Он стоял на вершине холма, неподалеку от которого виднелся его дом; черная сутана кюре, его благородное лицо, обрамленное длинными седыми волосами, чуть освещенные последними отсветами заката, вырисовывались силуэтом на фоне поразительно чистого и прозрачного неба, бледно-золотистого на западе и сапфирового на востоке.
Священник поднял дрожащую руку к небесам, а другую протянул Марии, которая обливала ее слезами.
Капюшон ее серого плаща упал ей на плечи, открыв прелестное лицо девушки, ее прекрасные, умоляющие, полные слез глаза, ее белоснежную шею, окутанную шелковистой волной белокурых волос.
Эта простая и величественная сцена являла разительный контраст и странную аналогию с омерзительной сценой, которая разыгрывалась почти одновременно в глубине овражной дороги между Грамотеем и Сычихой.
Во мраке черного оврага ужасный убийца, заклейменный своими преступлениями, изнемогая от трусости и страха, тоже стоял на коленях... но перед своей сообщницей, насмешливой и мстительной фурией, которая безжалостно терзала его и толкала на новые преступления. Перед той, кто была первой виновницей всех несчастий Лилии-Марии. Лилии-Марии, которую теперь безотрывно мучили угрызения совести.
Но разве нельзя понять глубину ее бесконечных страданий? С раннего детства она жила среди отвратительных, опустившихся, злобных людей; променяла эту клоаку на притон Людоедки, тюрьму еще более страшную; никогда не была свободной, никогда не выходила из темных, зловонных кварталов Сите... Несчастная девушка всю свою жизнь прожила, ничего не ведая о красоте и добре и ничего не зная о своих благородных чувствах, столь же непостижимых для нее, как великая красота природы.
И вдруг, без всякого перехода, она меняет это зловонное узилище на уединение прелестной фермы; свое мерзкое существование – на счастливую и мирную жизнь рядом с самыми достойными, самыми добрыми людьми, сочувствующими ее несчастьям.
Иными словами, перед ее пораженной душой вдруг открылось самое восхитительное сочетание прекрасных людей и прекрасной природы. В этом величественном окружении дух ее воспрял, мысль ожила, благородные инстинкты пробудились... И именно потому, что дух ее воспрял, мысль ожила и благородные инстинкты пробудились, она осознала всю глубину своего первоначального падения, ощутила невыразимое страдание и ужас перед своей прошлой жизнью и теперь, увы, понимает, как она сказала, что от этой грязи ей никогда не отмыться...
– Горе мне, горе! – в отчаянии восклицала Певунья. – Даже если вся жизнь моя отныне будет столь же долгой и столь же чистой, как ваша, отец мой, она все равно останется омраченной угрызениями совести и воспоминаниями о прошлом. Горе мне!
– Наоборот, Мария, счастие тебе, счастие той, кому господь ниспошлет это раскаяние, полное горечи, но такое святое! Оно говорит, что душа твоя не погибла для веры. Очень многие, лишенные твоего душевного благородства, постарались бы на твоем месте скорее забыть свое прошлое, чтобы спокойно наслаждаться радостями настоящего. Твоя нежная душа страдает, а вульгарная и грубая не испытала бы ни малейшей боли. Но все твои страдания будут тебе зачтены там, на небесах! Поверь мне, господь не оставит тебя ни на миг на твоем грешном пути, чтобы тебе досталась слава раскаяния и вечное блаженство во искупление!
Не тебе ли сказал сам господь: «Кто творит добро без борьбы и приходит ко мне с улыбкой на устах – тот избранный; но кто ранен в борьбе и приходит ко мне окровавленный и увечный – избранные из моих избранных!..» Поэтому мужайся, дитя мое!.. Надейся на нашу поддержку, опору и совет... Я уже слишком стар, но госпожа Жорж и господин Родольф проживут еще долгие годы. Особенно господин Родольф, который проявляет к тебе такой искренний интерес... и с таким благосклонным вниманием следит за твоими успехами. Скажи, Мария, неужели ты когда-нибудь пожалеешь, что повстречалась с ним?..
Певунья уже хотела ответить, но ее прервала крестьянка, о которой мы уже упоминали: по той же тропинке, по которой раньше прошли священник и девушка, она теперь догнала их. Это была одна из служанок с фермы.
– Извините меня, господин кюре, – проговорила она. – Прошу прощения, но госпожа Жорж велела мне отнести вам эту корзину с фруктами и еще велела проводить мадемуазель Марию домой, потому что уже темнеет, а я взяла с собой Турка, – добавила крестьянка, потрепав по голове огромную пиренейскую овчарку, которая не боялась бы схватиться и с медведем. – Хоть у нас и не бывает злых людей на дорогах, но с Турком все-таки спокойней.
– Ты права, Клодина; к тому же мы уже почти дошли до моего дома. Поблагодари от меня госпожу Жорж.
Затем, понизив голос, кюре серьезным тоном сказал Певунье:
– Завтра мне нужно на приходский совет, но к пяти часам я вернусь. Если хочешь, я буду ждать тебя, дитя мое. Насколько я понимаю, в твоем состоянии духа тебе необходимо о многом поговорить со мной.
– Благодарю вас, отец мой, – ответила Лилия-Мария. – Вы так добры, и завтра я обязательно приду.
– А вот мы и дошли до калитки сада! – сказал священник. – Оставь здесь корзину, Клодина, моя домоправительница ее захватит, Возвращайся поскорее на ферму вместе с Марией: уже почти ночь и холодает заметно. До завтра, Мария, в пять часов!
– До завтра, отец мой.
Кюре вошел в сад.
Певунья и Клодина двинулись по тропинке к ферме, и Турок бежал за ними не отставая.