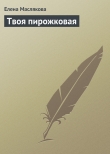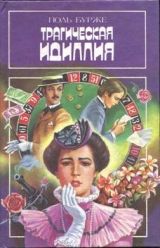
Текст книги "Приключения Геркулеса Арди, или Гвиана в 1772 году"
Автор книги: Эжен Мари Жозеф Сю
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
XXVIII
Крик тайбая
Вне себя от ярости и жажды мести, колдунья прибежала к Уров-Курову и объявила, что она вопрошала Мама-Юмбо и великий дух ответил так: «Великие беды грозят, если на заходе солнца бледнолицые не будут казнены самой страшной казнью».
Слова колдуньи были столь весомы для индейцев, что на заход солнца и было назначено кровавое действо. Время меж тем уже перевалило за полдень.
Посреди табуи врыли два столба. На слой камней поставили огромный сосуд с пальмовым маслом. Под камнями развели жаркий огонь, и вскоре масло закипело.
Вокруг столбов с ужасающей аккуратностью разложили скальпировальные ножи, острые стрелы, клещи из железного дерева и другие орудия пыток.
Казнь готовили четыре индейца. Поверх пурпурной раскраски на них были изображены черные переплетенные змеи.
Два музыканта-плакальщика в колпаках с длинными перьями держали тростниковые флейты и время от времени оглашали табуи мрачными нестройными звуками.
Толпа индейцев собралась у столбов, с кровожадным нетерпением ожидая «шествия смерти». Это был обряд своего рода торжественной встречи доблестных людей перед казнью – последний долг варварского великодушия к побежденным врагам.
Узник, чтобы не обесчестить себя, должен был, видя все ужасные предметы, приготовленные для казни, не выказывать смятения, с ясным взором идти навстречу гибели.
Бабоюн-Книфи заперлась с дочерью в карбете, чтобы, пока не умрет европеец, Ягуаретта не знала, что он здесь и обречен на казнь. У нее было одно желание – чтобы солнце скорей опустилось за горизонт. А со смертью колдуна, обворожившего дочку, не рассеются ли чары его?
Был ли то случай, предчувствие или инстинкт, только с самого утра необычайная тоска и беспокойство навалились на Ягуаретту. Мать ее полагала, что все это от злого колдуна.
Как во всех индейских домах, в карбете их не было окон: он освещался через дымовое отверстие в кровле.
– Болит вот здесь… сердце… – проговорила Ягуаретта и положила руку на грудь. – Душно… нечем дышать… в глазах помутилось…
Она встала и хотела открыть дверь.
Бабоюн-Книфи сидела у выхода. Она бросилась наперерез дочери:
– Сиди, сиди, дочка. В этот час воздух горячий – не освежает, а жжет.
– Ах, матушка! Не жара меня жжет: жара – тихий, прохладный ветерок против того огня, что палит твою дочь…
Вдали ясно послышались пронзительные звуки тростниковых флейт. Музыканты играли траурный марш: началось шествие смерти.
Чтобы Ягуаретта не услышала этих звуков, колдунья сказала ей с наигранной веселостью:
– Дочка моя грустна; она много думает о настоящем, а прошлое позабыла. Ну-ка, верну я улыбку на ее бледные губки: спою ту песню, что пела ей в колыбели.
Тут колдунья сняла со стены тамбурин и стала громко бить в него, чтобы заглушить флейты. А флейты слышались все ясней. Гремя тамбурином, она пропела, как обычно поют дикари, на однозвучный заунывный мотив такие простые слова:
«В колыбели из прочной древесной коры дитя мое спит,
В апельсиновой кроне ветер качает ее колыбель.
Как проснется дитя – пташки все запоют,
Как проснется дитя – и цветы зацветут,
А пока спит дитя – сердце матери с ним говорит».
Песня немного развеяла Ягуаретту, пробудила в ней смутные давние воспоминания, и какое-то время она не слышала шума приближавшейся процессии.
Бабоюн-Книфи все громче и громче била в тамбурин. Но в перерыве между двумя песнями в карбет ворвались пронзительные звуки индейских флейт и подражание крику совы тайбай, птицы смерти, – дикие завывания на высоких нотах.
Ягуаретта довольно хорошо знала обычаи своего племени, чтобы понять значение этих воплей. Она с ужасом взглянула на мать:
– Это клич смерти! Это жертву ведут на закланье! Закрой, плотнее закрой дверь – увидеть ее не к добру!
– Я потому и не пустила дочку открыть дверь, чтобы она не увидела шествия. Я хотела заглушить звук похоронных песен звуками тамбурина.
– Матушка! Матушка! Бей же в тамбурин, чтобы я не слышала этих песен! Я знала, что нынче черный день! Предчувствие не обмануло меня! Цветок лилеи закрывается, когда приходит гроза, – сердце мое закрылось, когда подошла беда. Кто эти несчастные, матушка?
– Наши лютые враги – воины племени арракоев.
Тут шествие приблизилось к карбету и стали слышны крики толпы. Бабоюн-Книфи не успела снова взять тамбурин, как Ягуаретта услышала слова:
– Бледнолицые идут на смерть! Они отважно встречают смерть!
– Бледнолицые! – воскликнула маленькая индианка. – Матушка, ты обманула меня!
Не дав колдунье опомниться, Ягуаретта распахнула дверь и увидела Геркулеса с Пиппером: они сидели на циновке, которую несли четыре жреца.
Ягуаретта замертво рухнула на руки матери.
XXIX
Казнь
Придя в себя, Ягуаретта тотчас же воскликнула:
– Спаси его, матушка! Если любишь свою дочку – спаси его!
Колдунья, подняв очи горе, в отчаянии произнесла:
– Горе! Горе! Крепка сила черных чар – она его не разлюбила!
– Спаси его! – повторила Ягуаретта. – Ты можешь его спасти: тебя слушают вожди, твои слова для них священны. Скажи им, что великий дух велел отпустить чужеземцев. Спаси его, матушка, а не то я умру у тебя на глазах: у меня на ногте вурара [20]20
Этот сильнейший яд делается из тягучей массы – смеси соков разных лиан. Индейцы и негры наклеивают ее на ноготь, как резинку. Если несколько секунд подержать палец в воде, она становится смертельным, молниеносно действующим ядом. Они также мгновенно убивают сами себя, поднеся палец ко рту. – Примеч. авт.
[Закрыть]!
Произнеся эту страшную угрозу, маленькая индианка показала матери палец: ноготь был покрыт чем-то вроде коричневой блестящей резины.
Увидев этот страшный яд у своей дочери, колдунья остолбенела и закрыла лицо руками.
– Не спасешь его – я умру, – опять сказала Ягуаретта.
– Не могу! – вскричала колдунья. – Не могу: как ни просила я его разрушить чары, которыми он тебя околдовал, он оставался тверд передо мною. Тогда я разгневалась и объявила Уров-Курову, что, если казнь отложат хоть на час, произойдут страшные беды. Он должен умереть на заходе солнца.
– На заходе солнца… – откликнулась Ягуаретта.
– Да, увы, на заходе солнца, – сказала Бабоюн-Книфи. – Но не делай того, что ты сказала! Это страшно – не делай этого!
– Спасибо, матушка. Ты сказала, когда он умрет. В этот час и я смогу умереть. На заходе солнца у тебя не станет дочери, если чужеземца не отпустят.
Колдунья бросилась к дочери.
– Я не дам тебе это сделать, я вырву у тебя этот ноготь!
Ягуаретта поднесла палец к губам.
– Еще шаг – и я умру на месте!
– Горе! Горе! – запричитала мать, обхватив руками голову.
– Не плачь! – воскликнула Ягуаретта. – Некогда плакать!
Она указала на солнечный луч, косо падавший на стену через отверстие в потолке, и произнесла спокойным голосом, что был страшнее всякого крика:
– Гляди, матушка: тень все выше и выше ползет по стене. Так тень смерти подступает к бледнолицему. Так тень смерти придет к твоей дочке, если ты не захочешь спасти его.
Ни слова не ответив, колдунья выскочила из хижины и прибежала к табуи, растолкав толпу. Ягуаретта побежала следом за ней.
Час казни наступил. Уров-Куров и другие вожди сидели на воинских табуретах – глубоко выдолбленных колодах: у того, кто на них сидел, колени задирались почти до подбородка.
Индейцы обсуждали между собой неизменное спокойствие Геркулеса. С кровожадным любопытством ожидали они казни: им хотелось знать, изменит ли Гордому Льву его твердость под пытками.
– Моя сестра пришла поторопить нас? – спросил Уров-Куров. – Она сказала, что бледнолицые должны умереть на заходе солнца, а если жертву принесут позднее, Мама-Юмбо грозит великими бедами. Мы исполним волю великого духа; жрецы скоро будут готовы. Как только солнце сядет за пальмы, бледнолицые умрут смертью воинов. Я хотел бы просить Мама-Юмбо, чтобы он дал моим сыновьям мужество Гордого Льва. Уров-Куров видел много жертвоприношений, но он никогда не встречал еще человека, что тверже этого бледнолицего держался бы перед казнью.
Индеец немного помолчал и с восторгом произнес:
– Гордый Лев – великий вождь!
Надеясь обернуть на пользу Геркулеса почтение, которого он удостоился, Бабоюн-Книфи торжественно произнесла:
– Пока наши братья готовились к торжеству смерти, я вновь вопросила священные кольца Ваннакое, и вновь они возвестили великие беды, если бледнолицые не умрут на заходе солнца. Но ветка тюльпанового дерева, по которой ползла змея, при этом трижды сломалась. Это знак, что я плохо поняла волю великого духа. Пока в полночь на небе не засияет луна, я не могу спросить у Мама-Юмбо, что значит это чудо. Надо отложить казнь до завтра.
Закончив речь, Бабоюн-Книфи взглядом отыскала в толпе дочь. Она стояла в первом ряду. У губ она держала отравленный ноготь.
Уров-Куров, удивленно и сурово посмотрев на колдунью, возразил:
– Мама-Юмбо не говорит дважды. Он сказал, что, если бледнолицые не умрут до захода солнца, случатся великие беды. Значит, они должны умереть.
Бабоюн-Книфи в отчаянье поглядела на дочь и сказала:
– Острый взор может затмиться, сильная рука может ослабеть. Я сама испрашивала волю великого духа и читала тайные знаки, которые никто другой не может прочесть. Но я ошиблась – во второй раз Мама-Юмбо сказал мне это. Пускай же Уров-Куров не совершает казни, покуда в ночной тишине я не воззову к Явагону.
– А если моя сестра не ошиблась, – свирепо и раздраженно воскликнул вождь, – если великий дух желает, чтобы пленников казнили на заходе солнца – значит, наше племя посетят великие беды? Страшись, женщина!
– Бабоюн-Книфи нечего страшиться, – твердо произнесла колдунья. – Мудрецы и вожди всегда ей послушны. Пусть Уров-Куров сам страшится ослушаться воли Мама-Юмбо.
– Солнце садится! Солнце садится! – в панике воскликнул вождь, но тут же овладел собой и так ответил Бабоюн-Книфи:
– Кровь бледнолицых не может быть противна Мама-Юмбо. Я исполню его первую волю.
И вождь свистнул особенным образом. По этому знаку со всех сторон поднялся ужасный вой. Палачи подбросили дров в огонь и взяли скальпировальные ножи, а музыканты задудели во флейты. Толпа расступилась; жрецы ввели Геркулеса с Пиппером.
Их привязали к столбам, и в это время некий индеец, пробившись через толпу, подошел к Уров-Курову и объявил:
– Твои воины привели бледнолицую пленницу.
Поднялся всеобщий удивленный ропот – все забыли даже о казни. Солнце опустилось за горизонт.
– Солнце село! – торжественно воскликнула колдунья, обратившись к Уров-Курову. – Ты видишь – твое желание не сбылось: бледнолицых не казнили на заходе солнца. Значит, я верно поняла знак Мама-Юмбо: он хотел, чтобы они сегодня избежали казни.
Три индейца ввели Адою.
XXX
Пленница
По приказанию Уров-Курова Адою отправили в поселение Ултока-Одноглазого, но уже два дня в бухте Палиест не было ни его самого, ни Тарпойна с Силибой.
На всякий случай пяннакотавы отвели Адою в крааль к вождю.
Увидев хозяйку, Ягуаретта остолбенела. Пораженная и стыдом, и гневом, и ревностью, она сумрачно глядела то на Адою, то на Геркулеса. Геркулес же, привязанный к столбу, тупо уставился на чан с кипящим маслом.
Воспользовавшись смятением, произошедшим от появления креолки, колдунья подбежала к дочери. Она пустила в ход все – просьбы, угрозы, уговоры, чтобы только Ягуаретта передумала и не кончала с собой – ведь в этот день, по крайней мере, европейцев не казнили!
Солнце скрылось за горизонтом, и, как это бывает близ экватора, сразу же, без сумерек, настала ночь.
На Уров-Курова произвели впечатление слова колдуньи. К тому же он понял, что все равно упустил время для казни, и велел отвести пленников обратно в карбет.
Увидев Геркулеса у рокового столба, Адоя невольно вскрикнула.
Он же, хоть и был в бреду, узнал хозяйку Спортерфигдта. Но способность рассуждать капитан утратил совершенно: ее появление в толпе дикарей ничуть не удивило Геркулеса. Он любезно улыбнулся креолке и сказал, как ни в чем не бывало:
– Как вы поживаете, сударыня? Простите великодушно, не могу поцеловать вам ручку.
Больше Геркулес сказать ничего не успел: стража уволокла его в карбет. Там его опять связали и уложили на циновку.
Ягуаретта слышала крик Адои и видела движение Геркулеса. Она крепко схватила мать за руку и сказала:
– Матушка, посмотри на эту девушку. Ее отец убил моего отца.
– Так это бледнолицая девушка из Спортерфигдта! – шепнула колдунья в ответ. – Сам Явагон послал нам ее.
Индейцы увидели, что казнь отложена, и разошлись. В табуи остался Уров-Куров и с ним несколько старцев и воинов.
Адоя стояла перед ними, гордая, благородная. Временами она бросала взор в сторону карбета, куда увели Геркулеса с Пиппером.
Индейский вождь знаком подозвал колдунью – он знал, что она говорит по-голландски, – и сказал ей, указав на Адою:
– Пусть сестра моя возьмет на ночь бледнолицую девушку в свой дом. Ее отец – Спортерфигдт; это был один из наших злейших врагов. Пусть сестра моя нынче ночью, пока светит луна, узнает волю Мама-Юмбо, а завтра на рассвете можно будет принести бледнолицую девушку в жертву Мама-Юмбо.
Уров-Куров вышел. Бабоюн-Книфи сказала креолке:
– Иди за мной.
Услыхав слова на родном языке, Адоя радостно воскликнула:
– Слава Богу! Хоть кто-то меня поймет. Скажите, Бога ради, давно ли в плену этот белый капитан, который сейчас тут был? Что он, ранен? Что с ним будет? Если хотите сделать доброе дело – помогите ему… помогите нам вернуться в Спортерфигдт. Вы получите хорошую награду.
– Оба бледнолицых умрут, – злобно отвечала колдунья. – Ты тоже умрешь.
Тут Адоя в первый раз увидела маленькую индианку: склонив набок голову, она медленно подходила к бывшей хозяйке.
– Ягуаретта! – воскликнула креолка. – Как, ты здесь! Я все думала: до чего же ты крепко спала, когда индейцы в ту страшную ночь утащили меня из Спортерфигдта. Не дай Бог, если сейчас все объяснится!
Адоя с укоризной поглядела на Ягуаретту. Та не отвечала.
– Десять лет я была тебе, как сестра, – продолжала Адоя, – а батюшкин дом был твоим родным домом. Если ты помнишь хоть немного мою доброту – уговори своих соплеменников не совершать этого гнусного убийства. Ты ведь, наверное, можешь их уговорить, а эта женщина сказала, что их должны убить!
– Эта женщина – моя мать, – сказала Ягуаретта.
– Твоя мать? – поразилась Адоя. – Так мне нечего бояться! Раз вы ее мать, – обратилась она к колдунье, – спросите сами Ягуаретту, и она скажет вам, что жила в Спортерфигдте как моя подруга. Да, да, вы можете сейчас отблагодарить меня, с лихвой отблагодарить – помогите только убежать двум белым воинам и мне! Ведь вы это можете, правда?
Бабоюн-Книфи безмолвно выслушала Адою и ледяным тоном произнесла в ответ:
– Если бы дочь Спортерфигдта признала мою дочь своей хозяйкой и служила ей на коленях – и то ничего бы не значило. За кровь нельзя заплатить.
– Что значит – за кровь! – воскликнула Адоя.
– Хозяин Спортерфигдта убил ее отца, – глухо молвила Бабоюн-Книфи, указав на Ягуаретту.
– Неправда! – решительно возразила Адоя; глаза ее загорелись негодованием. – Не может быть того! Добрее батюшки не было человека – он не мог быть так жесток.
– Разве он не говорил тебе, что подобрал дитя в лесу после схватки с индейцами?
– Раз так, – ответила Адоя, – отец защищал свою жизнь и дом – ему нельзя ставить это в вину. Но ты, Ягуаретта, – Адоя произнесла эти слова скорее с нежностью, чем с мольбою, – неужели ты забудешь все эти годы в Спортерфигдте?
Индианка опустила голову – множество чувств боролись в ее душе. Ее трогали воспоминания о доброте хозяйки. Но ведь если Адоя убежит с Геркулесом, они поженятся, как и предсказывала Мами-За! Она не могла этого вынести.
Зная, что Уров-Куров во всем слушается ее матери, Ягуаретта решила подумать, прежде чем что-то сказать Адое. Уклоняясь от прямого ответа, она лишь промолвила:
– Ягуаретта не забывает добра. Дом моей матери беден, но он весь к услугам дочери Спортерфигдта. Она устала, ей надо отдохнуть.
Адоя терзалась страшной тоской. Ягуаретта отвела ее в карбет.
XXXI
Переговоры
Ягуаретта долго размышляла и пошла наконец к Бабоюн-Книфи.
– Матушка, – сказала она, – ты любишь дочку?
Колдунья подняла глаза к небесам – глаза были полны слез.
– Ты можешь сделать так, чтобы Ягуаретта не умерла. Ты можешь сделать так, чтобы сильнее пяннакотавов не было племени в Синих Горах. Ты можешь сделать доброе дело и отпустить хозяйку Спортерфигдта – хозяйка Спортерфигдта была твоей дочери как сестра.
– Что ты говоришь? – воскликнула колдунья.
– Уров-Куров сказал, что Гордый Лев – великий вождь! Нет его отважней среди бледнолицых. Все наши воины восхищены его мужеством. Они безжалостны, но даже им было тяжко смотреть, как его собирались казнить. Ведь это правда, матушка?
– Это правда. Уров-Куров говорил, что ни один воин еще не встречал смерть так отважно.
– Тот старик, которого я спасла, говорил мне, что некогда двое бледнолицых сражались вместе с нашими воинами.
– До самой смерти они были нашими доблестными и верными соратниками.
– Так вели Уров-Курову, матушка, оставить Гордого Льва в живых, чтобы Гордый Лев стал нашим воином и взял Ягуаретту в жены.
– Дочка потеряла рассудок! – воскликнула колдунья. – Уров-Куров восхищен отвагой Гордого Льва, но он хочет его смерти. Я объявила, что племени грозят великие беды, если Гордого Льва не принесут в жертву.
– Слова моей матушки для пяннакотавов закон. Она отсрочила казнь чужеземца. Она может погребальные песни обратить в свадебные.
– Нет, Уров-Куров ни за что не согласится!
– Скажи вождю, что сам Мама-Юмбо велел, чтобы бледнолицый воевал вместе с нами, и он согласится. Тогда Ягуаретта будет совсем-совсем счастливой и никогда не расстанется с тобой, – молила мать маленькая индианка. – Ты видела дочку свою грустной и заплаканной – ты увидишь ее доброй и веселой. Матушка, матушка! Ты говоришь, будто я холодна к тебе, будто я тебя не люблю! Нет, не думай так! Тяготит мое сердце печаль, потому и не может проснуться моя нежность к тебе: не цветут караибские розы под тернием, матушка!
До глубины души смутилась Бабоюн-Книфи. С горестным смиреньем взглянула она на прекрасное лицо маленькой индианки – скорбь уже оставила на этом лице неизгладимый отпечаток.
Тогда всколыхнулись ненависть и гнев колдуньи против Геркулеса, злыми чарами испортившего ее дочь. С горячностью она воскликнула:
– Нет! Нет! Проклятый чародей отобрал разум у моей дочки. Так смерть же ему!
– Так прости, матушка! – воскликнула Ягуаретта и, рыдая, кинулась в объятья колдуньи.
Мать не могла никак утешить дочь в отчаянии. Она видела: Ягуаретта убьет себя, если умрет чужеземец. Она долго и мучительно колебалась – и все же решилась спасти Геркулеса. Колдунья направилась к вождю племени.
У двери Уров-Курова стоял на часах воин. Он разбудил вождя.
– Добро пожаловать, сестра моя, – сказал Уров-Куров, выйдя из карбета. – Да хранят нас твои слова ото всех несчастий! Что привело тебя посреди ночи? Не грозит ли нам большая беда?
– Не знаю, может быть. Со вчерашнего дня все знаки, которые дает мне Мама-Юмбо, темны. Я толкую тайный смысл узлов змеи Ваннакое – и не верю сама себе. Брат мой – мудрец и воин, возможно, с его помощью мой разум обретет ясность. Вчера я сказала брату моему: великие беды грозят, если бледнолицых не принесут в жертву на заходе солнца.
– Так говорила сестра моя, и я велел скорей готовить казнь.
– Этой ночью я решилась вновь испытать судьбу, и великий дух просветил меня.
– Он сказал что-то другое?
– Нет, то же самое.
– Значит, бледнолицые должны умереть.
– Нет, они не должны умереть.
– Я не понимаю тебя, сестра моя.
– Мама-Юмбо сказал и говорит по-прежнему: если бледнолицых не принести в жертву, грозят великие беды. Но он не сказал, что беды грозят нашему племени.
– Кому же?
Колдунья, немного помолчав, ответила:
– Помнит ли брат мой двух бледнолицых воинов, сражавшихся вместе с пяннакотавами?
– Они были преданны и отважны. Они пали на берегу озера Парима.
– Помнит ли брат мой, что я говорила, когда эти бледнолицые пришли просить пяннакотавов взять их в поход на арракоев?
Немного подумав, вождь отвечал:
– Сестра моя говорила, что пяннакотавы будут счастливы во всех своих делах, что Мама-Юмбо послал бледнолицых служить нашему племени, ибо они приехали из большой страны бледнолицых за соленым озером и знают тайны, неизвестные краснокожим.
– И было так: они научили нас обращаться с европейскими ружьями, ковать железо бледнолицых и закаливать его в источнике Ойяпок.
Бабоюн-Книфи еще помолчала и вновь заговорила с пророческим видом, указывая на четыре звезды Южного Креста, блестевшие, словно алмазы, на бездонном темно-синем небе:
– Ветер ночи утих. Он утих, чтобы говорила та, кому открывается великий дух. Каждый звездный луч для нее – слово, она понимает его; каждый лунный луч для нее – речь, она понимает ее. Другим все это лишь свет для глаз, для Бабоюн-Книфи это звуки, они достигают слуха ее и понятны ей. Она слышит те же слова, что передавала брату своему. Но одна и та же вещь по-иному выглядит в пламени пожара, по-иному – в солнечном свете, по-иному – в лунном сиянии, по-иному – в ночной тени. Вчера я говорила: если на заходе солнца бледнолицых не принесут в жертву, грозят великие беды. Поднимается завеса над тайной: появилась дочь Спортерфигдта, и я прозрела. Жертва не совершилась, и грозит беда, но не пяннакотавам, а бледнолицым.
– Бледнолицым! – воскликнул вождь, не веря своим ушам. – Гордый Лев – отважнейший из бледнолицых воинов. Как может его жизнь грозить бедой его народу?
– А если жизнь отважного вождя обратится против его народа? Если он станет нам верным и доблестным другом, как те двое бледнолицых, что погибли на берегу озера Парима? Тогда его смерть грозит бедой пяннакотавам – они лишатся отважного друга. Тогда его жизнь грозит бедой бледнолицым – они обретут грозного врага.
– Сестра моя говорит справедливо. Но кто поручится, что Гордый Лев станет нам таким же верным другом, как те бледнолицые?
– Кто поручится? – надменно воскликнула колдунья. – Кольца священной змеи! Если бы смерть Гордого Льва сулила добро нашему племени, разве сказал бы мне Мама-Юмбо трижды подряд, что я плохо его поняла?
Эти слова, похоже, убедили вождя. Он кивнул и задумался.
– И еще, – продолжала колдунья. – Брат мой знает, как я люблю свою дочь, как я по ней горевала и плакала.
– Я знаю: десять лет слезы сестры моей текли, не переставая. День, когда она нашла свою дочь, был праздником ее сердца. Но к чему сестра моя говорит о своей дочери?
– Ничего нет у меня дороже ее. Так пусть Гордый Лев женится на ней, если захочет стать нашим воином.
– Неужели дочь твоя выйдет замуж за бледнолицего! – воскликнул потрясенный Уров-Куров. – Подумай! Ты знаешь, что будет, если он нас предаст.
– Тогда он умрет, как предатель, и моя дочь умрет вместе с ним. Так посуди: я рыдала по ней десять лет – стала бы я играть ее жизнью, если бы не прочла в грядущем, что Гордый Лев будет храбрым и верным соратником пяннакотавов?
Этот довод развеял все сомнения вождя. Он лишь спросил:
– А что будет с Блестящей Косой и с хозяйкой Спортерфигдта?
– Если брат мой послушает моего совета, он покажет бледнолицым, что люди Синих Гор добры и великодушны. Он пошлет белую девушку и воина объявить, что Гордый Лев остался с нами.
– А если Гордый Лев не захочет остаться с нами?
– Тогда он умрет, и умрет хозяйка Спортерфигдта, и умрет Блестящая Коса, и слова Великого духа все равно сбудутся. Суди сам, брат мой: умрет Гордый Лев или останется с нами – все равно это будет беда для бледнолицых: они будут без него или он будет против них.
Вождь согласно кивнул и спросил:
– Кто же будет говорить с Гордым Львом?
– Ты, великий вождь. А я передам твои слова на его языке.
– Да будет с тобой воля Великого духа! – сказал Уров-Куров.
Через несколько минут Бабоюн-Книфи и Уров-Куров вместе вошли в темницу к Геркулесу.