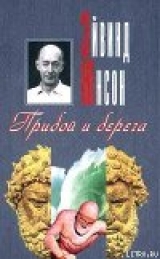
Текст книги "Прибой и берега"
Автор книги: Эйвинд Юнсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
Глава тридцатая. ПРИГОВОРЕННЫЕ
А какую же роль играл во всей этой истории сорокалетний Дакриостакт, громадный, широкоплечий, волосатый, немой полураб, отпущенный на волю современным рассказчиком?
Задолго до того, как его купил Лаэрт, ему отрезали язык в краю Людей с опаленным лицом. В нем жила ненависть, искавшая выхода в действии. Он был тайным орудием Эвриклеи, и в конце концов его помощь в исполнении замысла оказалась решающей.
Он умел слушать. Во время многочисленных поездок по делам коммерции и (скажем прямо) политики, в которых он сопровождал Судьбоносную старуху, он не разговаривал, но слушал и мотал на ус; или объяснялся способом, который понимала одна только Эвриклея.
В это утро она стояла перед ним под капелью, стекавшей с крыши на заднем дворе, и давала ему инструкции. Она привстала на цыпочки, он слегка согнул колени, чтобы ей было легче дотянуться до его уха. Отвечал он ей причмокиванием, мычанием и выразительными взглядами.
Глаза его слезились, а руки дрожали от ярости.
В помещении, отведенном для рабынь, громко стонала женщина.
* * *
Пенелопа долго не вставала с постели, но никто не знает, хорошо ли она спала и такой ли уж доброй была для нее эта ночь. Когда старуха, войдя к ней в комнату, раздвинула тяжелые, не пропускающие света занавески, а потом открыла ставни, Все Еще, быть может, Ожидающая открыла глаза и явила дневному свету совершенно перевернутое лицо. Над городом висели низкие облака, и она знала, что нынешний день ближе к зиме, чем день минувший.
– Идет дождь, Ваша милость.
Она слышала, как льет во дворе, слышала шаги, поспешные или спросонья ленивые, собачий лай и глухое позвякиванье бубенцов: это вели на бойню коз.
– Погода переменилась, Ваша милость, – сказала старуха. – Пришла пора снимать урожай.
Пенелопа помедлила, собираясь с мыслями для ответа.
– Что ты хочешь сказать, Эвриклея?
Старуха отошла от окна и засеменила к кровати. Она хотела уже сложить ладони вместе, но вспомнила, что Хозяйка с недавних пор невзлюбила этот жест, поэтому старуха только приподняла руки, потом уронила их, и они повисли вдоль бедер.
– Долгий год сватовства созрел для жатвы, Ваша милость, – дерзко сказала она. – Совершенно созрел. Ну а я, глупая старуха, в своем бесстыдстве дошла до того, что меня так и тянет оскорбить слух Вашей милости упоминанием гнусного имени одной рабыни.
Пенелопа опять помедлила, прежде чем задать вопрос. Она потянулась всем телом, пытаясь найти в постели положение поудобней, но такого не нашлось.
– Что же это за имя, Эвриклея? Уж не той ли твари, что кричит и стонет там внизу?
– Ваша милость развязала мне язык и выпустила на волю мою старческую болтливость и дурость, – сказала Эвриклея. – Так и есть, начались схватки. Но, как видно, младенец не отваживается явиться на свет, в прекрасный божий мир отца нашего Зевса. Девчонка все утро напролет кричала и выла.
– Я не желаю больше слушать об этом, – заявила Еще Не вполне Проснувшаяся. – Слушать об этом ниже моего достоинства. – Она внимательно поглядела на старуху. – Очень уж красные у тебя нынче глаза, Эвриклея. Ты что, не спала всю ночь?
Старуха не удержалась-таки от своего мерзкого жеста – сложив вместе ладони, она ответила:
– Не сказать, чтобы не спала. Но я стала бродить во сне, Ваша милость. Скоро мне крышка. Я засыпаю, сплю непробудным, каменным, мертвым сном, да еще, наверняка, храплю на весь дом, просто мычу во сне или уж по крайности блею, – и при всем том поднимаюсь, иду и шагаю по дому ну что твой часовой.
– Ты что, охраняла нынче ночью дом? – спросила Пенелопа ледяным тоном.
– Ну, не то чтобы охраняла, – сказала старуха. – Но поскольку я все равно брожу во сне, отчего мне было не выйти из моей каморки и не пройтись по мегарону да по обоим дворам.
– И все запоры ты тоже проверила во сне, – сказала Теперь Уже Совершенно Проснувшаяся. – Одни засовы открывала, другие закрывала, одни узлы завязывала, другие развязывала. Я-то спала хорошо. Я вообще сплю спокойно, мой сон ничто не нарушает. Но когда я случайно просыпалась (меня будил какой-то неуместный шум, может, это гром гремел, а может, меня просто хозяйственные заботы одолели), я не могла не слышать, как кто-то… ходит во сне.
– Чудеса, да и только, – на диво бодрым голосом отвечала старуха. – Другие лунатики бродят вслепую, прут себе напролом, а я все время сознавала, что делаю, ни столов, ни скамеек не опрокидывала. По-моему, я даже могла рассуждать. Вообще-то я, конечно, рассуждать не умею, это не пристало моей жалкой участи. Рассуждать я не выучена, я умею только приглядывать за кормилицами, чтобы не переводили зря молоко, и еще моя обязанность – на мой неуклюжий и назойливый лад прислуживать Госпоже. Но когда я бродила во сне, я туго соображала, что к чему, потому мне мнилось, будто я способна рассуждать. Чудное дело лунатики.
– Стало быть, ты рыскала по дому и… рассуждала! – злобно сказала Хозяйка. – Смотрела небось, спит ли он? Беспокоилась, не озяб ли?
– Признаюсь, я и вправду забеспокоилась, не озяб ли он, – ответила Эвриклея. – Он ведь не захотел ложиться в постель, лег на пол в прихожей и укрылся старой, плохонькой, вытертой козьей шкурой, ну, может, по крайности тремя шкурами. Ну а раз уж я проходила мимо, я накинула на него еще одну шкуру. Ну, по крайности три. Мне мнилось, будто я рассудила: еще простудится, схватит лихорадку, а уж как начнет чихать, того и гляди других разбудит.
– Он что, спал? – спросила Пенелопа коротко, приподнявшись на локте.
Старуха удержалась от гнусного жеста.
– По-моему, спал, я уверена. Но свет из мегарона сочился слабый, хоть я и подбросила в очаг поленьев, да к тому же лучина моя коптила, и бродила-то ведь я во сне, так что поклясться, что он спал, я не могу. Но показалось мне, когда я быстро пробежала мимо, что он спит: глаза у него были закрыты.
– Ты с ним разговаривала? – жестко спросила Хозяйка.
– Нельзя сказать, что мы разговаривали, – отвечала старуха. – Помню только, что я – во сне, само собой, – обронила несколько слов. Может статься, и он, повернувшись на бок, что-то пробурчал, но, наверно, он тоже бормотал во сне.
Пенелопа снова впилась взглядом в старуху.
– Упоминал он о состязании?
– О состязании? – с величайшим удивлением переспросила Эвриклея. – А-а! Это то, о котором я случайно услыхала вчера вечером! С топорами? Нет, не помню, чтобы он об этом говорил. Но чуть позже я встретила господина Телемаха, и тут я случайно упомянула о состязании.
– Ладно, – сурово сказала Пенелопа. – Я так и думала, что это ты всем распорядишься. Ладно. Где сейчас гость? Нет, не то, я хотела спросить, где сейчас Телемах?
– Кажется, пошел прогуляться, – отвечала старуха. Пенелопа села в кровати.
– Зачем ты осматривала запоры, Эвриклея?
Старуха поглядела на свои ноги, они были в грязи – она немало побегала с раннего утра.
– Я подумала, раз уж я на ногах и брожу во сне, осмотрю заодно запоры, мне ведь редко случается осматривать их по ночам. Видеть-то я не могла. Я ведь ощупью пробиралась вперед. Но мне чудилось, будто я стала такой сообразительной, что рассудила: надо бы иногда проверять запоры. Засовы и веревки на наружных дверях должны быть крепкими на случай, если кто-нибудь вздумает сюда явиться, какие-нибудь злодеи – из Нижнего города, само собой, не из Верхнего, ну, к примеру, всякий сброд из Нижнего города, или морские разбойники высадятся на берег ночью, проберутся сюда и начнут ломиться в дом. А меня всегда манили запоры. Мастерить запоры – по моему разумению, величайшее искусство.
– Ты, стало быть, проверила все ворота, все двери в доме и главный вход в мегарон тоже?
– Да, раз уж я начала проверять, я решила проверить все.
Пенелопа спустила с кровати белые ноги, и Эвриклея, нагнувшись с невероятной гибкостью и проворством, надела на них красные шлепанцы.
– Куда пошел Телемах, Эвриклея?
– О-о, толком я не знаю, – сказала старуха-лунатичка. – Не могу ж я шпионить за ним, у меня своих дел хватает. Кажется, он прошелся вокруг дома, а потом вдоль ограды. Я случайно вышла утром во двор, гляжу, а он там.
– Возле оружейной?
– Да, кажется, он дверь открывал, приоткрыл ее и заглянул внутрь. А потом задвинул засов и еще завязал его замечательно красивым, замысловатым узлом.
– Он умеет вязать замысловатые узлы? – спросила мать. – Когда ж это он научился? И быстро он их вяжет?
– По чистой случайности при этом был наш Гость, или как его надлежит звать, – отвечала Эвриклея.
Пенелопа поднялась с постели, выпрямилась.
– Где они теперь?
– Не знаю, то есть не могу сказать с уверенностью, – отвечала старуха, отвратительным движением соединяя ладони дряхлых, с набрякшими венами старческих рук. – Кажется, пошли через оба двора за ограду. Наверно, стоят у наружных ворот.
– Под дождем?
– На них плащи. У высокочтимого Гостя плащ очень старый и дырявый.
* * *
Она долго причесывалась, помогала ей одна только Эвриклея. Бессонные глаза старухи в этот день видели особенно зорко, а покрасневшие в этот день глаза Пенелопы были почему-то отуманены: их то и дело застилала влажная пелена, и пелена эта превращалась в капли различной величины. Старуха, стоявшая за спинкой стула, наклонялась и один за другим вырывала седые волоски.
– Они вовсе не седые, они совершенно молодые, просто они светлей других, вот я их и вырвала. А вообще сами по себе волоски отменные.
– Покажи!
– Я их обронила, – отвечала старуха. – Да там и был-то всего один, ну по крайности три, но я хочу вырвать еще один.
Она вырвала один каштановый, или почти каштановый, волосок и протянула Хозяйке;
– Вот.
Но когда она вырвала следующий волос, Хозяйка успела схватить старухину руку, удержала ее. Волос был совершенно седой.
– Таких седых, как этот, раз-два и обчелся, Ваша милость, – сказала старуха.
Пенелопа вымыла тело, ноги, руки, плечи, шею, старуха приносила горячую воду, растирала хозяйку и массировала. Женщина средних лет взяла из рук Эвриклеи флакон с елеем, умастила себя, тщательно наложила густой слой белил и румян на лоб, на щеки, шею и руки. Потом надела платье, которое Сын привез из Лакедемона, – дружеский подарок заботливой Елены.
Она почти не прикоснулась к еде – проглотила только немного хлеба, оливок и баранины, но зато с жадностью выпила вина. И только после полудня, когда все уже было устроено, сошла вниз.
* * *
Все было устроено. Все устраивалось. Ничто никогда не устроится.
Отец с сыном стояли под дождем за наружными воротами. У их ног лежали холмы и Нижний город. Наискосок, по ту сторону гавани, на другом ее берегу, отдыхали длинные смоленые суда, вытащенные на берег зимовать. Этой дорогой, со стороны пролива и моря должен он был бы прийти, под парусами, открыто, при свете дня, во главе мощного флота, большой рати, с добычей и оружием.
– У меня такое чувство, будто я подкрался к ним сзади, – сказал он, – Что я хитрец, я лукавец.
– Ну и что из того? – возразил Телемах с гордостью и удивлением, – Хитрецов повсюду славят. Твоя слава, папа, и в знаменитом деревянном коне, что вы пустили в ход под Троей. Об этом слагают песни, во многих песнях поется о деревянном коне.
– Вот как! – сказал он.
Все было устроено, ничто никогда не устроится.
Боги были на их стороне, но что такое боги? Никто не знает. Но они были на их стороне. Ночью разразилась гроза, а с утра зарядил хранительный дождь. Скоро должен был вернуться Эвмей вместе с пастухом, посланным сюда богами как нельзя более кстати, – он пас и закупал рогатый скот на Заме, его привлек к делу Эвмей, а Эвриклея мобилизовала Дакриостакта. Дождь должен был охранить их от многих гостей. Рано утром отец с сыном побывали на заднем дворе в оружейной и попробовали лук – Эвриклея стояла на страже. Лук был из рога и дерева. Телемаху почти удалось натянуть тетиву – сделай он еще несколько попыток, может статься, он и справился бы. Отцу тоже пришлось попотеть, прежде чем он добился успеха, – усилие отозвалось в плечах, бицепсах, пальцах. Но он вспомнил прием, небольшой рывок – и лук согнулся, поддался, тетива врезалась в пальцы, но уступила.
– Я знаю еще только двоих, кто мог бы его натянуть, – сказал Телемах.
– Антиной, наверно, – предположил отец. – А кто второй?
– Меланфий, – ответил Телемах. – Но ему никогда его не дадут.
Когда они возвращались через двор к дому, дождь припустил. Рожавшая, собиравшаяся вот-вот разродиться рабыня кричала в людской возле зимней кухни. Она взывала к богам:
– О-о-о! Зевс! О-о-о! Деметра! О-о-о! Посейдон! (При чем тут был Посейдон?) – Она выкликала имена еще других богов – тех, что обитают на далеких южных берегах и на восточных границах знаемого мира, имена, которые темнокожее семейство Долиона привезло с собой в здешние места и, быть может, до сей поры не вспоминало: – Бел! Бубастис! Секхет! Мелитта! [93]93
Бел – древневосточное (аккадское, западносемитское) божество плодородия, соответствующее греческому Пану; Бубастис – египетский город, в котором почиталась богиня Баст, чьим священным животным была кошка; Мелитта (букв.: пчела) – имя нескольких персонажей греческой мифологии, которые считались прародительницами пчел; одна Мелитта – кормилица Зевса, другая – жрица Деметры, растерзанная товарками за то, что отказалась раскрыть им таинства богини (и в ее останках завелись первые пчелы); в воплях Меланфо можно усмотреть обращение к третьей Мелитте – возлюбленной Посейдона, родившей ему сына Диррахия
[Закрыть]
Отец остановился под проливным дождем и прислушался.
– Плохо ей. Рожает, видно? Кто это? Вчерашняя смуглянка? Беременная девчушка?
– Наверно, – торопливо ответил сын, собираясь идти дальше, он спешил укрыться от дождя.
Отец зашагал следом за сыном.
– Это что, сестра Меланфия? – спросил он. – Когда я уехал, ее еще на свете не было, а теперь она сама рожает. Это ее испортил Эвримах?
– Должно быть, да, – широко шагая, ответил сын. – Только говори потише. Нам обоим пора вернуться к своим ролям.
– Многие рабыни спали с женихами, Телемах?
– Не знаю, – ответил сын и, войдя в прихожую, снял с себя мокрый плащ и стал его отряхивать. – Идем же, папа, ты сам сказал, мы должны сыграть свои роли.
– Хотел бы я знать, кто эти рабыни, – сказал отец. – Я здесь для того, чтобы все устроить. Я должен сделать это сегодня. Не знаю, смогу ли я сделать для вас еще что-нибудь потом.
– Наверно, какой-нибудь десяток девчонок или около того, – сказал сын, – Эвриклея знает лучше. Она знает все! – Голос его стал пронзительным, поднялся до крика. – А теперь нам пора войти в свои роли, папа.
* * *
Они сыграли свои роли, и боги все устроили, и ничто не устроилось.
Эвмей вернулся из инспекционного обхода, он провел беседу со своими пастухами, ему многое было известно, он умел наблюдать и делать выводы. Возможно, он считал, что дня через два, а то и завтра им могут понадобиться резервы. Его сопровождал Филойтий, которого Хозяйка давно уже определила на Зам закупать скот и начальствовать над тамошними пастухами; он был в какой-то мере чужак в здешних местах и, по-видимому, охотник до приключений. В полдень, промокшие до нитки, они спустились с гор. Эвриклея отсутствовала несколько часов, может, ходила в Нижний город поговорить с людьми, на которых могла положиться, или предупредить их, точно неизвестно, может, она просто слушала, у нее был с собой помощник-слухач, слуховой аппарат – Дакриостакт, впрочем – кто знает, – может, она просто лежала в своей каморке, подкрепляя силы сном?
Боги все устроили, и потому небесная влага часами изливалась на землю. Дождь, затоплявший Островное царство, западные острова, принесся от самых Гесперид и Испании, из края Атлантид, из царства дочери Атланта, из владений Калипсо, с островов лестригонов, с Голубиной горы, с моря, называемого Кирносским морем. Осенние западные ветры принесли его с Длинной земли, которая позднее стала называться Италийской, с берегов Кирки, от Сциллы и Харибды, из огнедышащих Полифемовых пупов земли – этих сосцов на груди Геи. Он принесся из краев Зевса, Гелиоса и Посейдона и, становясь все более жестоким и беспощадным, затопляя разум и туманя взгляд, потоками низвергался на острова, которые звались Закинф и Зам, и на сказочную страну – богатый злаками Дулихий. И ливмя лил на маленькую судьбоносную точку в громадности мира – Итаку.
В Нижнем городе люди сидели по домам и говорили: «Скоро зима, да, вот она и пришла, нынче первый зимний день. Слава богу, мужчины наши вернулись с моря домой, и мы, и рабы наши здоровы, и у нас есть крыша над головой, есть где схорониться от непогоды. Благодарение богу, слава Зевсу, у нас есть дом, и одежда, и пища, и нам нет надобности выходить на улицу в такой день!» А в Верхнем городе, в богатых домах вокруг Большой усадьбы, которую иногда высокопарно именовали Дворцом, сидели молодые и средних лет мужчины и думали: можно, конечно, пойти туда, но к чему зря мокнуть под дождем, можно отложить и на завтра, а Аполлонов день [94]94
Шестое число каждого месяца; главный праздник приходился на 6 фаргелия (май – июнь), день рождения Аполлона и Артемиды на Делосе
[Закрыть] можно отпраздновать и дома, если уж так необходимо праздновать его в такую непогодь. Впереди еще целых шесть дней. Еще успеем узнать, кого она выбрала, да это и так уже известно. Молва все знает: слава богу и увы, она уедет в Дулихий. А на маленьких клочках земли, под крышами хижин и лачуг в северной и южной части острова, сидели овечьи пастухи, козопасы и свинопасы, мелкие землевладельцы и бедные рыбаки и думали: хорошо тем, кто не рожден знатным господином и избавлен от бремени забот, налагаемых властью, – и радовались, что хоть в такой день они избавлены от знатных господ, снедаемых жестокими заботами, которые налагает власть. И на них на всех лил, струился, низвергался дождь. Дождь захлестывал Большую землю, взбивая в пену морскую гладь, срывая пожелтелые листья дубов, барабаня по зеленой листве олив, вспарывая землю вздувшимися ручейками, ручьями, горными потоками, речками и реками. Дождь стекал с деревьев на землю, а с земли в море, струился с гор, взбаламучивая источники, доказывая, что нимфы еще существуют, и вязкими, тинистыми, бурыми и желтыми потоками стекал в глотку самого Посейдона.
Но сквозь воздвигнутую самими богами решетчатую преграду дождя некоторые все же явились. Современный рассказчик, ваш слуга, сникнув под бременем фактов, многочисленных, многозначных, многоликих и переменчивых свидетельств, может только назвать сухие цифры и перечислить уже помянутые прежде имена – имена промокших до костей, до нитки молодых и средних лет мужчин, вышедших навстречу своей судьбе.
Антиной явился, чтобы доказать: я не из неженок, велика беда – окропит дождевой водой, к тому же я – Партийный вождь. Эвримах отправился во Дворец, чтобы никто не подумал, будто из-за какого-то там ливня он утратил свою улыбку, растерял свое обаяние, он пришел туда, чтобы они не воображали, будто он стесняется показаться в доме, оттого что одна из рабынь, девчонка, с которой он случайно провел ночь, ну, может, две, самое большее несколько десятков ночей, путался, ну, может, полгода, от силы год или что-то в этом роде, ходит теперь непорожняя, оттого, что темнокожая, курчавая, с огромным животом служанка со дня на день, а может, даже сегодня родит. И Амфином с Дулихия покинул свое пристанище на постоялом дворе Ноэмона и прошел весь путь без всякого зонта. Он думал: может статься, это я. Поэтому мне неудобно пропустить хотя бы один день. К тому же в такой дождь соберется не так уж много народа, может, мне удастся улучить минуту и перемолвиться с ней двумя словами, произвести на нее благоприятное впечатление, чтобы она поняла, что я вовсе не так робок, как, может, иногда кажусь.
Нам известны и другие имена: Демоптолем, Эвриад, Элат шли из богатых домов Верхнего города или из трактира в Нижнем городе через оба двора, под стрехами крыш, с которых стекала вода, к мегарону Долгоотсутствующего, туда явились Писандр и Эвридам, Амфимедонт, Полиб и Ктесипп с Зама, Агелай, Леокрит и Леод и еще двое-трое, и, может быть, кто-то из них остался в живых, а может, не уцелел никто.
Они входили, снимали в прихожей свои плащи и, внося их в зал, просили позволения развесить их ненадолго у огня, чтобы испарилась хотя бы часть влаги. Они отряхивались и говорили: «О боги, ну и ливень, ну и ненастье. Сегодня не повредит малость подкрепиться и выпить глоток неразбавленного вина». Они составили собрание, съезд, беспощадной рукой отобранную группу, а на ее обочине, на дальнем ободке круга находился Фемий, который должен был для них петь, и двойной шпион и гонец Медонт, все еще не решивший, на чьей он стороне.
Были там, гласит предание, еще и многие другие. Но, надо полагать, это преувеличение. Ни смертному певцу, ни далее богам не дано распорядиться участью ста восьми или пятидесяти двух человек, покончив с ними в таком небольшом зале, да еще с помощью колчана, в котором может уместиться всего сорок стрел.
А впрочем…
Мы этого не знаем.
Телемах сидел на почетном месте, за столом, уставленным яствами и питьем, а копье его щегольски и хвастливо прислонено было к колонне за его спиной. Вчерашнего нищего он усадил за маленький столик у двери, ведущей в прихожую. За спиной Сына у порога двери, ведущей во внутренние покои, по чистой случайности стояли старшая кормилица, дряхлая, но проворная старуха Эвриклея, и ее немой, но наделенный острым слухом слуга и неизменный провожатый в дальних поездках, Дакриостакт, а в глубине дома находились также искатель приключений, торговый агент Филойтий и его друг и наставник Эвмей.
Перед Сыном за столами, расставленными вдоль стен между колоннами, сидело человек двадцать, а может, тридцать. Сегодня трудно сосчитать их на таком отдалении – словом, некоторое число гостей. Жрецом у них был Леод: когда они видели в том нужду, он исполнял обряды, распоряжался жертвоприношениями и формулировал молитвы. А начальник козопасов Меланфий был у них Главным виночерпием, обер-мундшенком, тем, кто уже так давно сидит в игорном зале, что и сам считается игроком, хотя ему и не дозволено прикасаться к игральным костям. Фемий был их неизменно печальным певцом, а Медонт, как уже сказано, был двойным шпионом, над которым тяготело весьма сильное подозрение и который все еще не решил, на чьей он стороне, но скоро, уже сегодня, он решит и выберет нужную сторону, самую безопасную – всегда самую безопасную.
* * *
Наверху, под звуки дождя, барабанившего по ее крыше и по плоской крыше мегарона, Пенелопа оторвала ногу от пола, сделала от окна шаг, другой, третий, прошла по комнате, отворила дверь и стала спускаться по лестнице.
Кто-то сообщил ей (одна из рабынь явилась с вестью): «Скоро начнется. Они собрались. Телемах приготовился держать речь».
Телемах сказал:
– Господа, почтенные мои гости. Очень любезно с вашей стороны, что вы явились сегодня сюда, несмотря на плохую погоду. Быть может, этот день окажется счастливым для кого-то из сидящих в зале. Моя мать решила сократить время, перешагнуть через ожидание, чтобы нынешний день стал самым полновесным днем из всех, какими одарили нас Зевс и Гелиос за последние годы.
Ему самому казалось, что это удачное начало речи, он помнил его наизусть, он вызубрил урок.
Услышав голос сына, она остановилась посреди лестницы – ей удалось разобрать несколько слов. Речь может затянуться. Она не спеша поднялась обратно по ступенькам, вошла к себе, взяла лежавшее на постели медное зеркало и стала в него глядеться.
– Господа, – говорил Сын, – чтобы сократить время ожидания, моя мать решила предложить вам состязание. Мы считаем, что сегодня здесь собрались самые знатные и самые серьезные из претендентов – непогода их не устрашила. Я убежден, что никто из тех, кого сегодня здесь нет, не сможет считать себя несправедливо обойденным.
– Хватит трепаться! – громко заявил Антиной. – Давай выкладывай сразу. Что там еще за состязание? Кто больше всех сожрет? Или быстрее всех сосчитает волоски в твоей бороденке? Бьюсь об заклад, их семь с половиной штук.
Они смеялись, а Телемах старался вновь овладеть собой. Руки его дрожали, шея, потом щеки покраснели. В наступившем молчании, в тишине, которая воцарилась, когда они нахохотались всласть, послышались стоны из помещения для рабынь. Некоторые гости перемигнулись. Эвримах смотрел прямо перед собой в огонь, над которым клубился пар от сохнущих плащей, челюсти его были стиснуты, он злился. Амфином обвел окружающих вопросительным взглядом. Вчерашний нищий уставился на кисти своих рук, может, считал свои пальцы, в надежде, что насчитает больше девяти.
– Господа, – сказал Телемах, и краска сошла с его щек, – почтеннейшие гости, у моего отца, в данную минуту Не Совсем Здесь Присутствующего, Временно Отсутствующего, но, вероятно, весьма скоро Долженствующего возвратиться, – (он выучил речь наизусть!), – есть двенадцать бронзовых топоров. В прежние времена он, бывало, ставил их в ряд во дворе и посылал стрелу сквозь отверстия колец, ввинченных в рукоятки. Никто, кроме него, не мог это сделать. Он брал свой самый тугой лук…
– А он, наш великий герой, часом не разбивал рукоятки сотни топоров, чтобы потом стрелять сквозь все дыры с пятисот шагов?
Это был первый смертный приговор – реплику подал Ктесипп с Зама.
Меланфию, который был сегодня с похмелья, тоже хотелось исполнить свою роль.
– Нет, он расставлял топоры на горе Нерит, а потом греб через пролив к Заму и оттуда стрелял! – загоготал он так, что слюна пузырями вздулась у него на губах. – И стрелял он не через какие-нибудь там дырки, а прямо сквозь бронзу! И стрела его летела аж до самого песчаного Пилоса и раскалялась так, что Нестор пальцы обжигал, если пытался поднять ее, прежде чем она остынет!
Он дал им отсмеяться. Меланфий почти уже мертв, почти изрублен в куски, подумал он.
Последовал еще один смертный приговор – теперь была очередь Леокрита.
– А мне рассказывали, будто он пропускал стрелу сквозь кольца топоров и, нанизав их так, натягивал лук! В том-то и состояла вся хитрость, хитроумнейшая из всех хитростей!
Им дали отсмеяться.
– Мой отец брал свой самый тутой лук… – сказал Телемах.
* * *
Он сидел так, как сидел однажды вечером двадцать лет тому назад, только не на пороге, а в середине зала – тогда Агамемнон с Менелаем явились за ним и увезли на войну в Трою. Он низко наклонил голову, бородой касаясь груди, на гладкой поверхности стола перед ним играли отблески тусклого дневного света и пламени очага. Во дворе дождь потоками стекал с крыши в бочки с водой, переливавшейся через край. Закрыв глаза, он слушал речь своего сына, отменно вызубренный урок, упражнение в красноречии и геройстве. Все это суесловие на сегодняшней пирушке отчасти придумал он сам. Оно должно было замаскировать истинные их намерения: затею с топорами надо было преподнести так, чтобы она не показалась им слишком зловещей. Время от времени до него доносился женский стон из глубины дома. Девчонка рожает своего первенца, и ворота, достаточно просторные для любострастия, слишком тесны для его плода. Сестра приговоренного к смерти. Наследница Долиона, грезящая о троне, шепнул ему сегодня утром Эвмей. Из женского тела на свет появляется ребенок. Таких вот детей герои хватали за ножки и убивали как щенят под стенами Илиона. Может, ее ребенок станет новым Астианаксом, подумал он. Или молочным поросенком, которого скоро забьют. В чем разница между рабыней и свиноматкой? Люди, свободные люди, берут новорожденного молочного поросенка, потом откармливают, недолго – недели две, несколько дней, отпущенных Гелиосом, а потом приносят в жертву – едят, набивают мясом свою утробу. А рабов – тех держат впроголодь, поддерживают в них жизнь, предоставляя зимам и болезням прореживать их ряды, прореживая их и сами, а те, что останутся в живых, в двадцать лет станут служанками или солдатскими подстилками и возницами боевых колесниц, стеной пик, безымянных пик, – той самой стеной, о которой поется в песнях. Об этом ребенке надо бы хорошенько позаботиться, может, отпустить его на волю, подумал он, открыл глаза и посмотрел на приговоренных к смерти, которые сидели за столами. В моей ли это власти? Ведь я – солдат, я повинуюсь богам. И мне поручено дело. Я палач, назначенный богами, я послан сюда осуществить задуманную ими политику. Я, сидящий здесь, избран ими. Я желал бы, чтобы не было на свете кораблей, чтобы нельзя было переплывать моря. Я желал бы заснуть. Заснуть таким глубоким сном, чтобы потом не вспомнить, что мне пришлось делать в этом сне.
И мелькнула у него еще одна, странная, безумная мысль: я желал бы быть Антиноем. Быть Эвримахом и Амфиномом.
Он переводил взгляд с одного лица на другое. Вот жесткое лицо Антиноя, лицо предводителя, разбойника, этакого военного героя, который еще не участвовал ни в одном настоящем сражении. Вот Эвримах, юноша с мягкой улыбкой и приветливым, смеющимся, женолюбивым взглядом. Вот Амфином, сын богатого землевладельца с обильного пшеницей Дулихия: лицо у него доброе и безвольное, медленные движения рук округлы – у таких рабы всегда хорошо откормлены. И вот другие: на их лицах написаны злоба, алчность, тяга к приключениям, добродушие, хитрость, и на всех – неукротимая жажда жизни. Зевс, думал он, ты, Всесильный, Безгранично мудрый, собери всю свою Жестокую мудрость и сделай ее Доброй, и преврати меня в ласточку, в чайку, дай мне улететь отсюда на остров Эю или к Ней! Прими меня на свое лоно, жестокий, непримиримый Посейдон, и унеси меня прочь отсюда!
* * *
– …свой самый тугой лук, – говорил Телемах. – Мой отец натягивал лук, которым он пользовался только для этой цели и который мог натянуть только он один, и одним выстрелом пропускал стрелу сквозь отверстия всех колец.
– А нам, само собой, это не под силу! Но разве твой отец не был на две головы выше всех людей на свете, выше даже самих богов? И разве обыкновенной быстроногой вше не нужно было затратить целый день, чтобы облазить его спину? И разве он не убирал с дороги мешавшие ему дома, когда прогуливался по Итаке?
Это Амфимедонт подтвердил свой смертный приговор.
– Моя мать… – начал Телемах.
Но тут большой шаг на пути к Аиду успел сделать Пасандр:
– Честно говоря, надоело уже слушать болтовню о несравненном папеньке! К делу!
Писандра нагнал Демоптолем:
– Мало того, что нам все уши прожужжал крикун Фемий, теперь и ты надумал петь хвалебные песни об Илионе? Где же твоя кифара, не в животе ли?
– Кифара? Она в животе у девчонки, которая орет за дверью! Прислушайтесь и услышите, как она играет!
Меланфий, уже дважды приговоренный, обернул свое смуглое лицо к Элату и к хохотавшему во все горло Эвриаду и сам приговорил их к позорнейшей смерти. Если я когда-нибудь доберусь до власти, оскоплю обоих, а с ними заодно и еще кое-кого! – подумал он.
– Моя мать… – начал Телемах.
* * *
Перед внутренним взором Возвратившегося, Долгоотсутствовавшего стояла картина – тонущий человек. Волны подкидывали его, швыряли на острые скалы, но он знал, что у него есть спасение, есть женская нежность, улыбка Навзикаи и женские колени, на которые можно склонить усталую голову. Если его пронесет между скалами в тихий залив, в широко разверстое лоно земли, он найдет там пристанище. Но волны были слишком круты, злобный бог Посейдон навис над ним, он накатывал на него свои валы, вновь и вновь затягивая его в водяную пучину. Никогда не добраться ему до берега. Его разобьет о скалы, а остатки его существа, смертные лохмотья, надолго сохранившие способность мыслить, осуждены барахтаться в море крови – во веки веков. Если б я мог спасти хоть кого-то из них, мне было бы не так тяжело, думал он, переводя взгляд с одного лица на другое. Если бы я мог кого-нибудь спасти, это впоследствии оправдало бы меня перед самим собой. Он переводил взгляд с одного лица на другое. Они сами приговаривали себя к смерти, один за другим, приговаривали себя дважды, а некоторые по многу раз, к самой позорной смерти, к исчезновению, к странствию в Аид, к истреблению. Если бы я мог спасти хоть кого-нибудь из них, думал он, быть может, я спас бы и самого себя. Тогда я, быть может, имел бы право сказать: «Ты, Астианакс, или как там тебя зовут, я спас тебя! Ты живешь благодаря мне! Ты был уже на пути в Аид, ты сам пытался осудить себя на смерть, но я спас тебя, я сделал вид, что не слышу смертного приговора. Я был хитроумным, изворотливым, я не то чтобы сознательно обманул кого-то из богов, но я недослышал некоторые из их приказаний!»








