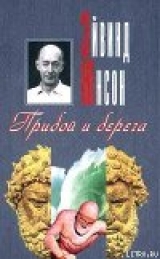
Текст книги "Прибой и берега"
Автор книги: Эйвинд Юнсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Глава двадцать четвертая. КОНТРАПУНКТ III
А
– Я всегда терпеть не могла кошек, – сказала Пенелопа, дав таким образом выход своей ярости при виде шедшей по двору наложницы многих женихов, все еще прекрасной дочери Долиона.
Она не женщина, не человек, думала Долгоожидающая, она животное с прорехой в теле. Она рабыня, и я могу сделать с ней, что захочу: захочу – могу даже оставить в живых. Спит с кем попало, последним был Антиной. Пузатая распутная тварь. Я… Я… Я с кем попало не спала. Я не шлюха. И родила я только однажды. А эта будет плодить детенышей, как кошка, как змея, как…
Она резко обернулась к стоявшей за ее спиной Эвриклее и крикнула:
– Почему ты не сказала мне раньше?!
– Я ему пообещала, Ваша милость
– Пообещала!
Но тут она вспомнила другое обещание, мимолетно вспомнила вдруг – Тканье. Она попыталась овладеть своим голосом.
– Я его мать, – сказала она. – Ты обязана была сообщить мне, что он ушел в море на корабле. Для чего ты вообще здесь? Отвечай! Отвечай сию минуту. – Ее снова захлестнула ярость. – Не то я тебя убью!
* * *
Ноэмон, сын Фрония, был озадачен: он решил, что, как видно, хлебнул лишнего у себя на постоялом дворе в гавани, где обитали мучимые вечной жаждой женихи с утесистого Зама. Дело в том, что ему было видение. Среди бела дня на улице он увидел Ментора, хотя прекрасно знал, что старый мудрец отправился в Пилос с мальчонкой Телемахом. Ноэмон подошел прямо к Ментору и, тронув его за плечо, заглянул в бородатое лицо:
– А я думал, ты странствуешь. Стало быть, вы все уже вернулись? А где вы причалили мое судно?
– Странствую? – переспросил Ментор, любивший строить из себя философа. – Все мы вечные странники. Я странствую по своей жизни, – заявил он важно и глубокомысленно. – Мы странствуем во сне и наяву. Ты сам – странствие, и я – странствие, дальнее странствие совершают вместе с нами боги, и хорошо было бы прожить так долго, чтобы увидеть, чем кончится великое вселенское странствие.
– Кончай ерунду пороть! – сказал Ноэмон. – Когда ты вернулся? Ты что, не понимаешь: я хочу знать, что вы сделали с моим прекрасным судном?
– Я возвращаюсь всегда, – заявил Ментор, дернув себя за бороду и нанизывая одну за другой дурацкие мысли. – Когда я был молод, я вернулся с Крита. Потом я вернулся в Трою, где никогда прежде не бывал, с Итаки, где, правду сказать, пребывал почти всегда. Я вернулся из Трои по окончании самой великой, кровавой и жестокой за всю мировую историю войны. Вчера я вернулся из деревни, я навещал Лаэрта, мы обсуждали с ним проблемы философии и огорода – они хорошо сочетаются, это родственные материи, и нашли решение. Сейчас я возвращаюсь из гавани, а немного позже вернусь из своего дома, потому что мне надо зайти во дворец поглядеть, что там поделывают женихи. А потом, к твоему сведению, я вернусь оттуда. Вечное возвращение, вечное странствие – в этом все дело.
– Тьфу, чушь какая! – сказал Ноэмон, не на шутку разозлившись на седобородого. – Где вы оставили мое быстроходное судно, у меня в нем нужда, и где мой сын, он ведь уехал с вами?
– Судно?
– Ну да! Лучшее мое судно. Настоящий быстроходный корабль! Где вы его причалили?
– Судно, корабль? – переспросил Ментор. – Сама жизнь судно. Если поразмыслить, жизнь – это, по сути дела, корабль.
Преисполненный сознания собственной мудрости, он зашагал дальше, думая, вероятно, что Ноэмон увяжется за ним, пойдет с ним рядом, внимая его рассуждениям. Однако трактирщик постоял некоторое время, прислушиваясь к удаляющемуся бормотанью. А потом его разобрала злость и даже страх. Он, пыхтя, побежал вдогонку за стариком и снова схватил его за руку:
– Говори, откуда ты сейчас вернулся, с Большой земли или нет?
Ментор остановился, посмотрел на Ноэмона, подумал, взвесил свои слова, как если бы у него были в руках весы – так, во всяком случае, выглядели его жесты.
– Мы всегда возвращаемся с Большой земли, мой мальчик. И боги и люди приходят с Большой земли. Я тоже пришел с Большой земли. Но откуда приходит Большая земля? Ответь мне, если можешь!
– Но я говорю про сегодняшний день! – завопил Ноэмон.
– По правде сказать, я давным-давно не бывал на Большой земле, – сказал старик. – То есть нет, в мечтах я бывал там часто. Но ноги мои, мои усталые ноги, не ступали на землю материка уже много лет.
– Но разве ты не последовал за Телемахом и за моим мальцом с их приятелями? Когда они отплыли в Пилос? Дней десять тому назад?
– Я всегда следую за сыном Одиссея, – ответил старик Ментор и поднял руку, как бы наставляя и благословляя. – Я следую и слежу за ним с величайшим вниманием. Это моя обязанность. Мыслящие граждане нашего города не могут не знать, что его отец был моим лучшим другом. Телемах принадлежит к числу лиц, за которыми я слежу с особенным вниманием… Ах вот как, так он на Большой земле? – вдруг с любопытством спросил старик.
– О милостивый громовержец! – воскликнул Ноэмон и помчался своей дорогой – сначала в гавань, потом в трактир, где он залпом осушил кубок почти не разбавленного вина, потому что пот катил с него градом, а потом поднялся к себе в комнату и стал думать. И решил, что ему было видение. Ведь Ментор должен теперь находиться в Пилосе, он, Ноэмон, сам видел, как тот всходил на корабль. Чудеса, однако, подумал он. Видение как две капли воды походило на явь! А впрочем, чего удивляться? Чудеса в том и состоят, что видения кажутся явью.
И тут же в нем пробудилась тревога о его прекрасном судне. На мгновение Ноэмон подумал и о сыне – впрочем, мимолетно, потому что от корабля его мысль сразу перескочила на тягловых животных, составлявших его имущество на Большой земле, – это были двенадцать жеребят, в которых он (из тщеславия) поместил часть своего капитала, и несколько мулов. Животных он держал у двоюродного брата в Элиде, и теперь ему страстно захотелось немедленно на них взглянуть.
* * *
– Пришел Ноэмон, – сказала Эвриклея. – И ведет себя как-то чудно. Я надеялась, что он придержит язык, а он возьми да все и ляпни. Говорит, что ему было видение, он напился еще до завтрака, и, когда они, особы, которые в мегароне, спросили, что он видел, – само собой, хотели над ним потешиться – он возьми и скажи, что видел Ментора.
– А что особенного в том, что он видел Ментора? – спросила Пенелопа.
* * *
Схватив Ноэмона за шиворот, Ангиной крикнул:
– А ну, выкладывай всю правду, старик! Что там за история с Ментором?
– Я думал, он на Большой земле, – отвечал Ноэмон сразу пересохшими губами. – Да я и сейчас думаю, что он на Большой земле, а это было видение. Но, господи, до чего же он был похож: на самого себя. Он был… ну в точности как если бы это был он.
– Пьяная скотина! – рявкнул Ангиной, выпустив Ноэмона, и грозно выпрямился, расставив ноги и скрестив руки на груди. – Давай выкладывай всю правду, а не то…
Эвримах и Амфином гоже повскакали с мест.
* * *
Дворник, сверхштатный певец, вестоносец и двойной шпион по имени Медонт перенес одну ногу через очень высокий (внешний и внутренний) порог и увидел обеих женщин. Хозяйка стояла у окна, она смотрела во двор и прислушивалась. Снизу из зала доносился беспокойный шум, разговоры, звон посуды, поспешные шаги, эхо, время от времени резкий, похожий на удары молота голос Антиноя, чистый, примирительный голос Эвримаха и дружелюбно-звонкий, рассудительный голос Амфинома; можно было даже разобрать отдельные слова. За спиной Пенелопы стояла Эвриклея: сложив вместе ладони, она пыталась заглянуть через плечо хозяйки, а может, просто в отчаянии смотрела на ее спину.
Обе женщины обернулись. На лице Супруги была ярость, на лице старухи – страх.
– А тебе чего надо, Медонт?
Он перенес через порог вторую ногу, едва при этом не споткнувшись, хотя он с величайшей осторожностью уже много раз и прежде переступал этот порог. Его обуревало двойственное чувство: с одной стороны, он совершает предательство по отношению к тем, внизу, но, с другой, должен же он сообщить важную новость Хозяйке. В общем, минута была захватывающая.
– Ментор навещал Лаэрта, Ваша милость.
– Знаю, – сказала она. – Он и не уезжал на Большую землю.
– Но Телемах вовсе не у Лаэрта, Ваша милость. Он в Пилосе.
– Знаю, – сказала она. – Чего тебе надо?
Искус двойного шпионства переполнял щуплую грудь Медонта; он колебался. Эвриклея скорбным движением разняла руки, поднесла правую ко рту, словно, несмотря на весь свой страх, собиралась то ли зевнуть, то ли сделать предостерегающий знак.
– Они хотят убить его, Ваша милость, – сказал Медонт. – Они будут караулить его, когда он вернется домой. В Замском проливе, чтобы не дать ему подняться в город.
– Знаю, – сказала она.
Эвриклея уронила руки. Впоследствии, в той жизни, что ему было дано прожить среди людей, Медонт вспоминал мелькнувшую у него в эту минуту мысль: вот это и есть настоящие, истинные материнские руки, руки отчаяния, руки страха, – и образ старухи навсегда преобразился в его сознании; воспоминание это было таким ярким, что, должно быть, он унес его с собой в Аид или куда он там под конец угодил.
– Тебе известно, где именно они собираются устроить засаду? – хрипло спросила Пенелопа. Но тут же справилась со своим голосом: – Сейчас же говори все, что знаешь!
– Я уже сказал: в проливе, немного южнее, и еще на горе. Они расставили дозорных в Астерии и на северной оконечности Зама и выслали патрули в пролив и сюда, на гору.
Ему легче было перечислять голые факты, приводить сухие данные.
– В засаде их будет двадцать человек, – сказал он.
– О-о!
Руки Пенелопы то сжимались, то разжимались, непрерывно сжимались и разжимались.
Старуха смотрела в пол, собираясь с силами.
Медонт все стоял, отступать ему было некуда. Он пытался отвесить поклон, но Хозяйка его попытки не заметила, она смотрела в одну точку за его спиной, над дверью.
– Эвримах участвует в этом деле? – спросила она.
– Да.
– И… и Антиной тоже?
– Да, и Амфином и все остальные, – ответил он, снова готовый искать спасения в фактах, прикрепить свой собственный страх к чужим именам.
– О-о!
Он подумал: так стонет тот, кто сам себе вонзает в грудь кинжал, – руку он остановить уже не может, но все же противится ножу.
Эвриклея открыла рот, старческим языком облизнула сморщенные губы, потом переступила с ноги на ногу, словно намеревалась шагнуть, но еще не решила, в какую сторону. Она снова подняла руки, сложила ладони вместе и обрела равновесие.
– Медонт хороший бегун и опытный мореход, – сказала она.
Пенелопа отвернулась к окну и что-то бормотала, потом заговорила громче:
– Сначала они – боги – взяли Его. Потом наслали сюда стаю этих грызунов, крыс, кузнечиков – Зевсово нашествие! А теперь они хотят уничтожить его Сына. Малыша. Хотят истребить самое имя! И чьими руками? Антиноя и Эвримаха!
Она так резко повернулась к ним, что Медонт отпрянул и едва не упал, стукнувшись пяткой о порог. Старуха Эвриклея отступила на два шага, не теряя, однако, устойчивости.
– Не хочу! – закричала Пенелопа. – Не согласна! Не допущу! Я… я буду…
– Мадам, – сказала Эвриклея. – Медонт хороший бегун и опытный мореход. У него здоровые легкие и крепкие ноги.
– Надо послать гонца к Лаэрту! – сказала Супруга.
Старуха твердой поступью приблизилась на два шага к своей хозяйке, она полностью овладела собой, готовая проявить в действии волю и здравый смысл.
– Не стоит волновать его, Мадам. Он стар, ему нужен покой. Он ничем не может нам помочь.
– Теперь ты еще вздумала давать советы! – взвизгнула Пенелопа, сквозь ее отчаяние прорвался гнев. – Мало того, что ты утаила от меня правду о его отъезде, десять дней ты ее скрывала!
– Мадам, – сказала старуха, – окажите мне милость, убейте меня. Или прогоните. Но я все равно буду стоять на том, что Телемах сейчас пытается спасти нас всех. Кто знает, какое решение примут Нестор и Менелай, когда услышат, что здесь творится, да еще из его уст. И насколько я знаю, Медонт хороший бегун и опытный мореход.
Колени у Медонта подогнулись, но он отвесил низкий поклон. Он был еще молод и полон надежд.
– Смойте слезы холодной водой, Ваша милость, – сказала Эвриклея. – И наденьте другое платье. Когда на душе неспокойно, полезно переодеться. А потом Мадам следовало бы пойти в самую маленькую из ее комнат и там сотворить молитву Зевсу и еще одну – длинную-предлинную и полную ласковых слов, – молитву Афине. Об остальном позабочусь я.
– Но… – начал было Медонт, еще раз низко поклонившись.
– Корабль и гребцов я тебе обеспечу, ноги – забота твоя, – сказала Эвриклея.
– Но, – сказал Медонт, все еще согнутый в поклоне, – где я отыщу Телемаха? Что, если его нет ни в Пилосе, ни в Спарте?
Старуха смерила его внимательным взглядом.
– Видно, в тебе слаба вера, Медонт, – сказала она. – Где ты его отыщешь? Вопроси Афину, я в трудных случаях поступаю так. Но ты должен помочь ей найти правильный ответ. Такова ее воля.
Пенелопа медленно вышла из комнаты, платье волочилось за ней по полу, она стала даже меньше ростом.
– Медонт, – сказала Эвриклея. – Теперь помолчи и делай, как я скажу. С помощью богов и капельки здравого смысла я устроила так, что в Глубокой бухте стоит дулихийский корабль. Я кое о чем договорилась с дулихийцами. Это корабль на двадцать гребцов, и я надеюсь, чтo в том месте на берегу, куда его втащили, он не слишком заметен. Ты отплывешь вечером, как только стемнеет. Им скажешь, что ты от меня – этого будет довольно.
Они прислушались: внизу все еще шумели.
– Жаль будет их, когда он вернется, – сказала она, – Я хорошо знаю и Нестора, и Менелая.
В душе Медонта прояснилось, двойственность начала исчезать, он был почти уже односторонним шпионом.
– Быть может, Телемах вернется с большой ратью и с большим флотом, – сказал он, польщенный собственной важной ролью, довольный собой, своей изобретательностью, умением вступить в игру в нужную минуту и тем, как он хорошо показал себя перед Супругой. – Те, кто живет на Большой земле, свое дело знают, – добавил он.
– Я говорю об Одиссее, – сказала старуха. Медонт снова начал слегка двоиться.
– А ты уверена, что он когда-нибудь вернется? Ты знаешь наверное?
– Нет, – сказала Эвриклея. – Но я веду себя так, как если бы знала наверное. Это единственный способ. Единственная возможность. А теперь ступай.
– По правде сказать, я плохо переношу морскую качку, – сказал Медонт.
Б
Проснувшись, он почувствовал, как болит все его одеревеневшее тело.
Он еще вечером собирался назвать свое имя, но ни царица, ни Алкиной о нем не спрашивали, а ему не хотелось показаться навязчивым. Колебался он еще и по другой причине. Проснувшись в постели, в комнате напротив мегарона, он пытался оценить свое положение. Ему не удалось выяснить, каковы политические взгляды Алкиноя и каково вообще взаимодействие политических сил в мире. Как развивались события среди смертных после Великой войны? Не сочувствуют ли здесь, в Схерии, Илиону? В каких отношениях состоит страна с Аргосом, с Лакедемоном и с царством на островах? Он примерно рассчитал, что эта мало кому ведомая Схерия, куда его вынесло волнами, лежит где-то неподалеку от берега феспротов, но он представления не имел об обычаях здешнего народа (по-видимому, кротких?), о взглядах островитян на положение в мире, о позиции правительства. Если они спросят, ему придется все же открыть свое имя. Можно ли всерьез полагаться на слова царя, обещавшего доставить его домой? Похоже, я пришелся им по душе, думал он. Царь хотел далее отдать за меня свою дочь. И девушка, видно, не против. Но царь, конечно, был пьян.
Навзикаю он увидел только во второй половине дня, зато ему пришлось встретиться с горожанами. Не успел он встать и принять душ, как Алкиной явился за ним, чтобы повести его на Рыночную площадь. Там устроили нечто вроде сходки-показа. Арета извлекла из кладовой всевозможную одежду своих сыновей, так что вид у него был представительный, ему самому казалось, что выглядит он весьма авантажно.
Само собой, слух о нем уже распространился. Город был вовсе не таким огромным, как ему показалось накануне вечером, и все же на маленькой площади у пристани толпились в ожидании по меньшей мере сотни две жителей, не считая рабов и слуг. Пристань являла взору корабельное изобилие – на песке борт к борту теснились корабли: то были быстроходные суда, а поодаль в открытой бухте на якоре стояли три пузатых, краснощеких торговых судна. Дома в городе были невелики и лепились друг к другу, городские стены сложены из грубо обтесанного камня, но притом крепкие, и все вокруг дышало миром. Оружия почти никто не носил. Вокруг на свободе резвились дети, собаки тявкали и ворчали, но без всякой злобы, солнце уже начало припекать.
А здесь я ведь мог бы остаться, нежданно подумал он.
* * *
А ведь он мог бы здесь остаться, подумала Навзикая, стоя у своего окна и глядя, как отец, братья и чужеземец прошли через оба двора к наружным воротам и стали спускаться вниз к городу. Он накинул на себя один из легких плащей Лаодама – плечи у него были широкие, ростом он, правда, не очень высок, но крепко сбит, впрочем, нет, сегодня, когда он отоспался в постели, он и ростом казался выше. Чего только ему не пришлось пережить! – думала она.
– Навзикая! – позвала мать.
– Да, мама?
– Я хочу с тобой кое о чем поговорить, – сказала Арета, когда дочь явилась на ее зов.
* * *
Царь произнес краткую речь. Он отметил, что чужеземцы в их краях появляются редко, но «в соответствии с почитаемой доныне традицией», церемонно выразился он, их всегда принимают радушно.
– Этот человек, этот высокочтимый чужеземец, прибыл вчера вечером. Он странствовал по морю, он держит путь к дому, дом его к югу от Схерии, на острове Итака, о котором все, конечно, наслышаны. Я пообещал помочь ему возвратиться домой. Мне нужен хороший корабль и пять десятков гребцов.
Странник расправил плечи, чтобы казаться представительней. Мне надо было открыть свое имя – как знать, а вдруг оно здесь известно? Может, стоит назвать его сейчас?
Но он воздержался; впрочем, минута была упущена.
– Ты, ты и ты, – сказал царь, выбирая гребцов в толпе мужчин. – Согласен?
– Согласен.
– Согласен.
– Я занят.
– Согласен.
– Будьте готовы к завтрашнему утру, – приказал Алкиной, набрав нужное число желающих. – Если гость сочтет это удобным.
Вот сейчас надо назвать свое имя. Оно уже вертелось у него на кончике языка, но тут он сообразил, что, пожалуй, это будет некстати, невпопад. Ведь его ни о чем не спрашивают. Очевидно, все эти люди предполагают, что царь уже знает, как его зовут, стало быть, вылезать с таким заявлением бестактно. По дороге во дворец он все пытался улучить минуту и назвать себя. Много раз его имя уже готово было сорваться у него с языка.
– У нас нынче праздник, – учтиво сказал Алкиной, его черные глаза лучились дружелюбием. – Мы здесь не часто приносим жертвы богам, мы считаем, что баловать их не следует, но за трапезой мы о них помним.
Быть может, это было сказано в шутку – царь смеялся, – но, может быть, в Схерии существовала какая-то особенная, изысканная религия.
Здесь я и вправду мог бы остаться, подумал Странник.
– А что сегодня за праздник? – спросил он.
– В вашу честь – в честь Гостя. В честь того, что вы порадовали нас своим посещением. Такой у нас обычай.
– Вот как, – сказал он.
– Мы вызвали Демодока, лучшего нашего певца, – сказал царь. – Он поистине мастер петь героические песни о богах и о войне.
Они прошли через внутренний двор в сопровождении целой свиты гостей.
Вот теперь пора назвать свое имя.
– Я…
– Ау! – окликнул царь и помахал рукой.
В верхних покоях у окна стояли царевна и царица. Они помахали рукой, он помахал в ответ. Право же, она прелестна и еще совсем юная.
Здесь я мог бы остаться, если бы не… Я уже так давно не спал с настоящей женщиной, со смертной женщиной, подумал он.
* * *
– Такая фантазия пришла твоему папе, – сказала Арета. – Но я думаю, он был не совсем… понимаешь, они ведь выпили вчера вечером несколько чарок вина.
Девушка высунулась в окно.
– Как ты думаешь, мама, надолго он останется у нас?
– Наверно, до завтра. А может, и дольше, не знаю. Но, судя по всему, он спешит. А ты, Навзикая, хотела бы, чтобы он остался подольше?
– Хорошо бы узнать, как его зовут, – сказала она.
– Спрашивать неудобно, – заметила Арета. – У народов на западе и на юге такие диковинные обычаи.
– Но, мама, ведь мы сами пришли с запада и юга?
– Да, но это было в незапамятные времена.
– Все равно хорошо бы узнать, как его зовут.
– Папа сегодня все узнает, – пообещала царица.
* * *
Демодоку было лет пятьдесят, но в бороде у него уже пробивалась седина. В ранней молодости он потерял зрение на войне и последние три десятка лет прилежно разучивал песни, а потом исполнял их маленьким, слабым голоском, но совершенно не зная устали. Пока они ели, он сидел в стороне и что-то бормотал, повторяя урок. Перед ним стояла корзина с хлебом и кубок с вином. Мегарон и внутренний двор были полны гостей, пиршество намечалось большое и длительное. Были здесь и двенадцать советников, и вообще все знатные люди города.
Странник снова отметил, что лишь немногие были вооружены.
И счастливая мысль озарила его, когда Демодок затянул свою вторую песню.
Первая песня была о богах – весьма удачный пересказ истории, случившейся с Аресом, Афродитой и Гефестом. Премилая старая песня, которую, конечно, нельзя было счесть прославлением богов, но она высвечивала их характеры, их слабые струнки, и приближала бессмертных к смертным. Странник не раз слышал эту песню в юности и в военном лагере – собственно говоря, это был солдатский анекдот. Хромой и ревнивый умелец, бог-кузнец, смастерил сеть, и, когда неверная супруга взошла на ложе с Аресом, парочка попалась в западню.
Демодок постарался, чтобы песня звучала как можно более чинно и пристойно, потому что Арета и другие женщины слушали ее из верхних покоев.
– А теперь другую, сам знаешь какую, – сказал Алкиной.
И вот тут-то Странника и озарила мысль, надежда.
* * *
Певец пел песню о муже по имени Одиссей и о прославленном герое Ахилле – на жертвенном пиру во время великой войны ахейцев против Трои между ними разгорелась ссора. Когда Демодок пересказывал – а может, он их тут же сочинял – все ругательства, которыми оба мужа осыпали друг друга, среди слушателей в глубине зала раздались смешки, кое-кто из самых молодых даже громко расхохотался, а советники и царь заулыбались. Это подстегнуло певца, он даже повторил самые разухабистые выражения: убойная свинья, кастрированный боров, сиволапый ворюга, блудливый козел, импотент, помойная крыса, итакийский воротила, сопливая дубина, постельный храбрец, отродье двух сук, рыбоед и другие, еще почище, – перечень получился и смешной, и полный. Потом, уже в более сдержанных выражениях, он описал, как возрадовался ссоре Агамемнон, потому что всем известно, царь Микен всегда действовал по принципу: когда выгодно, разделяй, чтобы властвовать, когда выгодно, объединяй – только бы властвовать.
Странник заметил, что Алкиной исподтишка наблюдает за ним, и вот тогда-то он и осуществил свою мысль. Он приподнял полу пурпурного плаща Лаодама и на мгновение прикрыл ею лицо. Тут была не только игра: он и в самом деле был взволнован, хотя в известной мере тут не обошлось без наигрыша и целого набора подходящих к случаю жестов и выражений лица. Но повторяем: тут была не только игра. Он вдруг вспомнил, воспоминания нахлынули на него, запертые тайники его души отворились. Он вспомнил Войну со всеми ее ужасами. На несколько секунд в ноздри ему ударил дым горящего города Приама, запах пожарища, запах горелого платья, горелых волос, паленой человечьей плоти, запах крови, запах испражнений тех, кто уже умер, и тех, кто умирал, запах всего того, что Агамемнон в одном из приливов красноречия именовал величием победы, победоносной славой. Но не только этот мгновенный запах вызвал слезы на его глазах. Среди ужаса нахлынувших воспоминаний он отчетливо сознавал, что ему представился счастливый случай с достоинством, более того – на торжественный лад объявить свое имя; не упускал он из виду и того, что Алкиной, быть может, уже догадался, кто он такой, или, во всяком случае, вот уже несколько часов близок к догадке о том, что гость его принадлежит к кругу знаменитых людей, к Прославленным мужам, которые участвовали в Войне, потому-то царь и намекнул певцу, чтобы тот исполнил именно эту песню. Таким образом, к чувству ужаса у Странника примешивалось удовольствие оттого, что его оценили. Но, повторяем, на глаза ему навернулись слезы. Сквозь прочие воспоминания ему виделся долгий путь с Войны, приведший его в тихую пристань ее царства, царства воистину единственной, – Калипсо.
Остальные присутствовавшие, быть может, что-то заметили, а может, и нет. Может, они вообразили, что он сморкается, или отирает со щеки брызги вина, или вынимает из глаза соринку.
* * *
Навзикая мельком увидела его, проходя мимо двери. Наполовину заслоненный высокой фигурой ее отца, он как раз в эту минуту поднес к лицу краешек плаща, но она увидела его выражение – задумчивое, далее мрачное.
– Идем, Навзикая.
– Сейчас, мама.
В зале смеялись, до нее донеслось несколько грубых слов.
– Идем же, Навзикая, – нетерпеливо звала Арета. Мать первой направилась в кладовую, сама освещая коптящим факелом темный коридор. Кладовая помещалась не в подвале, но Навзикае всегда казалось здесь, будто она попала в заколдованную пещеру. Слева находились два чулана, где держали муку, амфоры с вином и высокие кувшины с маслом, а в глубине справа – хранилище драгоценной утвари. Там все полки были заставлены кратерами и кубками.
– Вот этот?
Арета сняла с полки большой серебряный кратер, он был инкрустирован эмалью и позолочен внутри. Навзикая светила ей факелом.
– Н-не… не знаю, – сказала она.
Арета не обратила внимания на слова дочери, она поставила кратер на пол.
– И вот эти, наверно, тоже? – Речь шла о большой золотой чаше и двух кубках по меньше.
– По-моему, это те, что он обычно дарит.
– В точности не знаю, – опять повторила дочь.
– И еще этот, – сказала Арета, снимая с полки золотой кратер поменьше.
Они собрали все сосуды и через коридор перешли в чулан, где хранилось масло. Внутри у самых дверей стоял огромный пустой кувшин с широким горлом.
– Сюда, – сказала царица.
Чаша и кубки отправились в кувшин. Кратеры она положила в стоявшую в углу корзину, прикрыв ее сверху старыми тряпками.
– Чует мое сердце, что нынче вечером он раздарит кучу всякого добра, – сказала она.
Дочь промолчала.
– После он всегда жалеет о своей щедрости и радуется, что мы припрятали подарки, – сказала царица.
Они подошли к дверям мегарона как раз в ту минуту, когда там воцарилось внезапное молчание. Обе замерли на пороге. Все сидели там же, где и раньше, но в застывших позах. Алкиной выпрямился на своем кресле и, повернувшись к Гостю, всматривался в его лицо. Слепой Демодок широко разинул рот. Левая его рука лежала на струнах кифары, точно он внезапно заглушил их. Советники, подняв головы, пялились на царя и на чужеземца. Глаза Лаодама блестели, он пригнулся так, точно вот-вот вскочит и закричит. А братья, казалось, только и ждут его знака.
– Да, это я, – сказал Гость. – Одиссей – это Я.
– О-о!
* * *
– Подожди минуту, – сказала Арета, взяла у дочери факел и бесшумно вернулась в кладовую.
Навзикая по-прежнему стояла в дверях, не сводя глаз с пришельца. Он был подобен богу. Имя его продолжало звенеть в ее ушах. Она слышала это имя и прежде, о нем упоминалось в песнях. Он обернулся, перевел на нее взгляд, он не мог не видеть ее в полумраке дверного проема. Она отступила на несколько шагов. Мужчины в зале зашевелились, стряхивая с себя оцепенение. Звякнули струны кифары – певец отнял руку.
Возвратилась Арета.
– Пойдем наверх, – сказала она. – Надо припрятать нарядную одежду. Такой уж сегодня день. Сейчас он начнет дарить все подряд.
– Да, – шепнула девушка. – Ведь он…
Она пошла за матерью, но, сделав несколько шагов, остановилась у подножья лестницы. Она слышала, как нарастает гул в зале. На верхней ступеньке стояла Арета с факелом в руке.
– Иди же!
Девушка поднялась наверх, взяла у матери факел.
– Сейчас вернусь, – сказала она, – я мигом…
Она медленно спустилась вниз, скользнула мимо двери в зал и пошла по коридору. Она без труда открыла замок чулана с серебром. Мать убрала с полок почти все, оставила только несколько старых, погнутых золотых бокалов незатейливой работы с грязными ручками и потертый, почерневший серебряный кратер.
Все остальное Навзикая нашла в чулане, где хранилось масло; посуда была засунута в пустые кувшины с широким горлом или припрятана за высокими амфорами, стоявшими в ряд вдоль стены. Она извлекла самые дорогие кратеры, чаши и кубки, которые они с матерью спрятали в первую очередь, а потом и все остальные, отнесла их в хранилище серебра и расставила по полкам.
Когда она вновь скользнула мимо двери, он говорил, обращаясь к собравшимся. Никогда еще не случалось ей видеть никого, кто был бы столь подобен богам своей мужественной красотой и силой.
* * *
Вымолвив эти слова, он сначала почувствовал неимоверное облегчение и тут же, сразу, раскаяние. Имя облекло его, он был уже не Странник, не Утис, не Чужеземец, и он должен был говорить и говорить, чтобы словом вернуть себя в мир людей.
– Я расскажу вам о своих странствиях, – сказал он.
В
Когда Менелай предложил ему в подарок трех лошадей и колесницу, Телемах вновь испытал чувство неполноценности – ущемленность жителя гористого островка. Голова у него все еще была тяжелой, то ли от египетских капель, то ли от вина, выпитого в предшествующие вечера, и он не сразу нашел подходящие для ответа слова. Он залился румянцем и от этого рассердился еще больше.
– У меня на родине нет дорог, Итака – это… это козий островок.
Разговор происходил в наружном дворе, перед ними лежал город, вокруг тянулись поля, виноградники, оливковые рощи, а еще дальше долину со всех сторон обступали высокие горы. Солнце стояло высоко в небе, часть дня уже миновала.
– Так или иначе, ты мог бы погостить у нас еще несколько дней, – сказал Менелай сердечным тоном доброго дядюшки или старшего друга. – Тебе ведь наверняка спешить некуда. И, повторяю, если надо, я готов помочь тебе, чем могу.
– Лично я не спешу, – сказал Писисграт, готовый поддержать Менелая.
Помочь? – разочарованно думал Телемах. Чем? Дать мне флот, военную рать? Да они меня на смех подымут, если я заговорю о чем-либо подобном.
– Я думаю о том, что творится дома, – сказал он. Менелай отмахнулся от этих слов таким широким жестом, точно смахивал прочь полмира.
– Ах, пустяки, все уладится, вот увидишь!








