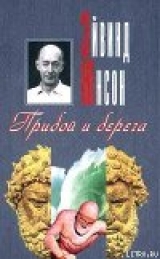
Текст книги "Прибой и берега"
Автор книги: Эйвинд Юнсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
– Чрезвычайно редко, – подтвердил Ментес. – Она очень хороша. Так вот, отец молодого человека, Одиссей, все еще не вернулся домой из Трои.
– Из Трои? – переспросил старик, переводя любопытный прищур своих глаз с Ментеса на Телемаха, потом покачал головой и уставился на кубок Телемаха. – Они теперь стали редки, – сказал он. – Вот этот кубок, – кубок напоминал тот, из которого пил Ментес, только был золотой, хотя и посеребрен внутри, и узор изображал каракатиц, – этот кубок тоже, по-моему, с Крита, а может, и с Кипра – ну как мне упомнить, откуда какой, у меня их слишком много. Я потом покажу вам мою коллекцию, попозже, может, после обеда, там увидим. У меня есть отлично выделанная золотая утварь с изображением всяких фантастических животных, но самые изящные серебряные изделия я храню в особом шкафу у себя в спальне. Вы и не представляете, как трудно их все упомнить, да еще так сразу сказать, где я их взял и откуда они.
– Собирательство – слабость весьма похвальная, – учтиво заметил Ментес. – Но, возвращаясь к Одиссею…
– Как вы сказали? – переспросил старик, – Слабость?.. Гм-м, – промычал он миролюбиво, – пожалуй, можно назвать и так, но вы и представить себе не можете, каких трудов стоили мне все эти кубки, бокалы, кратеры и… ну и многое другое, что у меня есть и что мне посчастливилось собрать, не щадя своих сил. Я…
– Господин Телемах прибыл прямо из Итаки, – сказал Ментес.
– Из Итаки? – спросил старик. – Вы сказали – из Итаки? Оттуда часто приезжает старуха, до того въедливая, она лен и шерсть покупает и овец и быков… как ее зовут… я только что говорил. Эври… погодите-ка (с торжеством), Эври… Эври…
– …клея, – подсказал Телемах, вежливо поклонившись, но в нем закипала злость.
– Молодой человек, – сказал Нестор, ткнув в него пальцем, пережившим три или четыре поколения, – не перебивайте меня. О чем я говорил? Ах да, так вот она пыталась выманить у меня скот и домашнюю утварь, кубки, и бокалы, и кратеры из золота и серебра в обмен на ткани или что-то там еще, уж не помню. Представляете, приезжает сюда и просит… а вы разглядели как следует мой кубок? Если нет, глядите хорошенько! Ну, что скажете?
Он опорожнил кубок – с выпивкой он справлялся отлично – и поднес бокал, украшенный голубками, ближе к окошку под потолком по левую руку от него.
– Она пыталась купить мой кубок, кубок Нестора. Слыхали вы что-нибудь подобное? Как, вы говорите, вас зовут?
– Телемах, – язвительно ответил Сын.
– Его отец Одиссей, – поспешил сказать Ментес примирительным тоном. – Господин Телемах едет на поиски отца.
– На поиски? – спросил Нестор и поставил бокал на стол.
Писистрат, не скрываясь, подмигнул Телемаху, и, когда он подошел к отцу и наполнил знаменитый кубок, лицо его выражало искреннее сочувствие приезжему. Даже вялый, косоглазый Фрасимед несколько оживился. Похоже было, что сыновья не прочь допьяна напоить своего отца.
– Он все еще не вернулся домой, – продолжал Ментес. – А это его единственный сын Телемах. Мать его зовут Пенелопа. Они живут в Итаке.
– Угу-угу, – пробурчал Нестор и снова стал рыться в своей бороде.
– Троя, папа, Троя! – напомнил Писистрат. Фрасимед хихикнул.
– Расшумелись! – сказал Нестор. – Фрасимед!
– Да, папа, – покорно отозвался сын тоном человека, который привык к выговорам, уныло привык, сыт ими по горло.
– Нельзя ставить кубок так близко к краю, я тысячу раз говорил!
Фрасимед передвинул кубок.
– О чем бишь мы толковали? – спросил Нестор, успокаиваясь. – Ах да, Эври… Эври… ну да, …клея, так вот она хотела…
– Троя, папа, – напомнил Писистрат.
– Ну да, Троя…
– Одиссей, – напомнил Писистрат.
– Да, Одиссей, – сказал Нестор и вдруг просиял: – Вспомнил! Он был под Троей, это я и хотел сказать. Видите, у старика совсем еще недурная память!
– Он исчез, папа, – сказал Писистрат. – Мы уже говорили об этом однажды, разве ты не помнишь? Когда здесь была Эвриклея.
– Эвриклея… – начал старик.
– Он исчез, – повторил Писистрат.
– Исчез? Да нет же, он был под Троей – как сейчас помню, у него… да-да, что-то было с его носом. А может, с руками, не помню точно. Но что-то с ним случилось. И вообще ему нельзя было верить, он…
– Папа!
Нестор вздернул бороду, обернувшись к сыну, глаза его расширились, кожа на лбу собралась в толстые поперечные складки.
– Что такое?
– О нем…
– Чудные у него были выдумки, – вдруг вспомнил Нестор. – Он… всего я не припомню. Но он был чудной…
– О нем слагают песни, – сказал Писистрат. – он был герой.
Дрожащей рукой Нестор почесал себя по подбородку. Он не царапал кожу, а только слегка почесывал ее поверхностью ногтей, и слышалось не поскребыванье, а шуршанье.
– Герои! Пфф! – сказал он. – Чего в них особенного? Я и сам герой, да, и я тоже! И обо мне, если хотите знать, тоже поют песни. Песнопевцам верить нельзя, они вам с три короба наврут ради куска хлеба и мясной косточки. Как сейчас помню – постойте-ка, да, точно, вспомнил, – был один певец, звали его… он был из… по-моему, откуда-то из Спарты, а петь и сочинять научился у… как бишь его… (с торжеством) у Автомеда из Микен, а того научил сочинять небылицы и петь Перимед из Аргоса – вот точно, все вспомнил. Под конец он им всем так надоел – это я про первого говорю, как бишь его, а может, про второго, ну все равно, какая разница, – он им так надоел, что они высадили его на острове, чтобы он там умер с голоду. Вот тебе, получай за свои песенки!
Старик радостно засмеялся и огляделся вокруг.
Фрасимед хихикнул, Писистрат смущенно покосился на Телемаха, остальные – то ли гости, то ли родственники – молча пили и с любопытством таращили глаза.
– Он, кстати сказать, у Клитемнестры оставался, пока Агамемнон был на Войне, – заявил вдруг Нестор совершенно внятно. – А Эгисф, пройдоха, убил Агамемнона, когда тот… вы, конечно, про это слышали?
– Слышали, – с принужденной вежливостью ответил Телемах, которому удалось овладеть собой. – Но слухов ходило так много, и подробностей мы не знаем. Я говорю про жителей Итаки.
– Это замечательная история, – сказал Нестор. Писистрат нахмурился, Фрасимед стал играть кубком.
– Фрасимед!
– Что, папа?
– Сколько раз говорить, не так близко к краю! Поставь его на середину стола.
Сын безропотно исполнил приказание. Воцарилась тишина,
– Вечно вы меня перебиваете, – сказал Нестор. – О чем я говорил?
Фрасимед вскинул косые глаза, вскинул с необычной живостью; глаза его вспыхнули – тут было что послушать.
– О Клитемнестре, – поспешно сказал он и залился краской.
– Об Одиссее, – сказал Писистрат. – Его сын – вот он, здесь сидит – спрашивал о нем.
– Я хотел бы знать… – начал Телемах.
– Кудахчете, как куры, только я что-нибудь вспомню, перебиваете, – плаксиво сказал Нестор. – На чем я остановился?
– Мы говорили о песнопевцах и героях, – примирительно сказал Ментес. – Мы знаем, что Ваше величество сами великий герой. Имя Вашего величества известно каждому ребенку на Большой земле и на островах. Нам было бы так интересно, если бы Ваше величество рассказали, как вы вернулись домой из Трои. Долго ли многославные корабли Вашего величества плыли вместе с кораблями Одиссея и его спутников? Где Ваше величество расстались с ним и с его людьми5
– Да я же об этом и рассказываю, – сказал Нестор уже мягче и, положив на стол дрожащие, с синими венами руки, уставился на них – У него что-то с руками случилось. Кажется, ему отрубили два или три пальца, – сказал он.
Телемах подался вперед. Глаза ему вдруг застлали слезы. Из сердца поднялась жаркая волна – предчувствие упоения, героических подвигов. Ему вдруг стал нравиться старик
– На какой руке? – спросил он.
– Не помню, – сказал старик. – И потом, их не отрубили. А, пожалуй, размозжили. Мы смастерили подобие лестницы и деревянного коня – да, что-то вроде коня, это сооружение напоминало с виду коня, мы и называли его Конем, а несколько человек перебрались через стену и открыли нам ворота. Там-то ему, должно быть, и размозжило пальцы.
– А потом вы победили, а потом отплыли домой, – сказал Ментес.
Нестор ласкал кубок обеими руками; затем поднял его так, точно кубок был очень тяжелым, точно старик похвалялся его тяжестью, и стал медленно, громко отхлебывать вино, затем отставил кубок на стол, обсосал себе бороду.
– Ну, сперва-то мы, конечно, перебили детей, – сказал он.
Глава семнадцатая. КОНТРАПУНКТ I
В потоке дельфинов и жарких, шуршащих листьев он уплывал, качаясь на волнах, высоко взмывал на гребень волны и с него оглядывал прошлое, далекое прошлое и недавнее, только что минувшее, а потом низвергался вниз, в водяную ложбину, становившуюся все уже и уже, становившуюся пещерой, заполненной теплой, как человеческое тело, жидкостью, становившуюся материнской утробой, и ему приходилось рождаться заново, и его смывало в мир, к свету, полость расширялась, из ложбины его вновь выносило на гребень. Это повторялось снова и снова, он рождался в муках, маялся, вырываясь из теснины, а иногда, когда он взлетал вверх, на самую высокую вершину, все вдруг останавливалось. Глаза его уже готовы были открыться, но тут на них осыпались новые тяжелые листья, и он снова погружался во что-то жаркое и темное, в предшествующее рождению небытие, а тем временем…
Тем временем Навзикая ехала к реке, и что-то все настойчивее подхлестывало ее изнутри. «Тревога какая-то», – говорила она вслух, внятными для других словами, а про себя безмолвно думала: я тревожусь потому, что пренебрегла своими домашними обязанностями, все только ходила да мечтала. Мама никогда ничего не скажет. Впрочем, нет, дней семь или десять тому назад, и потом еще вчера, она сказала: пора тебе заняться стиркой, грязное белье валяется по всем углам. Папа ворчал: ему захотелось надеть чистую льняную рубашку, чистый хитон из вышитого льна, но, когда раб принес ему два хитона на выбор, он пожелал выбрать из трех, когда же раб принес три или четыре, отец пожелал выбрать из шести, а шести уже не нашлось.
Тем временем она ехала к реке и думала о запасах льняного полотна в их доме и о льняном полотне из ее собственного приданого.
Тем временем она сидела в трясущейся повозке, в женской повозке, где за ее спиной, вплотную к спине, лежал огромный узел с одеждой, так что она опиралась на тюки со своим собственным бельем и с бельем папы, мамы и братьев, тюки, полные хитонов, тонких плащей из крашеного и некрашеного льна и плотных шерстяных или суконных плащей, а рабыни шли в туче пыли позади повозки, запряженной мулами, одни хмурясь со сна, другие – пытаясь затянуть песню хриплыми голосами, и Навзикае нет-нет да и закрадывалась в голову беглая, мимолетная, летучая мысль, от которой она то и дело шарахалась, но то и дело поспешно, смущенно возвращалась к ней, – мысль о Нем, о том, кто должен бы явиться на здешний остров нынче осенью или когда зарядят зимние дожди, а может быть, весной, и при этом она думала, что сюда редко является кто-нибудь из Поистине Славных, разве что после бури, но во время последней бури, принесенной западным ветром, дозорные на берегу кораблей в море не заметили.
219
Тем временем она ехала по дороге в своей повозке, смутно, мельком, на краткий миг, в мимолетном озарении сознавая: надо подхлестнуть свою судьбу, судьбу Навзикаи с Острова феакийцев, где полно мужчин, но нет Мужчины
Мама с папой были между собой двоюродные (а если шепнуть так, чтобы никто не услышал, – даже родные), но она не хотела бы выйти ни за одного из своих братьев, даже если бы их превратили в двоюродных. Она сама не знала почему. Впрочем, нет, знала. Она не видела в них мужчин и не пыталась представить себе кого-нибудь из них в роли своего будущего мужа. Впрочем, нет – пыталась, но безуспешно, в том-то все и дело. Однажды, в один прекрасный день явится другой, неведомый мужчина. А ни за кого из своих братьев она не выйдет – это она знала еще сызмальства.
Тем временем она ехала к реке, и Гелиос поднялся уже очень высоко, хотя они пустились в путь спозаранку, чтобы успеть до жары и насладиться утренним ветерком.
Тем временем она вылезла из повозки, а рабыни стали выгружать узлы со всевозможной одеждой из льна и шерсти, тяжелой и легкой, плащи, хитоны в пятнах от вина и блевотины, а также красные, серые и белые простыни и одеяла, и девушки мельтешили вокруг нее, словно дельфины в воде, словно рыбы в реке, словно листья, которые, кружась, опадают, осыпаются, покрывают землю и, кружась, снова взлетают вверх…
…он снова взмыл вверх на гребень волны, где стояла тишина, чуткая тишина, того, кто бодрствует, оповещающая о том. что здесь только что прозвучал смех, возгласы, тихие вскрики, – того, кто бодрствует, но не того, кто снова погрузился в материнское лоно сна и кому на веки навалились тяжелые листья – сон, сон, сон, – а тем временем…
…она наконец водворила среди них порядок и подумала, что надо бы побыстрее управиться со стиркой, тогда можно потом затеять игру. Кто знает, долго ли мне еще играть, долго ли еще оставаться девушкой! – подумала она со вздохом, с громким вздохом, в котором была истома и сладость, тоска и тревога, а тем временем рабыни замачивали белье внизу у мостков, и она отдавала четкие приказания, и следила за ними, и вообще делала свое дело.
Она делала свое дело, она была прачкой, главной прачкой. Это не значит, что ее участие в стирке выражалось в чем-нибудь еще, кроме указаний, а в них девушки не нуждались, они и так умели замачивать, тереть и выкручивать белье, но, так или иначе, она стояла рядом с ними на коленях на мостках, построенных рабами по личным указаниям ее братьев: одно-два бревна на плаву, одно-два бревна зарылись в песок, в колени реки, а через них переброшены доски – словом, стиральный плот, который стоит на прочном якоре и его не смоют в море разбухшие от дождя горные потоки, да, почти настоящий плот, и можно мечтать, будто ты плывешь на нем и тебя подбрасывает…
…новой высокой волной, и тогда над гребнями волн, над их вскипающими пеной зубцами ему послышался чей-то зов. Воспоминание об этом зове застряло в нем, и, когда он снова рухнул вниз, кто-то, кто также был им, понял, что он почти уже пробудился в пятнистом свете, отбрасываемом Гелиосом, который стоит наверху стены в Илионе и посылает в него стрелы, быстрые острые стрелы, какими он, тот же самый Гелиос, расстрелял кормчего на корабле, на котором давным-давно Нестор или давным-давно Менелай, а может, кто-то еще давным-давно плыл не то в Трою, не то из Трои, – и он попытался крикнуть: это же я лежу здесь в тепле материнского чрева, а может, у подножья водяного бугра, а может, утонув в листве, это я, хоть ты и не узнаешь меня, Гелиос…
…и хотя они поднялись спозаранку, заметила она, Гелиос стоит уже высоко, а они не сделали еще и полдела. Она стала их понукать. Она говорила: "Дочь Димаса, дочери Египта, дитя феспротов, сестры из рода Эхенея [63]63
Феспроты – дружественное итакийцам греческое племя, обитавшее в Эпире; Эхеней – самый старый из обитателей острова феаков (см. «Одиссея», VII, 155); Димас – отец одной из подруг-служанок Навзикаи
[Закрыть], торопитесь, иначе мы не успеем высушить белье до вечера!" И они отвечали ей смеясь или с кислой миной: «Как же, как же, дочь Ареты, как же, дочь Алкиноя, как же, милая царевна, как же, – (шипел, цедил, шептал кто-то из них), – как же, Дура, Торопыга, Приставала, мы и так стараемся изо всех сил!» «Ладно, ладно, – говорила она, – поторапливайтесь, тогда мы сможем потом поиграть». «Если сил хватит, – отвечали они тихонько, а может, это ответила одна или две из них, – целый день спины не разгибаем, потом уж и мочи нет ни на что другое». До царевны долетали отдельные слова. «То-то и оно, что на другой – засмеялась она, но при этом покраснела и почувствовала беспокойство. – То-то и оно. Небось по вечерам у вас хватает мочи гулять с парнями, а может, даже разрешать им делать с вами все, что им вздумается, на это у вас мочи хватает, – словом, пошевеливайтесь!» Девушки склонились над ямами, над водомоинами, где стирали белье. Другие, те, что были посильнее и посмуглее, стали на камни на край досок, покачивавшихся под их тяжестью. Они окунали в воду тяжелые от влаги одеяла и плащи, полоскали туго скрученные полотнища в неторопливо катящей свои воды реке, смотрелись в нее, смеялись, скалили белые зубы, вытаскивали белье и швыряли на мостки с такой силой, что оно шумно шлепалось на доски, орошая брызгами все вокруг, они выжимали белье и передавали лен, шерсть или сукно назад, другим, а те развешивали выстиранные вещи на ремнях и веревках между деревьями – на солнце, на легком ветру, – а когда веревок не хватало или просто им самим не хватало терпения, они расстилали платья, простыни, одеяла и плащи на траве – только глядите, осторожнее, не наступите на белье, а то останутся зеленые пятна. «Знаем, – отвечали они, – знаем! Пробовали!» И они со смехом глядели на ту, чье легкое платье было в зеленых пятнах. «Она посадила их еще весной, а они не сходят, – сказала одна из девушек, – до сих пор не сошли, а парень, мужчина, ушел в море, или куда он там подевался, соблазнитель, а у нее уже и лицо пошло пятнами и быть им с весны до осени!» Тут царевна крикнула им: «Живее, а то пора уже и поесть!..»
…и губы его шевельнулись, саднящие, соленые губы, и на самом гребне волны, до того как он снова низвергся вниз, под обвалом листьев, он почувствовал голод. Голод прорвался в сон; от всех его членов, от желудка через грудную клетку голод подступил к горлу, пробиваясь к сознанию, и, когда он опять низвергся в пучину, губы его шептали…
– Пора поесть! – крикнула она, когда они разостлали последнее тяжелое одеяло на траве под пышущей жаром скалой. Солнце пекло, ветер сюда почти не проникал. Самый шум моря, прибоя, дышал зноем Гелиоса. Морские птицы белыми вспышками мелькали над их головой, исчезая за скалами, и девушки шикали на них и гнали их прочь, боясь, как бы чайки не загадили выстиранную одежду. «Кыш! Кыш! Гоните их! – кричала Навзикая. – Да смотрите, куда ступаете!» Скоро надо будет перевернуть разостланное белье. Отяжелевшая, смуглая, обнаженная до пояса египтянка, которая стояла на мостках дальше всех, вытащила из воды собственную одежду, собственное платье с невыводимыми зелеными пятнами на спине, скрутила его, выжала, поднялась и медленно подошла к царевне. Она встряхивала платье, держа его перед собой, и брызги сыпались, разлетались вокруг серебряным дождем. «Сначала искупаемся!» – крикнула ее госпожа. Вода в речных вымоинах, где они сначала замачивали белье, а потом стирали, никого не манила. Они спустились ниже к устью реки, где было песчаное дно, а поглубже галька и рядом бился пульс моря, пенная кромка прибоя. Они ойкали, плескали друг в друга водой, хихикали, кричали. Навзикая постояла у берега, где вода сочилась из-под пальцев ног, потом осторожно вошла в реку до колен, ступая по песчаному дну, плотному, но мягкому. Но вот началась галька. Здесь вода была холоднее, несмотря на жгучее солнце; Навзикаю заразило общее веселье и охватило вдруг небывалое, незнакомое прежде чувство, что они сестры, все женщины – сестры. Нет-нет, конечно, они – рабыни, но она в их кругу, она обретается среди них как сестра. Царевна вымыла руки до плеч, обеими пригоршнями зачерпнув воды, облила себя, словно из двух кувшинов; по коже побежали ручейки, каплями стекая с сосков. Она смеялась, тревога рассеялась. Она омыла себе грудь и мягкий живот, потом присела и омыла тайное тайных, Ложе, уготованное мужу, собственность Того, кто грядет; омыла ляжки, опустилась в воду на колени, омыла ягодицы, изогнулась и ополоснула спину – она была Прачкой, отстирывающей живую плоть. Чуть повыше в реке барахтались рабыни, и с ними беременная, она смеялась, вскрикивала, ойкала в воде. Рабыни окружили ее, и она позволяла им щупать свой живот, проверяя, как лежит младенец. «Кончайте поживее! – крикнула Навзикая издали и в то же время как бы из их круга, из круга своих рабынь, своих сестер. Она вышла на берег. – Я хочу есть. Я голодна, как горный волк! Время уже за полдень!»
…за полдень крались волки высоко в горах и в лесу, в долине, и, когда его снова вознесло на гребень волны, в море листвы, под дождь Гелиосовых стрел и он пытался оттолкнуть красные, острозубые волчьи пасти, один из хищников прыгнул вдруг в его утробу и засел в желудке. А другие кусали его за ногу и в плечо, и он молил Гелиоса на Троянской стене, чтобы он их застрелил, но как раз в это мгновение к нему подкатила и накрыла с головой лиственная волна, и он рухнул вниз вместе с волком, сидящим у него в утробе, и подумал: остальные всплывут на поверхность и будут ждать меня, но они же не хотят…
«…не хочу больше ждать!» – крикнула она, и тогда они неторопливо потянулись в тень дерева. Они расстелили на земле уже просохшую простыню. Навзикая сидела среди них, но не как равная среди равных, а словно пряжка в шейной цепочке или в браслете, и они ели вяленое мясо, плоды и вкусный белый хлеб. Они привезли с собой вино в небольшом козьем мехе, и одна из рабынь спустилась к реке и принесла в глиняном сосуде воды. Навзикая сильно разбавила густое темное вино и возлияния Бессмертным творить не стала – капли, окропившие землю, когда она смешивала вино с водой, сошли за жертву, принесенную всем богам сразу. Но рабыни, так или иначе, заметно оживились, даже повеселели, и заговорили наперебой. Самые молодые лежали на спине, дрыгали ногами и, пересмеиваясь, многозначительно подмигивали друг другу, им не терпелось поделиться с подругами своими тайнами; те, что постарше, лежали на боку или на животе, опираясь на локоть, и потихоньку сплетничали. Если не расспрашивать, а просто слушать, глядя в сторону, многое можно узнать. У двоих или троих скоро должны народиться дети, рабыни вечно ходят с животом. Не с таким громадным, как эта смуглая египтянка Энония, которая, смеясь, напивается пьяной, едва только дорвется до вина, и, так же смеясь, беременеет, едва только с кем-нибудь переспит – с первым, кто не прочь ее обрюхатить. У нее уже четверо ребятишек. Но и другие рабыни носят детей от слуг, рабов, поваров, да и от ее царственных братьев: плоды эти созреют к осени или к зиме. А пройдет еще несколько месяцев, и другие тоже раздадутся вширь и округлятся. Они так легко делают детей. Им не надо выходить замуж за того Единственного, кто потребует единоличного права собственности, нет, они будут совокупляться с другими рабами по воле Хозяина или кого-нибудь другого из власть имущих и будут снова и снова рожать, повинуясь Деметре в той же мере, что и Афродите: они – пашня для нового урожая рабов. А ей суждено ждать Единственного, особенного, избранного, и это ее отцу надлежит указать достойного. Его семя будет царским семенем, семенем базилевса, и царственной будет его мужская снасть, он нацелит ее в плоть Навзикаи, словно солнечную стрелу, которая устремляется вверх на рассвете и под вечер, описав дугу, падает за горизонт, а она обратит к нему свое тело, как цветок обращает свою чашечку к стрелам Гелиоса. Так выражала она свою мысль в словах, не лишенных святости. Но тайная ее мысль, та, что посещала Навзикаю по вечерам перед сном или когда, выпив несколько глотков вина, она дремала в тени, схоронясь от полуденной жары, была совсем другой, более обнаженной, – эта мысль дышала открытым томлением, об этом знала рука Навзикаи, касавшаяся ее груди, ее лона.
– Часто он толкается, Энония? – спросила одна из рабынь.
– Ага, – ответила беременная, и ее смуглое лицо просияло блаженством, кожа лоснилась от масла, которым они все натерлись. – А вообще, нет, – поправилась она, – не часто, только иногда.
– И больно?
– Больно? – на сияющем египетском лице беременной выразилось удивление. – С чего ж это мне будет больно? Он ведь просто шевелится!
– А я думала, это больно, – заметила другая рабыня.
– А мой толкался больно! – сказала третья, маленькая и худенькая рабыня с побережья феспротов, и наклонилась к первой.
– Стало быть, ты не хотела его иметь.
– А ты что, хочешь?
– Я? – Беременная засияла еще большим изумлением, – А как же иначе? С чего бы мне вдруг не хотеть?
– А на Большой земле многие не хотят, – возразила та.
– Откуда ты знаешь? – обиженно заметила беременная. – Ты что, там была?
– Моя мама – феспротка, ее привезли сюда еще ребенком.
– А моя мать родом с Большой земли на юге, из великой страны Египет, – горделиво сказала беременная. – Но она никогда не говорила, что они не хотели рожать детей.
– Я сама родилась на Большой земле, – сказала маленькая худышка.
– А мою бабушку привез сюда Старый царь, – вставила одна из самых молодых.
– И что, твоя бабушка тоже говорила, будто на Большой земле не хотят рожать?
– Да нет, не то чтобы… – отвечала та.
Навзикая слушала, закрыв глаза.
– Не хотят рожать? Никогда не слыхала ничего чуднее, – сказала беременная. – Почему же это они не хотят?
– Не знаю, – ответила феспротка. – Я так слышала. Они говорили, это оттого, что слишком уж часты стали войны.
– Тем более нужны дети! – возразила Энония.
Навзикая открыла глаза. Беременная сидела, обеими руками держась за живот, – она защищала собственность, которая толкалась в ее чреве и временно принадлежала ей.
– Что это вы так расшумелись! – сказала Царская дочь. – Вы прекрасно знаете: настоящие герои детей не убивают.
– Само собой, царевна Навзикая, – ответила Энония, – настоящие герои – благородные господа, они детей не убивают.
– Само собой, – подтвердила маленькая худышка, – настоящие герои детей не убивают.
– Герои детей не убивают, конечно, нет, – зачарованно повторила молоденькая рабыня, и глаза ее заблестели.
– И вообще война – такая шикарная штука, – заявила худая.
– Хорошо бы началась война, мы увидели бы тогда настоящих воинов, – сказала беременная.
– Воины – лучшие из мужчин, – заметила самая юная, застенчиво и не по годам рассудительно. – Но у нас на острове…
Она зажала рот ладонью, не решаясь продолжать.
– А в общем, может, это и хорошо, что у нас на острове давно не было войны, – сказала беременная. – Без нее спокойнее. Не потому, что я думаю, будто настоящие герои, шикарные господа, у которых острые копья и мечи, тяжелые щиты и шлемы, колесницы и кони, убивают детей. Я вовсе этого не думаю. Но дети могут испугаться и умереть, вернее, могут попасть под колеса колесниц или под копыта коней, а не то подвернутся под чье-нибудь копье, пику или меч – вы же знаете, какие они любопытные, они всюду норовят сунуть свой нос. Но все равно, война, конечно, вещь шикарная.
– Да ты же не видела войны, Энония!
– Ну, может, и так, – сказала беременная. – Зато я много чего слышала… И все равно, герои, конечно, мужчины шикарные, это уж точно.
– Да уж конечно шикарные, – подтвердили остальные.
Надо встать, думала Навзикая, надо встать. Но по-прежнему лежала и прислушивалась к разговору рабынь. Теперь и в тени стало жарко. Ей вдруг вспомнилась история о том, как ее народ прибыл на здешний остров еще во времена ее деда, Навсифоя, как он и весь его народ бежали от войны. Папа не любил говорить на эту тему, мама тоже, но мальчики бредили войной и…
…и меня выносит наверх волной, лиственным прибоем, думал он, на несколько минут придя в сознание. Меня выносит из войны на соленой волне, и я лежу…
…играли только в войну, вспоминала она, но никак не могли придумать, на какого врага напасть и…
…в лиственном мелководье. Он шевельнул правой рукой – руку пронзила жгучая боль. Его терзали такой голод, такая жажда, что он знал: ему во веки веков их не утолить. Сейчас он повернется, одну только минутку полежит на боку, а потом встанет… и…
…кого убивать, против кого идти войной. Рабыни все еще продолжали болтать. Они правы, воины – благородные мужи, они не то что здешние вельможи, советники отца и их сыновья, этим стоит только жениться и завести собственное хозяйство – стада свиней, фруктовые сады и быстроходные торговые суда, как они тут же заплывают жиром… Мой будущий супруг…
…встанет и оглядится вокруг. Если б он только мог поесть, боль отпустила бы, да и шевелить онемевшими руками и ногами, наверно, было бы легче. Он долго лежал, пытаясь сосредоточить волю на одной цели: я должен заставить себя двигаться, должен пойти за пищей и водой, должен заставить себя двигаться. Земля уже не колебалась под ним, но в ушах звенело и головная боль не утихала. Сейчас, думал он. Сейчас шевельнусь, повернусь, встану. Буду считать до…
…нет, не стану думать о том, каким будет мой будущий супруг. Сосчитаю до девяти и вскочу. Она медленно сосчитала до девяти, потом еще раз до девяти, открыла глаза, подняла голову, оперлась на локоть, встала.
– Давайте поиграем в мяч. Время еще есть, – сказала она.
Девушки разом вскочили. Энония степенно, покачиваясь, пошла к веревке с бельем и пощупала развешанную одежду. Одежда почти просохла. Другие девушки перевернули платья, развешанные на кустах. Простыни, льняные хитоны и платья просохли, остальная льняная одежда тоже, но шерстяные хитоны, плащи и одеяла еще нет. Две рабыни приглядывали за мулами, Навзикая сама достала из повозки мяч.
Она разделила их на две команды, по четыре человека в каждой. Эноння села в тени под деревом на ворох листьев – она изображала публику. Гелиос переместился уже далеко на запад. Беременная рабыня сидела в тени дерева и нагретой скалы, сидела в глубоком покое. Высоко в небе на восток и на север тянулись белые облака; после налетевшей с запада бури небо очистилось, высокие, прозрачные облака струились. Энония была счастлива. Я счастлива, думала смуглая египтянка, со мной здесь не может случиться никакой беды. Здесь нет войны, время уже за полдень. Какой у нее счастливый вид, думала Навзикая, проходя в тени дерева и скалы. Она это испытала. Она знает, каково быть с мужчиной. Когда мы останемся с ней наедине, я спрошу у нее, каково это – быть с мужчином, когда его семя оплодотворяет тебя. Больно ли это. Нет, я не стану спрашивать, я знаю сама, хотя никогда этого не испытала. Это и больно, и…
– Вы готовы? – крикнула она девушкам.
– Готовы! Бросайте!
– Внимание! Бросаю!
Мяч в ее левой руке, сшитый из козьей шкуры и набитый сухой травой, был чуть побольше яблока. Она перекинула его в правую руку, выставила вперед левую ногу и сама подалась вперед. Команда соперниц стояла в тридцати шагах, каждая из девушек в пяти шагах от своей соседки – так стоят стрелки из лука во время военных учений. Навзикая сделала вид, будто метит в крайнюю справа, потом – что бросает мяч крайней слева, они пригнулись, как бегуны перед стартом, нетерпеливо переступая на месте и вскрикивая, а бросила она прямо в центр, они разом ринулись к мячу, одной из них удалось его поймать. И тут мяч отскочил и…
…и, дважды сосчитав до десяти, он понял, что слышит человеческие голоса, женские голоса. Кто-то пронзительно взвизгнул. Он повернулся, преодолевая боль, и вдруг встал, пошатываясь, встал, листья посыпались с него…








