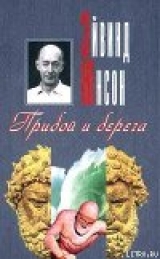
Текст книги "Прибой и берега"
Автор книги: Эйвинд Юнсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
Глава двадцать седьмая. ПОД КИЛЕМ ЗАСКРИПЕЛ ГАЛЕЧНИК
I
Под килем заскрипел галечник, образовательное путешествие пришло к концу.
К вечеру, когда они покинули Пилос и взяли курс вдоль берега Элиды на север, зарядил дождь. Писистрату не хотелось так скоро уезжать из Спарты, да и Елена с Менелаем снова принялись уговаривать их остаться, но все трое проявили лояльность и политическую зоркость и покорились необходимости. Менелай снарядил отдельную колесницу с подарками, на которую взгромоздился двойной шпион Медонт. И они пустились во всю прыть, доступную коням, по дороге, уходившей вверх в сторону Феры, там они на несколько часов сделали привал, а на другой день после полудня прибыли в песчаный Пилос.
На развилке, где дорога, вьющаяся вдоль берега, сворачивала в сторону Верхнего города, Телемах вновь подвергся искушению выбора.
– Мой отец никогда не простит тебе, если ты не останешься у нас хоть на день, – сказал Писистрат.
– Мне надо торопиться, – отвечал Телемах. – Он поймет. А я еще вернусь, когда… когда все утрясется. Если смогу вернуться, если буду жив. Может, еще до наступления весны, может, зимой. Кланяйся твоей сестре Поликасте и передай ей эти слова.
Товарищи ждали его возле корабля, они были уже наготове. Едва Медонт и два ларя с подарками оказались на борту, судно отчалило. По лагунам вдоль Пилосского берега шли на веслах, потом задул попутный ветер. Корабль как птица пролетел между Закинфом и Большой землей.
В сумерках они совершили прощальное возлияние. Кратер передавали со скамьи на скамью, в руках зазвенели кубки. Большинство считало, что путешествие удалось, хотя одному лишь Сыну выпало побывать не только у Нестора. К исходу вечера многие уже чувствовали себя героями, возвращающимися с Троянской войны. Они плыли на север по длинному и широкому заливу, отделяющему Пелопоннес от берега Акарнании, в сторону Фей [91]91
Феи – приморский городок в Элиде
[Закрыть] и группы изрезанных островов, а когда достигли их, на небо высыпало такое множество звезд, что мореходы без труда направили свой корабль прямо на запад, к южной оконечности родной Итаки.
Юноши были осведомлены обо всем, да и Медонт вновь и вновь не без надрыва напоминал им о дозорных, выставленных на горе и курсирующих в проливе между Замом и Итакой.
Свернув парус и опустив мачту, они проскользнули в узкую бухту у южной оконечности острова, к которой редко приставали суда. Телемах без долгих разговоров спрыгнул на берег.
– Я побуду у пастухов, – сказал он. – Если смогу, приду в город вечером. И уж никак не позднее завтрашнего утра. Лари вы можете снести в дом Клития. Медонт сообщит моей матери, что я здесь. Если я останусь цел, ни один из вас не уйдет без награды.
Они снова оттолкнулись от берега и, все время держась поближе к скалистым кручам, на веслах прошли остальную часть пути через пролив к родному городу. Некоторые успели переодеться в нарядное платье, чтобы сильнее поразить воображение своих земляков.
* * *
Победа или поражение?
Шагая вверх по крутой тропинке, он пытался подвести итог. Когда он уезжал, все было так просто. А теперь на каждом шагу приходилось быть начеку: мокрые от дождя камни стали скользкими и за каждым кустом в засаде мог прятаться дозорный.
Победа или поражение? Я стал другим, и теперь я одинок, совсем одинок. Даже если папа вернется домой, все равно я буду одинок, потому что не сумел найти его сейчас, не нашел его след.
Телемах возвращался из большого мира. Большой мир – это политика и приятная, интересная беседа. Политика таится в глубине, а поверхность ее такая же скользкая, как нынче тропинка. Лучше будет, если мама поскорей снова выйдет замуж, думал он. Верю ли я, что папа вернется? Нет, не верю.
Здесь пахло осенью. Когда он поднялся на гребень горы, туман сгустился настолько, что различить можно было только ближайшие дубовые стволы. Опершись о копье, он пытался сквозь лесную прогалину высмотреть полоску моря.
До весны еще далеко. Долго ли он был в отъезде? Всего дней десять. А ведь, когда он уезжал, еще стояло лето. После маминой свадьбы я поеду в Пилос, если останусь в живых, думал он. Если она выйдет за кого-нибудь из местных, я поживу в Пилосе. А потом смогу вернуться домой, уже не скрываясь. И не один. Нестерова зятя так просто не убьешь.
Вдали, в глубине леса, послышался лай собак.
II
Может, оттого, что воздух нынче дышал осенью, стоял туман и сеялся мелкий дождь, она вдруг поняла, что стала слишком старой. Не исключено, что она знала это давно – втайне, неосознанно, – но, когда беременная дочь Долиона прошла через двор, исполняя роль, отведенную ей в жизни Долгоожидающей, Пенелопа это поняла.
– Ишь как выламывается, и день ото дня пуще, – сказала она Эвриклее, которая стояла у окна за ее спиной. Разговор происходил после причесывания.
Престарелая кормилица Долгоотсутствующего, все такая же дряхлая, хотя почти вездесущая, но, вообще-то говоря, слепая и глухая, поглядела вниз.
– Кошка скоро окотится, – сказала она. – Она породистая. Господин Лаэрт вывез ее прародительницу из Египта. Это, наверно, уж тридцать седьмое, а то и тридцать восьмое колено в их роду.
– Ты, конечно, понимаешь, что я говорю о девчонке, а не о кошке, – заявила Пенелопа.
– О девчонке? – отозвалась Эвриклея. – О ней я и не подумала. Само собой, я вижу, знаю, что она выламывается. Но она на девятом месяце. А в такое время они не в себе.
– Это что, Эвримах, я не ошиблась?
– Молодая она, – сказала старуха.
С наружного двора донесся шум. Пенелопа высунулась из окна, пошире распахнув деревянные ставни и пытаясь увидеть, что происходит за плоской крышей мегарона. Кто-то пробежал через двор. Послышался голос Амфинома, потом Антиноя. Когда они появились в воротах, она увидела и Эвримаха. Постоянный комитет был в полном составе, однако в Женские покои они не поднялись. Они явно ссорились между собою.
– Тогда снимите дозорных! – кричал Антиной.
– Я уже послал с приказом гонца, – сказал Эвримах.
– А сторожевое судно в проливе?
– Оно уже возвращается, – спокойно ответил Амфином со своим – как ей теперь показалось – прекрасным дулихийским акцентом. – Я послал к ним гонца, как только узнал, что мальчишки возвратились домой. Телемаха с ними нет.
Милостивый Зевс! – подумала она, зажав ладонью рот. Эвриклея притиснула руки к высохшей груди.
– Кто его предупредил? – кричал Антиной.
– Похоже, что Медонт, – ответил Эвримах. – Его уже несколько дней нигде не могут найти. Ну и, само собой, старуха.
Эвриклея сделала шажок вперед и, став рядом с Хозяйкой, поглядела вниз.
– Медонт мне за это заплатит! – кричал Антиной. Видно было, что он себя не помнит от злости.
– Ну-ну-ну! – успокаивал его Амфином. – Теперь уже ничего не поделаешь.
– Ничего?
Женихи посмотрели за ограду вдаль, на Нижний город и гавань. Туман рассеялся, но дождь все еще моросил. Корабль пристал к берегу, вот его уже вытащили на песок. Кто-то из молодых людей нес весла и парус, другие держали кувшины с едой и мехи, а позади всех человек пять корабельщиков волокли что-то похожее на лари. Со стороны пролива показалось сторожевое судно, мачта была опущена, оно скользило на веслах; матросы спрыгнули на берег и теперь втаскивали на него длинный, смоленый сторожевой корабль. Даже из окна Пенелопы слышно было, как они бранятся между собой.
– Ты слышала? – спросила Пенелопа. – Его с ними нет.
Старуха нерешительно прошлась по комнате, сложив руки ладонями вместе и раскачиваясь из стороны в сторону, глаза ее совсем почернели.
– С позволения Вашей милости… – начала она.
– Да, да, беги!
Старуха не побежала, но все же можно сказать, что она припустила шагу. Она не вспомнила о стоявших за дверью сандалиях. Словно серая мышь, потрусила она через оба двора, через наружные ворота, и еще не успела Меланфо завершить свой утренний круг по двору, а Эвриклея уже спускалась по склону к Нижнему городу.
И вот в этот-то тревожный час Все Еще Ожидающую и пронзила странная, непрошеная мысль: слишком стара! Я слишком стара.
* * *
Но вот Эвриклея уже идет обратно, опередив всех остальных, и с ней молодой человек, сын Клития. Пенелопе казалось, что они медлят без всякой надобности. Когда они вступили во внутренний двор, она крикнула из окна:
– Ну что, что?!
Сын Клития поднял на нее глаза, но Эвриклея ничегошеньки не слышала. Они прошли через прихожую и мегарон и стали подниматься по лестнице. Пенелопа встретила их в дверях.
– Уф, – стала отдуваться Эвриклея (притворяется без всякой надобности, подумала Пенелопа даже в эту минуту). – Уф, никогда в жизни не бегала я так прытко!
Но голос ее был спокоен, в нем чувствовалось сдержанное торжество.
– Ну же!
– Ваша милость, – сказал сын Клития (как бишь его зовут?), – Телемах шлет вам привет и просит сказать, что он сошел на берег в другой части острова.
– Где?
– Он велел передать, что придет в город вечером, а может, завтра на рассвете.
– Где он, где он сошел на берег? Да говори же ты, наконец!
– Простите, – вмешалась Эвриклея, – но это доказывает, что Телемах человек умный и опытный.
Клитиев сын открыл было рот, чтобы продолжать свой рассказ – это было, наверно, его первое дипломатическое поручение, – но Пенелопа махнула рукой:
– Ладно, ладно, я все поняла. Он придет один?
Посланец был озадачен.
– Быть может, военные корабли придут следом завтра или немного позднее, – оптимистически предположила Эвриклея.
– Об этом я ничего не знаю, – ответил юноша. Старуха снова сложила ладони вместе.
– Так или иначе, он жив! – сказала она.
– Хорошо, – сказала Пенелопа. – Спасибо. Можешь идти. И ты тоже, Эвриклея.
– Я как раз хотела просить позволения выйти, – отозвалась старуха.
* * *
Знатнейшие из женихов собрали у наружных ворот что-то вроде сходки. Кроме матросов со сторожевого корабля там был еще десяток женихов из города. Антиной, Эвримах и Амфином снова прошествовали через двор к воротам. И тут же Пенелопа увидела, что сын Клития, как бишь его, – а ведь он подрос, быстро они растут, эти мальчишки! – проскользнул мимо членов комитета; следом за ним, все так же босиком, появилась Эвриклея. Но она осталась во внутреннем дворе, и, когда мимо нее крадучись прошла мерзкая кошка, старуха с небывалым проворством наклонилась и ласково погладила ее по спине. А потом подняла кошку и, положив ее на колени, уселась на скамью у самых ворот. Пенелопа видела, как она почесывает ненавистное животное под брюшком, поглаживает по грудке.
Она слышала голоса у наружных ворот, но слов разобрать не могла. И вдруг:
– Нет, нет, и еще раз нет! Никогда на это не пойду! Хватит! Будем ждать ее решения. Он нам не помеха.
Это говорил Амфином; в воротах он обернулся и с небывалым жаром – он, всегда такой уравновешенный, – что-то еще крикнул собравшимся и пошел через двор обратно к мегарону. Следом за ним показались Антиной с Эвримахом; они разговаривали, идя бок о бок.
Эвриклея спустила кошку на землю и поплелась за ними следом. Они что-то крикнули ей – молодые мужчины насмехались над старой каргой.
– Они собрали сходку, – сообщила Эвриклея, хотя хозяйка вовсе не звала ее и ни о чем не спрашивала. Старуха стояла у порога, глядя на свои ноги.
– Вот как, – сказала Пенелопа.
– Они уступили Амфиному, – сказала старуха. – Он не хотел. Он сказал, что хватит.
– Не хотел чего? – притворно удивилась Пенелопа.
– Его убить, – сказала Эвриклея. – Они его не убьют, когда он придет в город. Да они и не посмеют.
Женщина средних лет повернулась к окну. Темнокожая, курчавая, брюхатая дочь Долиона снова совершала моцион по двору.
Убить! – подумала она.
– Само собой, не посмеют, – спокойно сказала она.
– Это Амфином им помешал, – объяснила старуха. – Он из них самый добрый.
Молодой, красивый, милый Амфином, подумала она.
– Телемах, как уже сказано, придет нынче вечером или завтра утром, – продолжала старуха, хотя никто не просил ее быть такой болтливой, такой назойливой и надоедно многоречивой. – Мне, к примеру, с позволения Вашей милости, очень уж любопытно на него поглядеть. Подумать только, как долго его не было!
– Меньше двух недель, – возразила та.
– Вот ведь счастье – уехать странствовать в молодые годы, – сказала старуха. – Подумать только, в молодые годы странствовать по свету!
Уехать с молодым, красивым, умным, добрым Амфиномом. В Дулихий. Не видеть больше лица Антиноя, не видеть Эвримаха. Не видеть дочери Долиона.
Меланфо уселась на скамье с кошкой на коленях.
Убить? – подумала Женщина средних лет.
III
Отец увидел юношу, который стоял под навесом, у его ног весело прыгали четыре собаки. Среднего роста юноша, который еще продолжает расти, с заурядным, неглупым, но и не слишком умным лицом – открытым, неискушенным.
Сын прежде всего увидел Эвмея, который засуетился вокруг него, искренне ему радуясь, несколько раз брал его за руку и прослезился. А со скамейки у очага поднялся какой-то бородач. Вид у бородача потрепанный, лицо изможденное, одежда грязная, в лохмотьях. Телемах особого внимания на него не обратил.
А отец в своем ясновидении, зрением, обостренным безнадежным ощущением того, что он отвергнут, отринут, в своем ревнивом чувстве к тому, кто был когда-то его дитятей, его малышом, увидел юношу, который вернулся домой после неудавшегося путешествия и пытается неудачу скрыть. Телемах болтал и шутил с Эвмеем и собаками тревожно-развязным, надсадно оптимистическим тоном, но в душе ему все было безразлично – он только притворялся. Он пришел сюда, просто чтобы отдохнуть, побыть вдали от враждебной обстановки, чтобы на краткий миг перевести дух. Чувство, пережитое отцом, было, наверно, сродни тому, что испытывает умирающий, – чувство необратимости.
Сын был, наверно, именно таким, каким представлялся ему в мечтах, юношей примерно такого типа. И все-таки отец представлял его себе немного другим, теперь он уже не мог бы сказать – каким. Тот, каким он его себе представлял, канул в небытие и больше уже не явится его мысленному взору – уже начала действовать привычка, уже отсчитывала минуты привычка к сыну реальному. У юноши был прямой, немного мясистый нос Пенелопы и светлые глаза Странника. Подбородок был отцовский, но пока еще неразвитый, безвольный. В складке губ уже проглядывала горечь. Зато движения были мальчишеские, хотя и на переходе к мужественной зрелости. Можно было предсказать: из этого юноши, наверно, выйдет разумный, но, пожалуй, не слишком мудрый и проницательный правитель, добродушный, но, пожалуй, довольно обременительный властелин.
Сын представлял себе отца другим, совсем другим. Ни на одно мгновение не пришло ему в голову, что оборванец, вставший со скамьи, может быть Одиссеем.
– Лежать! – скомандовал он собакам.
– Сейчас я приготовлю еду, Ваша милость, – сказал Эвмей, в первый раз титулуя так Телемаха.
– Отлично!.. Сидите, сидите, – обернулся он к незнакомцу.
– Места всем хватит, – сказал Эвмей.
Они перекусили оставшимся с вечера холодным мясом, заев его хлебом из муки грубого помола. Телемах старался говорить беззаботно и весело, но в голосе чувствовалась принужденность.
– Славно оказаться опять у тебя, – сказал он предводителю свинопасов. – Ты, как всегда, весел и бодр.
– Ваша милость не так часто заходит нынче ко мне, – заметил Эвмей, почти уже привыкнув к торжественному обращению. – Зато ко мне жалуют другие гости.
– Досадно, что погода такая скверная, – сказал Телемах.
– Два дня назад во время бури мой гость потерпел крушение у нашего берега, – продолжал Эвмей. – Он собирается в город. Может, Ваша милость прихватит его с собой? Он говорит, что прибыл с Крита и может кое о чем порассказать.
– А-а! – сказал Сын, мимолетно взглянув на Странника. – Очень интересно. Весьма интересно, – повторил он еще раз с полным равнодушием. – Послушай, Эвмей, я попрошу тебя исполнить поручение.
Он снова посмотрел на Гостя – теперь уже подозрительно.
– На него можно положиться, – сказал Эвмей. – Я совершенно уверен: на него положиться можно.
– Вот как, – равнодушно сказал Сын. – Тогда выслушай меня.
– Вашей милости, пожалуй, нет нужды объяснять, о чем речь. Должен ли я уведомить также господина Лаэрта?
– Не надо, это слишком долго, – сказал Сын. – Но маму попроси, чтобы она послала сказать деду, что я вернулся. Если смогу, через несколько дней навещу его сам. А ты разузнай, как обстоят дела, и прямиком возвращайся сюда. Понял?
* * *
Происшедшее вслед за этим преображение было, как и многое другое, делом рук Афины Паллады. Но обошлось без всякого волшебства – просто совершилось не совсем обычное, но вполне возможное в жизни переодевание. А вызвало его отчаяние.
И еще подозрительность. Телемах, юноша, который помнил, что его хотят убить, остался один на один с незнакомцем – тот, правда, был безоружен, но выглядел силачом и был не лишен проворства. Вооруженный копьем, мечом и своим недоверием, стоял Телемах против незнакомца, пока удалялось плохонькое копье Эвмея и его неуклюжий меч.
– Вы, стало быть, странствовали? – спросил Сын.
– Странствовал, да.
– И здесь оказались случайно?
Они сели на скамью под навесом. Телемах прислонил копье к бревенчатой стене – ему довольно было протянуть правую руку, чтобы схватить оружие. Развиднелось, но зато стало прохладнее.
– Случайно? – переспросил другой. – Пожалуй, можно назвать это случаем. Плывешь по течению, но течением, может статься, правит случай.
Он сделал попытку подступиться к самой сути.
– Я был на войне, – сказал он. – Но вообще-то я двадцать лет провел в странствиях.
Смысл этих слов Сын пропустил мимо ушей.
– Вот как? – учтиво и недоверчиво переспросил он. – Очень интересно. И потом вы случайно прибыли именно сюда, именно тогда, когда здесь творятся такие дела, – прибыли именно сюда, в Итаку?
– Да.
– А чем вы вообще занимались? – спросил Сын. – Может, политикой? Вы – как бы это получше сказать – мало похожи на потерпевшего кораблекрушение.
Он не поймет, с отчаянием подумал другой. В любую минуту он из одного только страха может проткнуть меня копьем. Он слишком прост.
Но в мыслях его была и нежность: да разве можно требовать, чтобы он понял? Нет, этого требовать нельзя. Собственно говоря, он очень умен. Во всяком случае, не глупее других.
– Я очень долго добирался до дому, – сказал он. – У меня сын, и он ждет меня – ждет много лет! И жена. Они ждали меня по крайней мере все последние десять лет. Положение у них шаткое, на них наседают со всех сторон, ее отец хочет, чтобы она снова вышла замуж, а сын ждет своего отца. Полагаю, что ждет. Трудно им приходится.
– Интересно, – сказал юноша довольно безразлично, но все же с недоверием. – Надеюсь, вы не из тех, кто является сюда, чтобы наговорить моей матери, будто отец мой вот-вот вернется? А то сюда валом валят бродяги этого сорта. Они хотят, чтобы их накормили и одели, и говорят, будто слышали то-то и то-то от кого-то, совершенно якобы достойного доверия, а тот слышал там-то или там-то – ну хотя бы на Крите, – будто говорят, что мой отец вот-вот вернется домой.
Гость проглотил его слова.
– Быть может, и я мог бы кое-что рассказать, – заметил он. – Но, к слову, помните ли вы хоть немного, как выглядит ваш отец?
– Помню ли! – воскликнул задетый Телемах. – Как я могу его не помнить! Да он каждый день стоит перед моим внутренним взором! Да я с первого взгляда узнал бы его среди тысячи людей, среди тысячи героев. Я подошел бы прямо к нему и сказал: «Ты мой отец!»
– Каков же он собой? – спросил Гость.
– Каков собой? – переспросил Телемах. – Каков собой? Постойте. Я… – Он подумал. – Ну, он очень высокого роста. Это я хорошо помню. Просто великан, и косая сажень в плечах – хотя здесь на острове, понятное дело, старались представить его меньше ростом, чем он на самом деле был.
Был, подумал другой.
– Борода у него блестела как золото, да и волосы тоже, – продолжал Сын. – Глаза ярко-голубые, удивительной голубизны. А над левым коленом, с внутренней стороны ноги, тянулся длинный двойной шрам: он в детстве порезался ножом, а потом его ранил вепрь – это мама мне однажды рассказала.
– Вы сами видели шрам?
Взгляд сына был полон недоверия – взгляд обиженного мальчугана.
– А с чего это вы спрашиваете? Что за допрос? Конечно, видел!
– Но ведь вам было тогда немногим больше двух лет.
– Я прекрасно помню этот шрам, – раздраженно сказал Телемах. – А вообще это вас не касается. Уж мне ли не знать, как выглядит мой отец!
– Да, да, конечно, – сказал Гость, – конечно.
* * *
Скорбь может выражаться по-разному – в черных и лиловых одеждах, в заплаканных глазах, в волосах, посыпанных пеплом, в безобразных звуках, рвущихся из гортани. Но она может выразиться и в ясном сознании, в решимости, в собранности и в том, что человек оглядывает свои руки и ноги.
– А как вы думаете, ваша мать узнает вашего отца, если он нынче вернется домой?
Сын поглядел на него с изумлением, с укоризной.
– Да как можно в этом сомневаться! Мы узнаем его тотчас же. С первого взгляда!
«Афина Паллада! – взмолился Странник. – Помоги мне, надоумь меня, подскажи мне правильное решение!» Но это он просто в мыслях учтиво расшаркался перед богиней, он уже сам знал, что делать. Это риск, подумал он, но я должен рискнуть.
Он встал.
– Я должен вам кое-что показать. Подождите меня здесь, я сейчас же вернусь. Только будьте добры, придержите собак.
Телемах тоже встал, схватил копье и стал буравить землю древком.
– Я не знаю… я… – начал он.
– Вы же видите, я безоружен, – не без едкости сказал Гость. – Уж не думаете ли вы, что я собираюсь привести сюда шайку убийц? Если вы так думаете, то заблуждаетесь. Но если вы упорствуете в своем заблуждении, можете метнуть копье мне в спину, когда я стану уходить.
– Я не понимаю… – начал Сын.
– Нет, не понимаете, – ответил тот. – Но скоро поймете. А пока придержите собак.
Пробираясь сквозь заросли, он снова и снова думал о том, что затея его – ребячество, что она смехотворна, но что иначе поступить нельзя. Он вполз в пещеру – оба его ларя были в целости и сохранности. Телемах должен понять, что я не нищий и не жду от него подаяния. Он никогда не узнает меня, но, может быть, согласится принять меня таким, какой я есть. Никто никогда не узнает меня, но они меня примут. Тело мое они, может, и узнают, может, будут звать меня моим именем. Но меня они не узнают никогда.
И он сказал вслух:
– Да я никогда и не стану требовать этого от них.
Он вынул из ларя одежду, шлем, драгоценный меч и новый наконечник для копья, подаренные Алкиноем. Хитон из тонкого льна был расшит у выреза серебром, белый плащ с синей оторочкой спереди и на спине заткан золотом – он выбрал самый роскошный и царственный из всех нарядов. Запирая лари, он улыбнулся своей безобразной, кривой улыбкой и, взяв платье под мышку, выполз из пещеры.
Он наскоро умыл в ручье лицо и грудь и попытался расчесать и слегка пригладить бороду и волосы, прежде чем переодеться. Он обул сандалии, они были новые, скользкие и немного скрипели. Отломив ветку, он ее обстругал, превратив в импровизированное древко копья. Под конец он нахлобучил на себя шлем и повесил на плечо меч. Карабкаясь с узлом старых лохмотьев под мышкой по крутой и скользкой тропинке через мокрые кусты, он подумал – как ни горестно было у него на душе, – что все это на редкость комично. Прежде чем выйти на прогалину, он спрятал узел с одеждой под кустом. Собаки залаяли, потом заворчали, но не двинулись с места. Под навесом ждал Телемах, положив левую руку на рукоять меча, а правой по-прежнему сжимая древко копья.
В каком-то смысле Афина Паллада все же вмешалась в дело, она не любит сидеть сложа руки. Она не только повергла Телемаха в изумление, но и заставила пошевелить мозгами. Телемах был от природы набожен, и, когда смесь отчаяния и внутреннего сопротивления, затопившая его душу неравномерными, стремительными волнами, вылилась в звуки, в слова, он выговорил:
– Во имя всего святого, что… – И тут его осенила ниспосланная богиней мысль: – Может быть, вы бог?
Гость подходил все ближе, ближе, шлем поблескивал в сером свете дня, плащ отливал белизной и золотом, скрип темно-красных сандалий почти не слышен был на утоптанной свиньями и людьми площадке перед хижиной. Сверкали драгоценные камни и янтарь, украшавшие рукоять меча и ножны, а наконечник копья вспыхивал белым, синим, желтым и красным огнем. Все комическое исчезло в эти секунды, это было великое возвращение, в нем было поистине нечто сверхчеловеческое.
– Я вернулся домой, – сказал он. – Я здесь.
Сын отступил на шаг, прислонился плечом к дверному косяку. Собаки ворчали у его ног.
– Если вы бог, скажите сразу, – попросил он.
Но он уже знал. Да и как ему было не знать? Он вдруг съежился перед лицом всего этого великолепия; мужчина, которым он стал за время поездки на Большую землю и который, несмотря на все свое отчаяние, чувствовал себя уверенно в своей впервые обретенной мужественности, снова превратился в мальчонку. Тело его замерло в дверях дома, но все остальное его существо – маленький мальчик – кинулось навстречу мужчине, защитнику, подходившему все ближе.
– Я вернулся домой, Телемах, я здесь, – сказал тот и, переступив порог, шагнул под навес. – Я здесь, я твой отец.
* * *
Такое больше не повторилось никогда – ни разу больше им не случалось плакать вдвоем. Собственно говоря, они не знали – во всяком случае, младший не знал, – почему они плачут. Сын отставил копье к стене, оно с шумом упало, задев сиденье и спинку скамьи, он не обратил на это внимания. Глаза его заливали слезы, целые потоки слез, и было в них также разочарование – никуда нам от этого не деться. Он ведь представлял себе возвращение по-другому, но он примирился. Это мой отец, думал он. Я все больше узнаю его. Собственно говоря, он ведь довольно высокого роста, во всяком случае, широкоплеч и крепок. И видно, что он пережил уйму приключений. Отец оплакивал свою судьбу, и вполне возможно, что в эту минуту он подумал (мимолетно, конечно), что нынешняя жизнь на родном острове – идиллия. И эту идиллию он должен разрушить. И тут Сын сказал:
– Подумай, папа, они хотели меня убить!
Старший осторожно, так, чтобы оно не упало, отставил в сторону копье, протянул руку к юноше, коснулся затененной пушком щеки.
– Бедный мой мальчик, – сказал он.
* * *
Вечером, незадолго до наступления сумерек, когда в хижину возвратился Эвмей, нищий, или, как в глубине души звал его славный свинячий предводитель, Сомневающийся, Все Еще Сомневающийся, сидел в своих лохмотьях на скамье у очага, рядом с Сыном. Слышно было, как с пастбищ возвращаются пастухи. Все вокруг снова заволокло серым туманом и мглой, старый предводитель пастухов устал.
– Ее милость все уже знала, – сказал он. – Товарищи Вашей милости, целые и невредимые, разошлись по домам, вещи Вашей милости у Клития, все сторожевые посты в проливе и на горе сняты. Ее милость полагает, что Вашей милости сейчас ничто не угрожает. Они и ее побаиваются, – добавил он, усмехнувшись. – Вашу милость ждут нынче к вечеру.
– Торопиться особенно некуда, – сказал Телемах с непривычной уверенностью и твердостью. – У нее есть в запасе еще несколько дней. Я останусь здесь до завтрашнего утра.
– Да, с тем, что предстоит, торопиться особенно некуда, – сказал старик.
– Этого… Гостя ты проводишь в город завтра после моего ухода, – сказал Телемах. – А сейчас давайте веселиться! Не заколоть ли нам лучшую из твоих свиней и не поставить ли на стол твое лучшее вино?
– Я уже сам подумывал об этом, – сказал старик, Главноначальствующий над свинопасами. Он посмотрел на Странника, взгляды их встретились. – Ведь наш хозяин вернулся домой.








