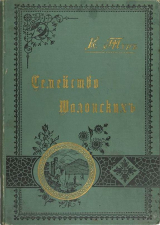
Текст книги "Семейство Шалонских (Из семейной хроники)"
Автор книги: Евгения Тур
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
X

Весна наступила, везде журчали ручьи и сбегали шумными, мутными струями под гору в нашу речонку Щегловку, которая вдруг разгладилась, понеслась и залила луга. Оделись лужайки наших садов, едва освободившись от снега, они покрылись зеленою, короткою травкою, которая так дорога взору, утомленному белыми пеленами снега и бурыми сугробами около дорог; весна на севере имеет свою поэзию, свою прелесть. Журчанье воды, после окаменелых льдов, краснота песку, чернота полей, и зелененье луговин, после однообразия снегового савана, прельщает взор; самый воздух в начале апреля и конце марта содержит в себе нечто опьяняющее, возбуждающее, живительное. И так хочется выйти из дома и дышать этим воздухом! После затворнической жизни в продолжении всей зимы, я надевала громадные сапоги (тогда калош не знали женщины) и отправлялась в верхний сад. Ноги мои увязали в размокшей, едва оттаявшей земле; липы стояли голые, черные, с темными стволами и ветвями, но вокруг их уже все начинало оживать, и над ними бледно-голубое весеннее небо и яркое, весеннее солнце радовало сердце. Не взирая на столько бед, столько потерь и недавнюю, сокрушившую всех нас, смерть брата, помимо желания я чувствовала, что оживляюсь. Но вот наступила и настоящая весна с первыми цветами, первыми теплыми, сквозь солнце, дождями, точно на землю падают сверкающие алмазы, с первым чириканьем птичек и шумом одевшихся в новый убор деревьев. Солнце грело, даже пекло, ветерок несся из рощи теплый и благовонный, вода речонки, вошедшей в берега, уж не катила мутных волн, а лила прозрачные, как хрусталь, струйки, и наше родное, любезное Щеглово, приоделось в пышное праздничное платье. Как было оно красиво! Как бы хорошо было жить, если бы в доме не сидело сиднем жестокое горе, нас постигшее. Окна были отворены, дверь на балконе раскрыта настежь, но никого нельзя было увидеть на балконе за чашкой вечернего или утреннего чая. Малейшее нарушение будничного порядка казалось праздничною затеею, неприличною и боль причиняющею. Бабушка совсем не покидала своего места, и ее примеру следовали тетушки; матушка и в окно не глянула – все было ей постыло и тяжко. Только меня и детей своих меньших посылала она гулять, замечая, что на мне лица нет, что я побледнела, похудела и похожа не на девятнадцатилетнюю девушку, а на перестарок, отказавшийся помимо воли от замужества.
– Je ne veux pas qu’elle coiffe Sainte Catherine, – сказала однажды матушка, говоря по старой привычке по-французски, хотя со времени войны она питала ко всему Французскому чувство ненависти, похожее на то чувство, которое человек испытывает, поссорившись с другом. Но привычка сильна и, забываясь, матушка говаривала по-французски.
И меня посылали гулять, несмотря на мои просьбы позволить мне остаться – но в те поры мы не слишком могли предъявлять свою волю, а должны были повиноваться. Жизнь, не взирая на мое горе, брала свое. Время текло, и молодость моя, придавленная столькими бедами, мало-помалу расправляла крылышки. Сама того не замечая, гуляя с сестрами, я начинала смеяться и шутить, как умеет смеяться и шутить одна юность. Уж наступило жаркое лето, и мы часто уходили в соседний лес за грибами, ягодами, купались в быстрой и глубокой Угре, которая протекала за версту от бабушкиной усадьбы. Но возвращаясь домой, вдруг переставали болтать. Сердце наше замирало, когда мы подходили к дому – там все еще сидит, мы знали, укоряя себя за минутное удовольствие, тяжкое горе.
Однажды в очень душный, летний день, исполняя приказание матушки, я отправилась с сестрами и двумя горничными в большой лес за реку. Мы переехали на пароме на ту сторону Угры и увидели, что на берегу стоит бричка, запряженная ямскою тройкой, а у брички, дожидаясь парома, стоит молодой офицер. Когда мы сходили с парома, он пристально посмотрел на нас. Мы все были в глубоком трауре и, не смотря на жаркий июльский день, в тяжелых черных суконных платьях и крепе. В старые годы носили траур долго и строго. Минуло уже 4 месяца, как мы лишились брата, а мы и не помышляли снимать траура первых дней, да если бы подумали, то не осмелились бы вымолвить слова, боясь оскорбить тем семейство. Я видела, что офицер спросил что-то у перевозчика, но пошла своей дорогою, не считая приличным глядеть на проезжающих. Едва сделала я несколько шагов в гору, взбираясь на крутой берег реки, как сзади меня послышались быстрые шаги и раздался незнакомый мне голос.
– Извините меня, если я осмелюсь рекомендовать себя сам. Я подполковник Семигорской. Знаю, что имею честь говорить с Любовию Григорьевною Шалонской.
Я остановилась, пораженная именем его.
– Я догадался тотчас, что это именно вы, по вашему трауру… – он смешался и прибавил: – я еду к вашей матушке.
– Ах, – сказала я едва внятно, почти шепотом, вы… приятель моего брата… вы…
Я не договорила; слезы душили меня, и я усиливалась сдержать свое волнение и подавить их. Тогда при чужом стыдились всякого необычного движения души и старались не выдавать их. Я стыдилась слез, которые готовы были хлынуть из моих глаз. Он продолжал:
– Возвратясь из Франции и повидавшись с семейством, я счел долгом посетить вашу матушку, ибо имею обязанность вручить ей оставшиеся вещи вашего… Он прервал свою фразу, заметив мое волнение, и продолжал, – я опасался приехать… неожиданный случай помог мне; я имел счастие встретить вас. Не будете ли вы столь благосклонны, не возьмете ли на себя приготовить вашу матушку к моему посещению. Ей будет прискорбно видеть меня…
Я все стояла и силилась одолеть свое волнение, наконец мне удалось сдержать слезы, и я сказала не твердым голосом:
– Нам надо опять переехать реку – я пойду вперед и приготовлю матушку, а вас проводит вот эта девушка (я указала на мою горничную Машу) садами до флигеля.
– Не лучше ли мне остаться здесь, в этой деревушке, а вы пришлете за мною, когда угодно будет вашей матушке принять меня.
– Нельзя, – сказала я. – Матушка и бабушка осудят меня за такое невнимание; вы должны быть приняты в нашем доме. Не бойтесь, матушка не увидит вас, она и к окну никогда не подходит, к тому же вас проведут садами во флигель. Там были приготовлены комнаты для брата – теперь он пустой.
При этих словах я заплакала так горько, что никакие усилия не могли прервать слез моих, и лишь только паром причалил, как я взяла сестер за руку и поспешно, но горько плана, пошла назад домой. Сестры тоже плакали. Семигорской шел с моей горничной, отстав от нас, и скоро скрылся в аллеях сада. Я вошла во двор, и прямо к бабушке.
– Бабушка, милая, – не пугайтесь, ничего нет такого.
– Да ты вся в слезах.
– Это так, ничего. Приезжий здесь из армии… служил с братом. Его приятель. Желает видеть матушку. Ей будет так тяжко, а сказать ей надо.
– Кто он такой?
Я сказала. Бабушка смутилась, но немедленно встала и отправилась в комнаты матушки. Через полчаса во флигель бежал стремглав наш лакей Алексей, и я видела как Федор Федорович Семигорской прошел через залу и направился в ее комнату. Он был высокий, стройный, смуглый и красивый молодой человек лет 28. Проходя, он почтительно и низко поклонился мне.
Через час он вышел от матушки, и по его покрасневшим глазам видно было, что и он плакал. Бабушка приняла его не только радушно, но родственно, отрекомендовала ему дочерей, и началось потчевание. Не желает ли кушать? Обедал ли? Или быть может, если обедал, не угодно ли пополдничать, или чаю откушать – словом, бабушка и тетушки наперерыв запотчевали гостя. Матушка просила его пробыть несколько дней и поместила его в комнатах, которые были приготовлены для брата.
После раннего ужина, он простился со всеми, подходя, по тогдашнему обычаю, к ручке всех дам и девушек (взрослых). Проходя большую гостиную, где я сидела одна, подошел ко мне.
– Я должен завтра отдать вашей матушке шкатулку – я не желал бы отдать ее сам, чтобы не стеснить ее. Кому я могу?
– Мне, – сказала я, не размыслив. – Это шкатулка брата?
– Нет, но в ней его мелкие вещи все, бережно собраны… я думал… и мундир, в котором он уб… в котором он скончался. Где же я могу отдать вам ее завтра?
– Вынесите в сад, я гуляю в 9 часов с сестрами и прохожу мимо вашего флигеля, идя в оранжереи.
Лишь только я произнесла эти слова, как смутилась и застыдилась – но было уже поздно, он поклонился, поцеловал у меня, официально прощаясь, руку, и вышел. Я воротилась в диванную. Там бабушка и тетушки продолжали разговор о госте и осыпали его похвалами.
– И умен, и вежлив, и начитан, и того видел, и как хорошо рассказывает, и собою красавец!.. Какое внимание, собрал все вещи Сережи и сам привез их. Словом, они превозносили его.
На другой день лишь только я отворила калитку нижнего сада и должна была пройти мимо его окон, как он вышел ко мне на встречу: он, очевидно, ждал меня; в руках его была шкатулка, которую он поставил на скамейку, стоявшую под балконом. Тяжкое было это свидание; я уж ни о чем не помышляла, кроме убитого брата, и слезы мои текли на крышку черной шкатулки. Он стоял подле меня и говорил о Сереже, а я сидела и плакала. Когда, наконец, я вспомнила, что матушка проснулась, встала и взяла шкатулку. Он почтительно проводил меня до парадного входа и отворил мне калитку и большую дверь крыльца, с низким поклоном.
Не хочу входить в подробности и рассказывать, каким приливом новой горести наполнилось сердце матушки при виде вещей убитого сына. Долго она глядела на них, страшась до них дотронуться. Когда же она разобрала шкатулку и раздала нам вещи, им для нас купленные, это усилие над собою сломило ее. Она опять расхворалась и слегла в постель. Всякой день просила она Федора Федоровича Семигорского войти к ней и заставляла его рассказывать и повторять малейшие подробности о Сереженьке. Она слушала его жадно. Когда, пробыв у нас несколько дней, он пришел проститься, матушка была поражена и умоляла его приехать опять и скорее.
– Я ожила, пока вы здесь гостили; одна моя отрада видеть и слышать рассказы друга моего сына. Не откажите матери, приезжайте опять и уж погостите у нас подольше.
– Как прикажете, так и сделаю, – отвечал он, – я почитаю себя слишком счастливым, что мог заслужить ваше благорасположение.
Прощаясь с ним, матушка взяла его голову в обе руки, нагнула ее и поцеловала его волосы. Он был, по-видимому, так тронут, что со слезами на глазах поцеловал ее руку, кланяясь низко. В то время такое отступление от обыкновений и принятых форм было очень знаменательно, и он безмолвно благодарил матушку за выказанную ему нежность. Он стоил ее; все, что он говорил, как относился к матушке, и самая заботливость о собрании вещей брата, прелестная траурная из черного дерева шкатулка, заказанная им в Париже, – все это свидетельствовало о чуткости и деликатности его сердца. Если он произвел на всех нас хорошее впечатление, то надо думать, что и мы ему понравились. Он приехал опять через шесть недель и был принят, как близкий родственник.
– Теперь, – сказала ему матушка, – я вас так скоро не выпущу.
– Как прикажете, я в вашей воле, – отвечал он кратко и просто.

XI

Если Семигорской понравился всем с первого раза, то теперь это впечатление перешло в положительную к нему любовь – да и нельзя было не любить его. Он был начитан, говорил красно, рассказывал интересно, отличался особенною вежливостью, но вместе с тем откровенностию. Прямота его была неподкупна. Так, например, его мнения часто противоречили мнениям тетушки Натальи Дмитриевны, и он, не смущаясь, это высказывал. Однажды тетушка, говоря о войне, очень негодовала на французов и тут же на немцев; она выразила мысль, что только Россия и русские велики и сравнить их ни с кем невозможно.
Он восстал против такого мнения.
– Я сам русский, – сказал он, – люблю мою землю, и конечно в дни опасности готов положить за нее мою голову; я имел честь сражаться за мое отечество и старался делать свое дело, но смею вас уверить, что ни Франция, ни Германия не могут сравниться по благосостоянию с нашим отечеством.
– Как так? – воскликнули тетушки.
– Образованнее они нас, да и живут иначе. Благосостояние большое, во всякой деревне чистота, опрятность, трезвость, изобилие, а пуще всего чистота. У всякой избенки деревья, или садик. Пьяных я не видал. Трудолюбие, порядок, особенно в Германии.
– Но вот Сереженька писал, что во Франции остались в деревнях одни бабы.
– Это правда; Гишпания и Россия обезлюдили Францию – но убыль народа поправима. Через 20 лет следа не будет, а их порядок и трудолюбие обогатят их снова, ибо теперь от постоянных войн они заметно обнищали.
– Сережа писал, что малорослы они, что наши гвардейские молодцы и бить их не хотели, а хохотали.
– Да, знаю, тогда это наши рассказывали, сами очевидцы рассказывали, но дело это не мудрое, простое. Мужчин не было – набрали детей пятнадцатилетних, и эти дети, одержимые любовию к отечеству, бросались храбро на наших молодцов. Ведь это пигмеи только по росту и по летам. Духу-то у них было много, у детей у этих. Сожалеть надо о земле, где все взрослые погибли, и одни дети остались для защиты отечества. Говорили тогда, что наши солдаты расхохотались, но это смех был добродушный, а не злой. Солдат, и всякий простой человек, чует доблесть врага и не оскорбит его намеренно. Поверьте, что таково благосостояние тех стран, что были бы мы счастливы, если бы могли от них позаимствоваться многим.
– А вот вы все же к себе спешили, – сказала тетушка не без иронии, – там не остались.
– Я русский, и мне у себя лучше. Тут моя родина, мои родители, мои имения, – что ж мне там делать, – а все-таки скажу: их устройство лучше.
– Я всегда это говорила, не бывши там, – сказала матушка, – судила только по книжкам и вижу, что не ошиблась.
– Что книжка, и что есть в самом деле – великая разница, – сказала тетушка. – Вот Малек-Адель, прелестный рыцарь – найди-ка его на самом деле.
– И найдете, Наталья Дмитриевна, найдете, конечно на иной лад, но, право, во время войны такие-то рыцари были, что до них куда и Малек-Аделю. Все в том, чтобы уметь оценить товарища, начальника и подчиненного. Какие есть герои, дивиться надо.
– Милый вы мой, любезный вы мой, – сказала матушка с порывом. – Благодарю вас – говорите вы то, что я сколько лет думаю, и в чем никто не только согласиться со мною не хочет, но и осмеивали меня всегда.
Между матушкой и им установились особые отношения. Они уважали и любили друг друга, а что главное, понимали друг друга. Он выказывал к ней особенное, почтительное внимание, с примесью как бы сыновней нежности, а она, просто души в нем не чаяла. Его мнения подходили под ее мнения, но не будь этого, матушка во всяком случае полюбила бы его. Он, помимо мнений, нравился ей лично – манерами, лицом и в особенности тем, что любил брата и был любим им. Я заметила, что он совсем иначе, по своему, глядит на вещи и не покоряется принятым обычаям во многом. Так, например, у бабушки был страшный баловень, мальчик из дворни, лет четырнадцати, для побегушек. Его звали Ванькой, не из презрения, – бабушка никого не презирала, да и тетушки, не смотря на решительные мнения старшей тетки, были крайне добры и не обидели бы мухи, – а звали его Ванькой просто так, по обычаю, по привычке. Никто не думал обижать Ваньку, и сам Ванька не обижался. Я заметила, что один Федор Федорович звал его Ваней, и в разговорах не ускользнуло от меня, что он многое усвоил себе, чего у нас не было. Когда я о нем думала, – а думала я о нем часто, после того, как слушала его рассказы по целым вечерам, – он как-то чудно сливался в моем воображении с авторами писем «Русского Путешественника». Я возымела одно впечатление, как из чтения этой прелестной книги, так и из его интересных рассказов и завлекательных разговоров. Обычаи того времени не позволяли мне близко сойтись с ним; тогдашние понятия о приличиях не дозволяли близости между девушкой, молодой женщиной и молодым мужчиною. Я сидела около бабушки, слушала разговор старших, но вступать в него не могла, и отвечала тогда только, когда ко мне обращался кто-либо из старших. Но я не проронила ни единого слова из всего того, о чем он говорил. Рассказы его о Дрездене приводили меня в восторг, но восторг этот я должна была хранить в глубине души, ибо я не могла, да и постыдилась бы его выразить, но он тем сильнее охватывал мою душу. Даже встречаясь с Федор Федоровичем наедине, мне и в помышление не входило открыть ему мои мысли и сказать, что я чувствую, слушая его рассказы. А наедине видала я его часто. Вот как это случилось – без намерения с моей стороны, всеконечно. Я продолжала гулять с сестрами. Обыкновенно они выходили из дома со мною, но вскоре убегали, а я проходила мимо флигеля по дорожке вниз, достигала нижней аллеи и обходила пруд, потом подымалась в верхний сад и обходила его по липовым густым аллеям. С самого первого дня своего вторичного приезда, он встречал нас на дорожке, и всякий день выходил к нам навстречу; мы останавливались, разговаривали и потом расходились в разные стороны. Однажды он попросил у меня позволения идти со мною. Я вспыхнула, но ничего не ответила, но он принял молчание за знак согласия и пошел за мною. В этот первый раз я сократила свою прогулку. Но впоследствии желание его послушать, заглушило во мне страх, который я испытывала. Часто я просила сестрицу идти рядом со мною, но ей наскучали наши разговоры, и она убегала к меньшой сестре и ее няне, оставляя меня одну с ним. Мало-помалу я привыкла и уже не сокращала своей прогулки: мы обходили оба сада и не видали, по крайней мере я не видала, как летело время. Конечно, я совсем не говорила о себе, но мы много говорили о книгах, о иных землях, о брате, о войне, о моем покойном отце, которого он называл спартанцем и рыцарем, слушая мои рассказы. Ему, по-видимому, очень нравилась моя любовь к чтению и моя начитанность. Первым его воспитателем был эмигрант, француз, аббат, и он говорил, что многим обязан ему, особенно в отношении форм в общежитии. Потом, уже будучи молодым человеком, он был знаком с масонами, и они внушили ему христианские чувства, внимание и любовное отношение к низшим и в особенности слугам. Отличительной чертой его характера было чувство милосердия – не только страдания людей были ему несносны, но он не любил видеть, если мучили или жестоко обращались с животными… Я был очарована его беседами, и уже не дичилась его. О брате я говорила часто, и с первого дня нашего знакомства он сделался звеном, его и меня соединявшим. Открывая глаза поутру, я думала с восхищением, что вот оденусь, выйду в сад, что он встретит меня и пойдем мы по аллее, беседуя тихо и радушно. Вечером, ложась спать, я вспоминала всякое его слово, и всякое его слово было хорошо, приятно, или казалось мне поучительным и значительным. Так прошло недель пять. Он поговаривал об отъезде; его удерживали, но ему надо же было уехать. При одной мысли о его отъезде, сердце мое замирало.
Однажды, возвратясь с прогулки, я нашла тетушку в цветнике, на лавке. Она подозвала меня и приказала идти за собою. В тоне ее голоса было что-то особенное серьезное, даже строгое, что смутило меня, и я пошла за нею, как виноватая, не зная, однако, никакой вины за собою. Но тут я вдруг вспомнила, что гуляла в саду не одна, и сердце мое мучительно забилось.
Тетушка направилась не в диванную, а в образную, находившуюся около спальни бабушки, всегда пустую. Киоты стояли по стенам, перед ними теплились лампады; мебели не было, только два забытые стула стояли в углу. Тетушка села на один из них и указала мне другой. Я села, не смея взглянуть, и потупила голову.
– Вот оно что, Люба, не хорошо! – сказала строго тетушка, – я еще тебе ничего не сказала, слова не вымолвила, а ты горишь от стыда.
– Но что я сделала такого, тетушка? – едва выговорила я.
– Как будто ты не знаешь. Не хитри. Не усугубляй вины своей. Стыдно, очень стыдно, я не ждала от тебя такого пассажа.
– Но, право…
– Не хитри, говорю я, повинись лучше. Не прилично, даже предосудительно назначать свидания в саду.
– Свидания! – воскликнула я вдруг с негодованием, которое сменило мгновенно мой испуг и стыд. – Нет, я не назначала свиданий и даже никогда о том и не думала, не помышляла. Могла ли я даже подумать о такой…
И я вдруг заплакала, очень оскорбленная.
– Нечего плакать. Повинись лучше, – говорю я, – сказывай правду истинную.
– Вы меня обижаете, тетушка, мне рассказывать нечего.
– Так вот как! Что бы сказал твой покойный отец, если бы узнал, что, пользуясь горем убитой матери, которая теперь не в состоянии наблюдать за вами, ты попустила себя на такие неприличные девице поступки!.. Вот куда повело тебя чтение всяких поэм и романов. Я не раз говорила об этом, меня не хотели слушать, а вот теперь и завелась своя героиня романа. Хорошо!
– Воля ваша, тетушка, – сказала я с сильно проснувшимся чувством собственного достоинства и невиновности, – свиданий я не назначала и мне в голову не входило, что это есть свидание. Я просто гуляла, встречала его…
– Его!.. Вот как! Его…
– Федора Федоровича, и ни о чем мы не говорили, ни единого слова, которого вы бы не желали слышать.
Тетушка резко посмотрела на меня своими большими, умными, но отчасти суровыми глазами.
– Пусть так. Я тебе верю, но в таком случае ты поступила неосторожно, предосудительно. Скажу тебе, что Федор Федорович, видя такое твое поведение, не может уважать тебя. Конечно, всякому молодому мужчине весело гулять и любезничать с хорошенькой девушкой, но уважать ее он не может.
По боли, которая сказалась в моем сердце, при мысли, что он может не уважать меня, я бы должна была понять, как я уж привязалась к нему, но я не рассуждала, а только плакала. Тетушка говорила еще довольно долго, но я уж не прерывала ее; я слушала, не понимая ни слова, и сокрушалась, что потеряла уважение человека, которым дорожила.
Тетушка встала.
– Чтобы не было ни встреч, ни прогулок, ни ранних выходов в сад! Это не делается, не годится. Не заставь меня огорчить мать, рассказав ей, как ты ведешь себя. Стыдно!
Какой это был печальный для меня день! Подавленная стыдом и тревогою, я не смела поднять глаз ни на кого и, сидя в диванной около бабушки, прилежно вязала косынку, шевеля длинными спицами. Бабушка тотчас заметила, что со мною что-то случилось и спросила. Я отвечала: «ничего не случилось», и вспыхнула, как зарево. Бабушка посмотрела, не поверила, но не повторила вопроса, а по своему обыкновению, когда не верила, покачала головою.
Прошло несколько дней. Я никуда не выходила и неотлучно сидела около бабушки. Два-три раза пыталась я все сказать матушке, но не смела, видя ее постоянную печаль. Я заметила, что Федор Федорович сделался тоже печален и объявил, что должен уехать завтра. Это известие было мне крайне прискорбно.
Настал день его отъезда. Мне было так грустно сидеть в диванной, что после обеда я ушла в бильярдную, где всегда играли дети. Испуг мой был велик, когда вскоре туда же пришел и он.
Боже мой! – подумала я, – скажут опять, что это свидание. И зачем он пришел, он и в правду видно не уважает меня.
Он подошел и сел рядом со мною. Я встала и хотела уйти.
– Любовь Григорьевна, – сказал он, – позвольте мне попросить вас выслушать меня. Я не долго буду удерживать вас. Я заметил в вас большую для меня перемену; вы избегаете разговора со мною. Чем я мог заслужить ваше неудовольствие? Осмелюсь ли я спросить вас о причине вашего нерасположения ко мне?
Я молчала, совершенно потерянная, и желала одного: уйти, убежать. Я силилась не заплакать, считая это верхом неприличия.
– Ужели я так противен вам, что вы не удостаиваете меня ответом? Я смел надеяться, что во время столь дорогих сердцу моему наших прогулок, я успел заслужить ваше уважение и доверенность.
Слово «прогулка» сразило меня. Я вспыхнула и опять хотела уйти, но он угадал мое намерение и продолжал, преграждая мне дорогу:
– Одно слово, только одно слово, и я уеду сейчас, сию минуту, и никогда не покажусь на глаза ваши. Но я не могу, не хочу, – продолжал он с жаром и решимостию, – уехать, не сказав вам того, что так давно, с нашего первого почти свидания, наполняет мое сердце. Я любил вашего брата, как своего собственного брата, я почитаю вашу матушку и все ваше прекраснейшее семейство. Вас я уважаю и люблю с первой встречи, с первого разговора, там, на скамейке, в саду, когда ваша прекрасная душа и чувствительное сердце открылись мне.
Слезы мои хлынули, я закрыла лицо платком, задушая свои рыдания. Он продолжал:
– Ваш брат часто говорил о вас с нежнейшею дружбою, но его слова далеко не дали мне о вас того понятия, которое я теперь имею. Не повергайте меня в отчаяние, я уважаю и люблю вас. Осчастливьте меня своим согласием.
– Но что вам угодно? – проговорила я, недоумевая. – Его слова «уважаю вас» возвратили мне бодрость. «Тетушка ошиблась, – сказала я себе мысленно, – слава Богу!»
– Неужели вы не хотите понять меня? Я уважаю и нежнейше люблю вас. Позвольте мне просить руки вашей.
Я обмерла, но обрадовалась. Сердце мое билось, как пойманная птичка. Я хотела говорить – и не могла.
– Вся жизнь моя будет посвящена вам и до гроба я поставлю моим священнейшим долгом лелеять вас и сделать жизнь вашу счастливой и приятной.
– Как угодно матушке, – вымолвила я.
– Но вы, вы сами согласны?
– Да, – сказала я шепотом. – Он взял мою руку и прижал ее к груди. Сердце его билось так же сильно, как и мое. Я чувствовала его ускоренное биение под рукой моей.
– Сердце мое принадлежит вам и всегда вам одной принадлежать будет.
Я взглянула на него, освободила свою руку и, убежав к себе, бросилась на постель. Я плакала, плакала… но это были слезы радости и счастия. Я любила его всею душою, всем сердцем.
Матушка вошла в мою комнату.
– Люба, – сказала она, нежно целуя меня, – Федор Федорович Семигорской сделал мне предложение. Он просит руки твоей. Это будет для меня счастие. Согласна ли ты? Я вижу, что ты согласна, – прибавила она, взглянув на меня. – Я люблю его, как сына, уверена, что он будет тебе хорошим мужем.
Я бросилась в ее объятия и, прерывая мой рассказ слезами и поцелуями, не утаила от ней ни наших прогулок, ни выговора тетушки, ни моего смущения, ни моей радости, ни моей любви к нему. Она слушала меня молча, с умилением, и гладила меня по голове.
– Зачем же ты не сказала мне прежде, что ты любишь его?
– Я сама не знала, матушка, клянусь вам, не знала. Мне было приятно гулять с ним, разговаривать… Я ничего не таила от вас.
– Верю, верю! Ну, полно, не плачь. Я этого желала в последнее время. Господь, благослови вас!..
В тот же день вечером я сняла свое траурное платье и оделась в белое. Обычай строго запрещал невесте носить траур. Бабушка была в восторге. Все осыпали меня ласками. Праздник настал для семьи нашей. Нынче уж не умеют так праздновать и так радоваться, так умиляться в важных случаях семейной жизни. Чинности нынче много некстати, а задушевности меньше.
На другой день мы все отправились к обедне. Даже матушка сняла траур и надела декосовое платье. Бабушка и тетушки нарядились в парадные платья. В церкви жених мой стал рядом со мною. После обедни, без гостей, без чужих, меня благословили образами и обручили. Я, несмотря на отсутствие гостей, оделась по желанию матушки в белое кисейное платье, с розами в моих черных волосах. Никогда я не помышляла о красоте и была очень удивлена, что не только жених мой, но и все семейство говорило, что я одета к лицу и хороша собою. Матушка желала видеть меня нарядною, как прилично невесте, и говорила, что наряд придает торжественность важным эпохам в жизни. Жених подарил мне кольцо с бриллиантом на тоненьком ободочке, которое называли тогда супиром.
«J’ai bien soupiré après ce bonheur», сказал он мне, надевая кольцо на мой палец, и несколько раз поцеловал мою руку, прибавив: «je suis le plus heureux des hommes».









