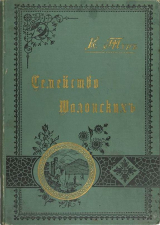
Текст книги "Семейство Шалонских (Из семейной хроники)"
Автор книги: Евгения Тур
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)

Евгения Тур
СЕМЕЙСТВО ШАЛОНСКИХ
Из семейной хроники
Внуку моему
Гр. ГЕОРГИЮ САЛИАС

Предисловие
Родная моя тетка Любовь Григорьевна, рожденная Шалонская, в замужестве за отставным полковником Федором Федоровичем Семигорским, оставшись бездетною вдовою, особенно любила меня, своего племянника, сына своего меньшого брата Николая Григорьевича Шалонского. Часто рассказывала она мне о своей молодости, о своем отце, моем дяде Григорие Алексеевиче Шалонском, и о том, что претерпела она и все ее семейство в страшной для нашего отечества 1812-ый год. После ее смерти, по завещанию, я оказался единственным ее наследником. Переселясь на житье в ее любимую усадьбу, Ярославской губернии в село Приволье, я нашел в ее старом бюро отрывочные записки и дневник, во многих местах с затерянными листами, но веденный в продолжении нескольких лет. Эти записки и дневник показались мне не лишенными интереса; я собрал их, привел в порядок и пополнил пробелы по памяти из ее рассказов. Семейные предания столь знаменательного года в истории земли нашей не должны, по моему мнению, пропадать бесследно.
Отставной поручик
Григорий Шалонский
I

Мы жили весну и лето в подмосковной батюшкиной деревне, осенью езжали к бабушке в ее имение Щеглово калужской губернии и там проводили всю осень, а по первому пути отправлялись зимовать в Москву. Эта бабушка наша была мать нашей матери, очень богатая, и по фамилии Кременева. Она безвыездно жила в своем большом имении, недалеко от города Алексина. Об ней и ее житье-бытье буду я говорить впоследствии подробнее, а теперь скажу, из кого состояло наше семейство.
Батюшка, Григорий Алексеевич Шалонской, как я его запомню в раннем детстве, был высокий, сильный брюнет, степенный и важный, с оливковым цветом лица и большими черными, выразительными и огневыми глазами. Он служил в военной службе и вышел в чине бригадира в отставку. В делах по службе, как говорили его сослуживцы и родные, он был ревностный, сметливый, исполнительный человек, нрава незаносчивого и невздорного, непритязательного, но был горд и спины гнуть не мог. Начальник не поладил с ним, и отец мой вышел в отставку 32 лет. Он встретил мать мою у своей близкой родственницы, влюбился в нее, женился и, имея прекрасное состояние, поселился на зиму в Москве. Вскоре после женитьбы занявшись своими поместьями, он сделался отличным агрономом, домоседом и мало-помалу, занимаясь духовным чтением по преимуществу, предался религиозному настроению. Никогда не пропускал он обедни в воскресенье, ни даже заутрени и вечерни; приходил в церковь прежде священника, становился на клирос и пел сильным, но приятным баритоном. Он знал наизусть всю церковную службу, превеликий был знаток в св. писании, знал псалмы, ирмосы и кондаки наизусть, и мог бы поспорить с любым духовным лицом по этой части. Четьи-Минеи, Камень Веры, Подражание Христу Фомы Кемпийского, проповеди Боссюэта, Массильона, Августина и Платона были его любимым чтением. Каждый день, летом в 6 часов, зимою в 8, собирал он нас детей своих, читал нам сам одну главу Евангелия, а потом каждого из нас заставлял при себе молиться Богу. Мы должны были прочесть «Отче наш», «Верую», «Милосердия двери», «Царю небесный» и «Богородицу»; потом каждого из нас благословлял и отпускал пить чай и учиться. По воскресеньям собирал он нас и шел с нами в церковь. Не малое испытание было для нас стоять смирно, не шевелясь, долгую обедню в сырой, нетопленой поздней осенью, деревенской церкви. Я помню до сих пор, как жестоко озябали мои ноги и с каким удовольствием помышляла я об отъезде в Москву, где церкви были теплые. Обращение отца нашего с нами, детьми, было важное, серьезное, но не суровое, и мы его не боялись, мы чувствовали, что сердце его мягко, что он добр и чувствителен, не смотря на свой громкий голос и всегда задумчиво-строгое лицо. Матушку мы боялись больше, хотя она была нраву веселого, любила смеяться и шутить, когда была в духе. Матушка ни в чем, ни во вкусах, ни в привычках, ни в мнениях не сходилась с батюшкой. Она была учена, воспитана на французский лад французской гувернанткой и великая охотница до чтения, но совсем другого, чем батюшка. Она любила поэзию, романы, а более всего трагедии. Память ее была изумительна. Она знала наизусть Оды Руссо (не Жан-Жака конечно, а Жана-Баптиста Руссо), целые монологи из трагедий Вольтера, Корнеля и Расина, зачитывалась Жан-Жаком Руссо, Августом Лафонтеном (в переводе с немецкого) и вообще была пристрастна к французской литературе. Она владела в совершенстве французским языком и, читая и перечитывая письма г-жи Севинье, сама писала по французски таким безукоризненно прекрасным слогом, хотя и очень высоким, что ее письма к знакомым ходили по рукам и возбуждали всеобщее удивление и восторг. Это не мало радовало матушку, и она сама ценила высоко свои познания и талант писать письма. При этом образовании, по тогдашнему времени замечательном, она была отливная хозяйка и знаток в садоводстве. Цветы имела она редкие, умела засадить клумбы изящно, а в теплицах, построенных по ее желанию, развела множество тропических растений. Нельзя описать ее радость, когда расцветал пышный южный цветок; его тотчас из теплицы приносили в покои и ставили на деревянные полки, горкою украшавшие углы залы и снизу до верху уставленные цветами. Букетов она не любила, говоря: «зачем рвать цветы, ими надо любоваться живыми, а не мертвыми, умирающими в вазах». Отец относился ко вкусам матери с вниманием, но не разделял их. В особенности не мог он примириться с ее пристрастием к французским книгам и французскому языку. Он почитал всех вообще французов вольнодумцами, а книги французские безнравственными и считал, что все они написаны под влиянием Вольтера, которого ненавидел и о котором говорить спокойно не мог. Матушка ему не прекословила, так что не смотря на разницу мнений и вкусов, они жили дружно и любили друг друга. Спорили они зачастую, но ссор не запомню. Матушка имела большое влияние на отца во всем, что не касалось религии, церкви, богослужения и духовных лиц. В этом она должна была пасовать, как она сама выражалась, и предоставить нас, детей, отцу – но за то во всем прочем она была полная и самовластная хозяйка. Она желала нам дать отличное образование, и потому, не смотря на косые взгляды отца и его подчас резкие замечания, у нас жили француженка гувернантка и немец, не то гувернер, не то дядька. Бог его знает, что он был такое; его познания ограничивались знанием бесконечного количества арий, которые он распевал по-немецки, гуляя с нами по полям нашего дорогого Воздвиженского. Батюшка говаривал, смеясь:
– Какой он гувернер! Я уверен, что он был актер, певец в каком-нибудь немецком городишке. Откуда бы ему знать столько арий и распевать их, размахивая руками.
– Может быть, – отвечала матушка, – но ведь я взяла его не детей воспитывать; я сама их воспитаю. Пусть он только выучит их по-немецки. Ты всегда на них нападаешь!
– На кого? спрашивал отец.
– Да на иностранцев, вот хотя бы на m-lle Rosine; у нее редкий французский выговор, парижский, чистый, чистейший.
– Да зачем он?
– Как зачем? Нельзя же языков не знать.
– Пусть учатся, я не мешаю, только не знаю, зачем им чистый парижский выговор.
– Так по твоему ломаным французским языком говорить?
Но батюшка не продолжал такого разговора, и уходил по хозяйству. А такие разговоры бывали часто.
Так мы и жили между отцом, только что не русским старовером, и матерью, умною, но на заморской лад воспитанною женщиной. Серьезные, духовные книги отца не привлекали нас, а французские книги матушки нам были как-то чужды, недоросли ли мы до них, или нам наскучило слышать чтения того, чего мы не понимали хорошо. В особенности надоедало нам приказание не говорить по-русски. Вот это было горе нашего детства. «Parlez français»! – кричала m-lle Rosine, которой нрав не отличался кротостью. «Sprechen sie deutsch»! – басил немец, а мы только того и чаяли, чтобы урваться, убежать в сад и поболтать по-русски. Чего, чего не придумывала m-lle Rosine. Однажды она явилась с дощечкой, на красном шнурке; на дощечке был изображен осел с длинными ушами, и она предназначала его для того из нас, кто первый заговорит по-русски. Но, увы, осел в первые три дня утратил всякое значение. Мы передавали его один другому с неописанным рвением и вместо наказания и стыда, на которые рассчитывала француженка, осел на дощечке сделался нашею любимою игрою. Француженка пришла в негодование.
– Mais ces enfants n’ont aucun amour propre, on ne sait par quoi les prendre.
– Прекрасный благородный дети! – восклицал в комическом негодовании немец. Он в особенности не мог видеть спокойно, когда мы ели тюрю, то-есть черный хлеб, накрошенный в квас. Вид этого спартанского блюда вызывал его гневное презрение, и ироническое его восклицание: Прекрасный благородный дети! только увеличивало наш аппетит, и нашу веселость. Мы, буквально, бывало, умирали со смеху. А нас было пятеро. Старший брат мой Сереженька, потом я, Люба, годом меньшая брата, а потом, двумя годами моложе меня, сестрица Милочка (Арина), за нею сестрица Наденька, а потом меньшой братец Николаша. Сереженька, Николаша и Милочка считались красавцами; они уродились, говорила матушка, в ее породу, в Кременевых, славившуюся своей красотой. Сама матушка была замечательной красоты. И матушка, и Сереженька, и Милочка имели русые вившиеся волосы, темно-серые прекрасные, глубокие, с светом и блеском глаза и цвет лица замечательной белизны и нежности. Сереженька, Николаша и Милочка были любимцами матери, а я и Наденька, – мы походили на отца, смуглые, как цыганки, и не могли похвастаться правильностию черт лица. Матушка очень сокрушалась нашими носами и всегда говаривала с прискорбием:
– Боже мой! Какие носы – ведь это ужасно! У них нос Шалонских. Всех Шалонских Господь наградил ужасными носами.
Носик матушки был небольшой, с небольшим горбиком и безукоризненных линий, а у отца и у меня с сестрицей носы были не из маленьких, хотя и не уродливые, как скорбела о том матушка.
В семействе нашем пользовалась особенным почетом наша няня Марья Семеновна, которая всех нас выходила и выняньчила. Она была московская, небогатая купчиха, оставшаяся одна из многочисленного семейства, которое вымерло во время московской чумы. Няня не любила говорить о чуме этой, а мы любили слушать и непременно заставляли ее рассказывать. Бедная няня! При этом нашем неотвязном требовании и вопросах, она крестилась, вспоминая страшное время. Она была старшая дочь у отца и матери, и осталась сиротою с меньшим братом; отец и мать и 7 Детей их умерли, друг за другом, во время чумы. Няня не могла без трепета вспомнить о черных людях, одетых в черные кожи, которые появлялись в небольшой домик ее родителей и длинными крюками вытаскивали только что умерших родных ее. В живых осталась она одна по 16-му году с меньшим братом лет 8. Они вдвоем заперлись в заднюю комнатку домика, и в маленькое окошечко добрые люди подавали им на палке хлеб и воду. Когда чума в Москве миновала, Марью Семеновну выпустили из ее затворнической кельи, где натерпелась она таких страхов. Оказалось, что в маленькой лавочке ее отца ничего не уцелело; она была разграблена во время мятежа. Ее и брата ее приютил у себя двоюродный дядя; брат ее служил у него на побегушках, а потом стал прикащиком, и умер, не дожив до 18 лет. Марью Семеновну в 18 лет отдали замуж за купца, который оставил ее вдовою без всякого состояния. У ней были дети, но, как она говаривала: Господь их прибрал. И вот пришлось Марье Семеновне идти в услужение. Она, потеряв родных детей, поступила в наш дом, когда родился брат Сережа. И любила же она его! Больше всех нас, взятых вместе. Она, как говорится, наглядеться на него не могла, и эта любовь ее к своему воспитаннику в особенности сблизила ее с матушкой. Матушка любила без ума своего красавца и кроткого, как ягненок, сына – первенца. Все мы это знали, и не завидовали, потому что уж очень добр был этот брат наш, и сами мы его много любили. Всеобщий он был любимец. Только батюшка глядел не совсем спокойно на это предпочтение. Он не одобрял его и поставлял себе за долг не оказывать предпочтения никому из детей. Мы это видели, знали на этот счет его мысли, но детский глаз зорок и детское сердце чутко, мы смутно понимали, что ближе других стоят к нему дочери, а ближе всех дочерей, я, старшая из них. И однако я не могла похвалиться тем, чтоб отец баловал меня, как баловали, миловали и ласкали Сереженьку матушка и Марья Семеновна.
Он заслуживал любовь матери по своей доброте и кротости нрава и особенному свойству всем нравиться, ко всем быть внимательным и любезным. Он был в полном смысле слова ласковое, милое, добросердечное дитя, а впоследствии добрый юноша. Русые его волосы вились от природы в глянцевитые кольца, серые большие, светлые глаза глядели добродушно, толстоватые, но пунцовые, как малина, губы улыбались охотно и часто. Об нем нельзя было сказать, что он умен, но так уж мил и пригож! В доме все его любили от судомойки до первой горничной и от дворника до дворецкого. Для всех у него было доброе слово и привет.
– Деньги, – говаривала матушка, – не держатся в его кармане, текут, как вода. Сереженька до тех пор спокойствия не имеет, пока не раздаст их.
– Бессребренник, – говорила няня, – не даром он родился накануне св. Кузьмы и Демьяна бессребренников.
Марья Семеновна не могла наглядеться на него; она по целым часам сиживала с чулком около него, когда он учился, и не мало забавляла нас своими причитаниями и сетованиями.
– И что это вас, деточек, мучат, – говаривала она. – Разве вам пить-есть нечего. Слава Богу, всего вдоволь. Жили бы поживали. И зачем это?
– Как, няня, зачем? Все знать надо. Ну вот, няня, скажи-ка, как ты думаешь – велико солнце?
– Что мне думать. Бог глаза дал. Оно отсюда, снизу, кажется маленьким, а должно быть велико-таки. Я полагаю больше будет заднего колеса нашей большой кареты.
– Ну вот и ошиблась, – восклицал Сережа;– оно, солнце-то, очень, очень велико, больше земного шара.
– Какого земного шара?
– Нашей земли, на которой мы живем.
– Так говори путно, какой такой шар поминаешь, над старухой не смейся, грешно. Я не дура какая, либо юродивая, чтоб такому вздору поверить. Вишь ты! У тебя еще молоко на губах не обсохло! Туда же, смеяться над старухой, – кропоталась не на шутку обидевшаяся няня.
– Вот-те крест, – говорил брат серьезно, которому упреки няни дошли до сердца, – я не смеюсь над тобою нянечка. Солнце больше земли. Вот тут, я учу, измерено. – И он показывал ей на свой учебник.
– Измерено! – повторяла няня с негодованием. – А кто мерил? Кто там был? Подлинно у бар либо денег много, либо ума мало, что за такие-то сказки они деньги платят. Этому-то детей учить, на этой-то пустяковине их мором морить! До полночи просиживает, голубчик, дребедень-то эту заучивать! и!.. и!.. и!..
И няня качала головою, возмущенная и озадаченная.
– Няня, – говорил брат не без лукавства, – а знаешь ли во сколько минут летит к нам луч света от солнца!
– Не знаю и знать не хочу. Да что ты это, сударь, насмехаться надо мною не пóходя вздумал. Луч света и его мерять! Уж лучше, как в сказке, веревку из песка свить. Умен стал больно.
Врат, видя, что няня не на шутку сердится, бросался ей на шею и душил ее поцелуями, приговаривая:
– Не буду, не буду, не сердись, Христа ради!
– То-то же, – отвечала, растроганная его ласкою, няня, и грозилась на него, а затем крестила его, целовала; он принимался нехотя за книгу, а она за чулок.
– Что ты меняешь книжку? Другое что ли твердить будешь?
– Да, няня, грамматику.
– Что оно такое? Ты толком говори, а мудреных слов ты мне не тычь. Я ведь их не испугаюсь, да и не удивлюсь.
– Грамматика-наука правильно писать и говорить.
– Тьфу, дурь какая! – отплевывалась няня. – Да ты, чай и так, прирожденный русский, так по-русски говорить знаешь. Чему ж учиться-то?
– Разным правилам, как и почему.
– Ну да, да, опять деньги даром давать. Я вот до 50 лет дожила, говорю, слава Богу, все меня понимают; а тебя, пожалуй, так заучат, что будешь говорить, как сын нашего дьячка. Слушаю я его намедни, сидя у его матери, слушаю, говорит он по-русски и все слова его наши русские слова, а понять ничего не могу. Еще в отдельности почти такое слово понять можно, а вместе, нет, никак не сообразить. Вот и говорю я его матери: «Что он это у вас как мудрено разговаривает»? А она в ответ: «он у нас ученый». А ты этому не учись. Тебе неприлично. Ты дворянин, столбовой российский дворянин, а он что? семинарист, кутейник. Отец-то с косицей на крилосе басит.
– Что ж, няня, что басит, он человек хороший, я с ним стрелять хожу; очень хорошо стреляет. Он мне сказывал, что сын его ученый. Сама ты слышала, что красно говорит.
– Это ему и к лицу. Ему надо же чем-нибудь себе отличие иметь, а тебе не нужно – у тебя рождение твое отличие.
– Однако, няня, – вступалась я, – если он останется при одном рождении, дело выйдет плохое. Неграмотных, да неученых и в службу не берут.
– Так вот оно что, я теперь за книжку, – говорил брат весело и принимался за учебник.
Но брату наука давалась трудно. Учил он часами то, что я выучивала в полчаса. Няня безотлучно сидела около него, с соболезнованием качала головою, а иногда и бормотала что-то себе под нос. Между нею и братом образовалась теснейшая связь и любовь. Никогда он не ложился спать, не простившись с нею, она крестила его, а он, хотя никто его тому не учил, целовал у ней руку; она, сознавая вероятно свою чисто-материнскую к нему любовь и нежность, не противилась тому и с умилением глядела на него. Матушка ценила любовь няни ко всем нам, но в особенности к брату и обходилась с ней совсем иначе, чем тогда обходились с нянями, как бы их не любили. Матушка относилась к няне скорее, как к близкой родственнице, чем как к лицу подначальному и служащему в доме. Она с ней сиживала вечером, пивала с ней чай, а в отсутствии отца сажала ее обедать с собою и рассуждали они о хозяйстве, детях, их состоянии и будущности. Словом, Марья Семеновна была членом нашего семейства и имела свой голос. Во всем, что касалось вседневной жизни, она была советница разумная, ревнивая блюстительница интересов дома и нашего благосостояния. Один батюшка глядел неодобрительно на постоянное присутствие няни при драках, играх и чтениях Сережи, и еще больше порицал матушку за ее предпочтение к старшему сыну. Когда матушка говаривала, что какая-либо вещь, или дом или имение будут Сереженькины, батюшка останавливал ее словом:
– Не знаю; у нас еще, кроме его, четверо детей.
– То девочки, – возражала мать, – выйдут замуж – отрезанный ломоть, а сыновей у нас двое.
– А потому что девочка, так мне ее по миру пустить? – говорил отец с досадой, – оделить ее, потому что ей ни в службу, ни в должность идти нельзя! Нет, это дело грешное, несправедливое.
– С тобою не сговоришь, – отвечала матушка, весьма недовольная, и умолкала.

II

Вообще строй семьи нашей сложился странно. Влияние и направление матери было французское, влияние и направление батюшки русское, скажу – староверческое, а мы дети росли между двух, не поддаваясь ни тому, ни другому. Могу сказать, что мы росли индифферентами, между этих двух течений. В моей памяти уцелели кое-какие разговоры и семейные картины, которые я и расскажу, как помню.
Осенью сиживали мы в нашей круглой небольшой гортанной. Матушка помещалась на диване, полукругом занимавшем всю стену, батюшка сиживал в больших креслах и курил длинную трубку, такую длинную, что она лежала на полу. Около играли сестра Милочка и брат Николаша, няня держала на руках полуторагодовалую Надю, а я сидела подле матушки. Она вязала на длинных спицах какую-то фуфайку, которой не суждено было быть оконченной; по крайней мере я помню только процесс этого вязания в продолжении нескольких лет.
Плохо подвигалась фуфайка: то возьмет матушка книгу, то пойдет по хозяйству, а фуфайка лежит на столе. Плохая была она рукодельница, но работать желала по принципу и приучала меня. Когда она вязала фуфайку, я должна была вязать чулок из очень толстых ниток. Вязанье чулка почитала я тяжким наказанием и поглядывала на матушку: авось встанет, авось уйдет, авось возьмется за книжку, а лишь только наставало это счастливое мгновение, как и мой чулок соединялся с фуфайкой и покоился на столе часами, днями и… годами. Уедем к бабушке или в Москву, оставим в Воздвиженском фуфайку и чулок, приедем на зиму домой, опять появляется фуфайка и ненавистный мне чулок. Этот-то чулок вязала я, однажды, в скучный вечер, сидя около матушки, когда разыгравшиеся дети, толкнули трубку отца. Он всегда этого боялся, малейший толчок трубки отзывался очень сильно на чубуке и грозил зубам его.
– Тише! Зубы мне вышибите. Арина, уж ты не маленькая, можешь остеречься.
– Не называй ты ее так, – сказала матушка, – сколько раз просила я тебя.
Батюшка был не в духе.
– Безрассудно просила. Арина имя христианское, имя моей матушки.
– Знаю, – сказала мать с досадою. – Неужели бы я согласилась назвать мою дочь таким именем, если бы оно не было имя твоей матери. Конечно, сделала тебе в угоду, – а ты ее зови Милочкой.
– Милочка не имя, а кличка. У моего товарища была борзая, ее звали Милка.
– То Милка, а то Милочка. Не хочу я дочери Арины.
– Ну, зови Аришей.
– Фу! Какая гадость: Арина, Ариша. Не хочу я и слышать этого.
– Что ж, ее и знакомые, и лакеи будут звать Милочкой до 50 лет.
– Родные будут звать Милочкой, а лакей Ириной.
Отец покачал головой и замолчал. И я с тех пор заметила, что все слуги звали сестру Милочку Ириной. Сохрани Боже, если бы кто назвал Ариной – непременно получил бы нагоняй.
Старший брат мой Сереженька строгал и клеил, для чего был ему куплен инструмент и стоял станок в углу залы. После я уж узнала, что матушка, вследствие чтения не один раз Эмиля Руссо, всех детей кормила сама, и пожелала, чтобы брат мой знал какое-либо ремесло. Ремеслу брат не выучился, но станок любил, и как-то, с помощию плотника Власа, соорудил матушке скамеечку под ноги. Строгал однажды он немилосердно и надоедал батюшке, который читал огромную книгу, в кожаном переплете.
– Погоди, не стучи, сказал батюшка, и Сереженька примолк, а мы насторожили уши, так как вечера осенние тянулись долго и немного было у нас развлечений.
– А вот в Англии, – продолжал отец, обращаясь к матушке, – не по нашему. Это я одобряю, хотя к англичанам пристрастия особенного не имею.
– За что их любить? Нация коварная, одним словом: perfide Albion. А ты о чем говоришь?
– О том, что у них звание священника весьма почетно. Оно так и быть должно. Служитель алтаря – лучшее назначение для человека богобоязливого и нравственного. В Англии меньшие сыновья знатных фамилий принимают священство.
– Дворянин да в священники! Не дворянское это дело.
– А почему? Самое почтенное дело. Подавать пример прихожанам жить строго, по заповедям, поучать паству свою примером и словом, что этого почтеннее!
– Чтобы быть священником, – возразила недовольная матушка, – надо знать богословие и стало быть учиться в семинарии.
– Что ж такое? В Англии есть школы, где преподают богословие.
– Школы! школы! воскликнула мать с жаром, как ты не называй такую школу, все выйдет семинария и семинарист. Blanc bonnet, bonnet blanc.
– A я терпеть не могу французской болтовни. Толку в ней нет – и народ пустой, вздорный и безбожный.
– Не все французы – безбожники. Ты сам читаешь проповеди Массильона и хвалишь.
– Быть может, и не все они безбожники, только я их терпеть не могу. Кроме бед, ничего они не наделают, да уж и не мало наделали. Короля законного умертвили, храмы поругали, проходимца корсиканского взяли теперь в императоры. Того и гляди накажет нас Господь Бог за то, что мы этих безбожников и вольнодумов чтим и во всем им подражать стремимся. Но не о том я речь повел теперь. Я говорю, что почел бы себя счастливым, если бы сын мой, как в Англии, поступил в священники.
– Что ты, батюшка мой, рехнулся что ли? Опомнись, – сказала матушка с досадою. – Да я и слышать таких слов не хочу. Мой сын дворянин, царский слуга, а не пономарь с косицей.
– Я тебе не о пономарстве говорю, хотя и пономарь церковнослужитель. Я тебе говорю о священстве. Это сан. Ужели ты сочтешь за стыд, если бы уродила сына, как митрополит Филипп, либо блаженный Августин?
– Это совсем не то. То люди святые, куда нам до святых. Дай нам Бог воспитать людей честных, образованных, верных слуг царю и отечеству.
– Одно другому не мешает. Одного сына в воины христолюбивые, а другого в священники благочестивые.
– Да что ж ты сам в попы-то не шел? – сказала матушка с иронией. – Зачем служил и дослужился до бригадира? Зачем женился?
– Зачем? Служил я моему законному дарю и моему отечеству – тогда призвания не имел идти по духовной части… в монахи… Обычай не дозволяет идти в священники.
– Призвания не было – а от чего же у сына твоего призвание будет? И у сына не будет!
– Очень жаль, особенно жаль, если ты будешь внушать ему с детства такие мысли. Ты бы уж ему Вольтера почитала.
– Я сама читаю только трагедии Вольтера, – сказала матушка, всегда обижавшаяся, когда говорили об Вольтере без восхищения, но вместе с тем опасавшаяся прослыть вольнодумкой. – А трагедии его бесподобны. В семинаристы же сына пихать не буду, воля твоя! По твоему девочек одеть в темные платья, лиф по горло, не учить языкам, не вывозить никуда и прямо в монастырь отдать по 20-му году. Нет, воля твоя, этого не будет, пока я жива. Дети твои – также и мои дети. Я не согласна.
И мать моя положила свою фуфайку на стол (а я скорей туда же бросила свой чулок) и вышла из комнаты, вспыхнув лицом. Батюшка посмотрел на нее очень как-то невесело и молча принялся читать книгу.
Матушка не без намерения упомянула о платьях по горло. Батюшке было неприятно, когда она одевала нас по моде, с открытым воротом и короткими рукавами. Он считал грехом одеваться нарядно, ездить в театр, а пуще всего носить платья, открывая шею, плечи и руки. А матушка, напротив, любила одеваться по моде, танцевала замечательно прелестно, по тогдашнему выделывая мудреные па и антраша, любила театр и не упускала случая потанцевать и взять ложу. Она была еще очень красива; красоте ее удивлялись все, и она невинно гордилась этим. Отец терпел, покорялся, любя матушку очень нежно, но не оправдывал ее склонности к светским удовольствиям. Он называл это суетою, это означало: тешить дьявола.
– Дьявола, – говаривала матушка, – а где ты видал дьявола? я его нигде, никогда не видала.
– А кто же нашептывает суету всякую, как не дьявол? Его тешут, когда бросают деньги зря, и вместо того, чтобы в церкви подавать, нищую братию оделять, – рядятся да ездят по балам да театрам.
– Не говори пустого, – вступалась матушка, – мы с тобою живем и так не по-людски, гостей не принимаем, не тратим на наряды и театры. Когда, когда, разве изредка придется повеселиться… а про нищих и про церкви я ничего не говорю – ты не мало раздал. Вишь, какую церковь выстроил, что денег извел.
Постройка церкви весьма роскошная не нравилась матери, но она не вступала в открытую борьбу, хотя боялась, что батюшка тратит на все слишком много, не по состоянию. Отец достроил церковь и освятил ее уже после пожара Москвы, и приказывал себя похоронить в ней, что однако мы не могли исполнить, ибо вышло запрещение хоронить в церквах.
Радости и развлеченья нашей однообразной и тихой жизни ограничивались поездками к бабушке всякую осень к ее именинам. Ее звали Любовь Петровна, и к 17 сентября съезжались к ней все ее родные, дочери с мужьями и детьми, племянницы и племянники тоже с детьми. Бабушка в молодости славилась красотою, часть которой передала и матушке. Она осталась вдовою еще в молодых летах и была уважаема всеми за кротость нрава, ясность характера, и чрезмерную доброту. Она слыла за самую почтенную и во всех отношениях приятною и приветливую старушку. Мать наша считалась ее любимою дочерью, а я любимою внучкою; я была названа в ее честь: Любовью, и наши именины, конечно, праздновались вместе. Я знала, отправляясь в Щеглово (так называлось имение бабушки), что меня ждут там и угощения, и подарки, и поцелуи, и ласки, и чай с топленными сливками, покрытыми золочеными пенками, и ухаживанье всех горничных, и поклоны всей дворни. Лишь только кончался август месяц, как у нас в Воздвиженском начинались сборы. Какие это были веселые сборы! Сколько беготни, хохоту и болтовни. Дом оживал. Горничные бегали, бегали слуги и дворовые, и все укладывали и свой, и барский скарб. Даже прачки, и те мечтали и гадали о том, которую из них возьмут к «старой барыне», так все они звали бабушку. Все знали, что бабушка никого не отпустит из Щеглова без доброго слова, привольных угощений, а иногда и подарка. А сборы были не малые, ездили мы к бабушке на «своих» (т. е. на своих лошадях) с целым обозом и, так сказать, караваном. От нас до Щеглова считалось 200 слишком верст и не по большой столбовой дороге, а частию проселком. Тогда на почтовых езжали чиновные люди да вельможи знатнейшие, а дворянство, даже весьма богатое и старинных родов, езжало на своих лошадях; когда же предстояла езда спешная, по неотлагательному делу, болезни или иной беде, то нанимали извощиков и ездили на сдачу. Батюшка всегда езжал на своих, любил лошадей и имел свой собственный конный завод.
Путешествие наше всегда совершалось следующим образом и порядком. Впереди всех, в коляске четверней, ехал батюшка со мною и старшим братом; за коляской ехала тяжелая четвероместная карета, запряженная шестериком с форейтором, где сидела матушка, няня Марья Семеновна, брат Николаша и сестры, Милочка и Надя. За каретой ехали бричка тройкой с горничными, за бричкой кибитка с прачками, тоже тройкой. Рядом с кучером сидели: на коляске батюшки – его камердинер; на козлах кареты – высочайшего роста лакей Андрей; на козлах брички – Федор, башмачник, который шил башмаки и сапоги на всех нас и на всю нашу прислугу. В кибитке восседал очень важно повар Евграф, чрезвычайно искусный в своем деле и крайне неприятного нрава. Выезжали мы в 5 часов утра. Батюшка требовал пунктуальной аккуратности, и матушка ему покорялась. В 5 часов ровно влезала она в карету, и поезд наш двигался крупною рысью, по слову батюшки: с Богом!

«…В пять часов ровно влезала она в карету…»
Колокольчики заливались, и кучера весело покрикивали особенным покриком: «Эй вы! голубчики! Вали!» или: «Соколики, выноси!» В 10 часов утра останавливались всегда в заранее назначенной деревне, всегда почти у знакомого мужика. В избу выносили погребцы, ковры; сперва пили чай, потом часа в два обедали, потом собирались опять и выезжали в 4 часа, ехали до 8 и ночевали. В избу приносили огромные охапки сена, стлали его на пол, накрывали коврами и бельем и укладывались все, кто где попало, не раздеваясь вполне, а накидывая халаты и капоты. Матушка не очень любила этих импровизированных первобытных ночлегов и часто уходила спать в карету. На четвертый день достигали мы наконец Щеглова. Какая радость охватывала меня, когда мы подъезжали к перевозу, когда перевозились на пароме через реку, которая текла за 1/2 версты от Щегловской усадьбы. Как билось томительно и страстно мое сердце, когда мы сворачивали направо, и я бывало завижу гумно, сад, ограду садовую с белыми вязами и, наконец, ворота большого бабушкина двора. Между тем бабушка, зная аккуратность батюшки, который всегда приезжал в первых числах сентября, ждала нас с нетерпением, приказывала мыть, чистить и мести флигель своего дома, в котором мы всегда помещались и который назывался флигелем Шалонских. Он соединялся с домом крытой, с огромными окнами галереей. Бабушка жила в большом старом деревянном доме с двумя своими незамужними дочерьми и двумя племянницами, тоже девицами. Старшая – Наталья Дмитриевна, имела уже около 50 лет и страстно любила меньшую сестру свою Сашеньку и двоюродную сестру Оленьку, которых, в особенности первую, считала ребенком, хотя ей было более 26 лет. Она звала ее Сашей, а тетя Саша звала свою старшую сестру просто сестрицей или Натальей Дмитриевной и говорила ей: вы. Во всем слушалась она ее беспрекословно. Дом бабушки был громадный, с большой залой и хорами, откуда в именины и праздники гремела музыка, с большой и малой гостиными, с бильярдной залой и мужским кабинетом, где никто не жил после кончины дедушки. В кабинете стояли чудные раковины, большие часы с курантами и китайский фарфор, в гостиной висели в золоченых рамах картины, вывезенные из Петербурга одним из дядей бабушки. Одна из них представляла испанца в черном бархатном платье с огромным воротником из великолепного кружева, другая – красавицу с ветками сирени у корсажа и в черных кудрях. Была и вакханка с тирсом в руках, и амур с колчаном и стрелами. Дом стоял в глубине огромного двора, от которого тянулись сады обширные и тенистые, верхний и нижний. Верхний сад состоял из старых липовых аллей и кончался плодовым садом, а нижний шел уступами под гору к оранжереям, вишневому грунту и пруду, обсаженному елями. За оранжереями текла, извиваясь между зеленеющих полей, небольшая речонка. Для нас, детей, Щеглово представлялось раем земным. Любящая, балующая бабушка, в волю гулянья, катанья, всякие лакомства и услужливость многочисленной дворни. Дворня бабушки жила в довольстве, свободе и праздности и относились к нам, внучкам, с любовию и уважением. Самая наша жизнь дома крайне монотонная и отчасти суровая, изменялась совершенно в Щеглове. Ни длинных молитв по утру, ни слишком длинных служб в домовой церкви, ни длинных вечеров в молчании, матушка за книжкой, а я за чулком. – Напротив того, разговоры многочисленной семьи, гости, выезды – словом, мы выезжали в Щеглово с замирающим от радости сердцем и покидали его с горькими слезами.








