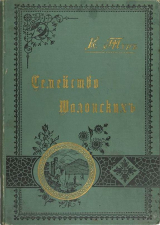
Текст книги "Семейство Шалонских (Из семейной хроники)"
Автор книги: Евгения Тур
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Подходило 17 сентября, и бабушка, поджидая дочь, зятя и внучат волновалась по своему, тихохонько, но заметно. Вместо того, чтобы сидеть в диванной за вязаньем кошельков из бисера, она переходила галерею, осматривала флигель Шалонских, приказывала кое-что дворецкому Петру Иванову, ходившему за нею по пятам, заложив руки за спину, и отвечавшего на всякое слово ее: «слушаю-с». После обеда бабушка выходила на балкон, глядела вдоль к перевозу и приказывала позвать ребят. Их являлась толпа не малая, всех возрастов, начиная с 15 до 5 лет.
– Слушайте, дети, – говорила бабушка, – жду я своих; кто первый из вас прибежит сказать мне, что они едут, получит пригоршню пряников и новенький, с иголочки, светлый гривенник.
Ребятишки бежали взапуски, выслушав такие речи; быстроногие опережали других, взлезали на колокольню и, засев в ней, удерживали места за собою с необыкновенным упорством; ходили обедать домой по-очереди, и ночевывали на колокольне.
– Едут! едут! закричали однажды два-три мальчугана, вбегая на широкий двор.
Поспешно положила бабушка свою работу и поспешила сойти длинную парадную лестницу. Остановись на крыльце, она ждала, имея по правую руку старшую дочь, а по левую – меньшую, а сзади двух племянниц. Места эти были не назначены, но так уж случалось, что они всегда стояли в этом порядке.
К крыльцу подъезжала карета.
– Чтой-то будто не наши! – сказала бабушка.
– Да и то не наши, не их карета, и кучер не их, и лакей чужой.
Из кареты вылез сосед с женою и детьми и недоумевал, отчего это обеспокоил он Любовь Петровну, и почему она встречает его на крыльце.
– Батюшка, Захар Иванович, это вы, и вы Анфиса Никифоровна. Рада вас видеть и у себя приветствовать, только не хочу правды таить, встречать вышли мы не вас. Кричат ребята – едет зять мой Григорий Алексеевич с моею Варенькой и ее деточками, вот я и вышла.
– А вы, пострелята, смотри, я вас ужо, – пригрезилась на детей старшая тетка наша Наталья Дмитриевна, – матушку смутили, обеспокоили. Чего зря орете, лучше бы смотрели в оба!

III

Но вот, наконец, и в самом деле: гурьбою бегут мальчишки и кричат: «едут! едут!» и топот копыт, звуки заливающихся колокольчиков, пыль столбом по дороге. И вот на всех рысях лихих коней катит к подъезду коляска батюшки и карета матушки. Еще издали я высовываю из крытой коляски мою нетерпеливую голову и, завидев на крыльце маленькую, худенькую в черное одетую фигурку нашей добрейшей бабушки, чувствую такое учащенное биение сердца, что дух у меня захватывает. Забывая все, приличие, чинопочитание, чопорность, лезу я через колени батюшки, скачу из коляски и, обвивая шею милой бабушки ручонками, покрываю ее впопыхах детскими горячими поцелуями и слезами радости – теми слезами, теми поцелуями, которых люди зрелых лет уже не знают. Бабушка с усилием отрывалась от меня и обнимала батюшку, которого нежно любила, потом матушку, и все мы шли на верх по широкой, липовой, развалистой лестнице. Тетки страшно любили нас, как любят племянников и племянниц незамужние, пожилые, добрые женщины, но мы неблагодарные, любили только бабушку, милую, ненаглядную, и терпели ласки теток, принимая их подарки и услужливое внимание, как нечто обыкновенное и должное.
В Щеглове жизнь наша текла, как говорится, млеком и медом. Чего хочешь, того просишь. А то и просить не умеешь, все является не по желанию, а прежде желания. Я поселяюсь в комнате бабушки; мне ставится кровать против ее кровати, самый толстый и мягкий пуховик, и вынимают самое тонкое, голландское белье. О белье я не заботилась, но пуховик мне весьма был приятен, так как в Воздвиженском я спала (вероятно, тоже вследствие чтения Эмиля Руссо) на ковре, положенном на голые доски кровати. В Щеглове спала я в волю, никто не приходил будить меня. Иногда я проснусь, а бабушка встает, и полагая, что я сплю (милая старушка!) осторожно на цыпочках, на босую ногу, крадется около моей кровати. Я щурюсь, прикидываюсь спящей, и душа моя радуется и ликует, когда бабушка останавливается у моей кровати и смотрит на меня несколько мгновений. Губы ее шевелятся, или молится она обо мне, или благословляет меня и проходит тихо в свою уборную, которую зовут оранжерейной, вероятно потому, что в ней есть большое окно и ни единого горшка цветов. Я не выдерживаю.
– Бабушка, я не сплю! – восклицаю я с триумфом. Бабушка возвращается, присаживается на минутку на конце моей постели. Я бросаюсь ей на шею, целую ее милое, сморщенное лицо, ее небольшую, седую, с короткими волосами голову, а она перебирает мои, как смоль, черные косы, гладит их и говорит:
– Пора. Пробило 8. Чай простынет. Вставай, Люба. Пенки Федосья натопила тебе. Пора одеваться.
И я вскакиваю. Начинается чай с пенками, и затем весь день идет гулянье в рощах и лесах, с огромной свитой горничных девушек, которые забавляют нас и затевают игры и горелки, и гулючки, и веревочку. Дворовые зазывают нас к себе в гости и потчуют сдобными лепешками и круглыми пирогами с яйцами и курицей.
А то идем мы в подклеть[1]1
В больших барских домах так назывался нижний этаж дома, вырытый в земле, в фундаменте, обложенный деревом, но без пола и с грунтом вместо пола. Он был сух и просторен, и целая семья прислуги жила там.
[Закрыть], где с одной стороны живут старые слуги, ребята и жены лакеев, а с другой – журавли, павы, козы, цецарки и прелестные маленькие петушки и курочки, называемые «корольками». Их выпускают гулять с восходом солнца и загоняют на ночь в подклеть, зимою же им тут приходится и дневать, и ночевать. В другой половине подклети, перегороженной на небольшие комнаты и представлявшейся мне, еще маленькой девочке, городком с узкими улицами и переходами, где можно заплутаться, стены оклеены разными картинками. Тут познакомилась я впервые с картинкой: «Мыши кота хоронят», и многими другими изображениями и святых, и богатырей, и выслушивала длинные о том сказания от обитателей подклети. К сожалению вскоре, неизвестно почему, нам строго запрещено было ходить в подклеть; истории остались недосказанными, а подклеть в моей памяти и воображении осталась сказочным городком, населенным людьми и животными особого, необыкновенного рода. Рассказчик жития святых или похождений богатыря сливался сам с рассказом, – он, казалось мне, видел сам все то, что рассказывал, и его прозаическая фигура окрашивалась фантастическим светом.
Чудное было житье наше! Отец не выговаривает, мать не журит, уроки, прерваны, мы предоставлены бабушке и теткам, и сама наша m-lle Rosine восседает в диванной, кушает на славу, нанизывает бисер и рассказывает тетям о belle France. Их любопытство льстит ей, льстит тем более, что батюшка никогда не слушал ее болтовни, матушка, очень умная и любознательная, тоже не любила пустой болтовни, а мы относились не только холодно, но даже враждебно к la belle France, язык которой нам навязывали насильно.
Вот наступали именины бабушки, именины торжественные, о которых мы мечтали целые полгода и вспоминали другие полгода. По утру просыпались мы рано и одевались – бабушка и я – в нарядные платья. Она надевает шелковое плюсовое платье, чепец с такими же лентами и турецкую, белую шаль. Я также в новом белом декосовом платье, с розовыми лентами. Вместе сходили мы из оранжерейки несколько ступенек и шли через коридор в домовую церковь. В правом углу церкви была ступенька обшитая зеленым сукном. Это место бабушки и ее дочерей. Я с бабушкой становилась рядом, и мы слушали литургию и молебен. Потом все шли в диванную, и домашние поздравляли бабушку; с раннего утра уже наезжали гости. Небогатые соседи и соседки, стряпчие и всякого рода люди из Алексина и даже из Калуги и Тулы приезжали прежде всех. Всех равно мило и любезно бабушка приветствовала. Потом докладывали, что собралась дворня. Бабушка брала меня за руку и выходила в переднюю.
– Много лет здравствовать! Матушка, барыня, дай вам Бог всякого счастия! – шел гул в передней и далее в коридор и буфет.
– Благодарствуйте, – отвечала бабушка, кланяясь на все стороны; ближайшие и следственно самые главные и старшие слуги целовали у ней руку. – Вот и мою внучку поздравьте. Привел мне Бог опять увидеть у меня в доме детей и внуков.
– Слава Богу, матушка, слава Богу! А внучка-то ваша, Любовь Григорьевна, уж почитай невеста, говорит старик Федор.
– Ну где еще, – отвечала бабушка, наши времена другие. Ей еще учиться надо, 15 лет ей только что минуло. Вот, годов через 5 увидим. Да я не доживу.
– И, что вы это! Сто лет вам жить по вашей добродетели, по вашей доброте.
– Спасибо, – говорила бабушка. – Ну, зайдите к Анне Федоровне, она вас угостит чаем и чем Бог послал.
И вся дворня валила к Анне Федоровне – экономке, лицу почетному, загадочному и чудному. В будни она постоянно лежала на перине, на площадке внутренней лестницы и курила короткую трубку. В праздник она слезала с своей площадки и садилась на диван. Подле нее всегда визжала, лаяла и старалась укусить всякого проходящего маленькая болонка, красноглазая и красноносая, по имени Нарциска.
Приняв и отпустив дворню, бабушка шла мимо своей спальни и вдруг, как-бы невзначай, останавливалась.
– Люба, говорила она.
– Что прикажете, бабушка, – говорила я.
– Поди ко мне.
Мы входили в спальню. На моей памяти эта самая остановка у дверей спальни, и это самое восклицание: Люба, повторялись всякой год в ее именины в один и тот же час, в продолжении лет десяти, и должны были повторяться столько лет, сколько прожила бабушка. В спальне, на столе, обыкновенно стояла шкатулка; бабушка шарила в кармане[2]2
Карманы глубокие и широкие носили тогда старушки в своей нижней юбке, и для того, чтобы достать из него что-либо, должны были поднимать верхнюю юбку. Оттого при гостях, при семействе, из кармана достать что-либо было неудобно, и надо было выйти в другую комнату для такой операции.
[Закрыть], гремела ключами и вытаскивала крупную связку, отпирала шкатулку и вынимала три какие-нибудь вещицы. Она клала их передо мною и говорила:
– Выбирай, моя именинница, любую. Одна тебе, одна твоей меньшой сестре, одна моей другой внучке, Любе.
У бабушки была другая замужняя дочь, которая в ту пору жила далеко, ибо муж ее находился на службе за Уралом. У ней было много детей, а старшая дочь называлась, как я, Любой.
– Я не смею выбирать, подарите мне, что вам угодно.
– Я не знаю, что тебе нравится больше.
– То нравится, что вы сами выберете.
Можно подумать, что это происходили китайские церемонии. А между тем, напротив, то были не церемонии, а деликатность и сердечность отношений. Бабушку и меня связывала нежнейшая любовь, и конечно та вещь была мне дороже всех, которую бы она дала мне своею рукою.
Но бабушка настаивала, и я должна была выбирать. Я робко указывала на вещицу, бабушка брала ее и вручала мне. В те ее именины, о которых я рассказываю, она не предложила мне нескольких вещей на выбор, а вынула из шкатулки небольшое жемчужное ожерелье, с фермуаром из аметиста, осыпанным розами, замечательно тонкой работы, и надела его мне на шею. В восторге от нечаянного, прелестного подарка, пылая лицом, вышла я из спальни рука об руку с бабушкой, а мне на встречу попалась тетя Наталья Дмитриевна, и надела мне на руку кольцо с яхонтами и двумя бриллиантами, а там за нею тетя Саша и подарила другое колечко с алмазом. Я себя не помнила от радости, и мы все вошли в диванную. Там на столе уже приготовлены были подарки для самой бабушки. И батюшка, и матушка, и дочери, и отсутствующая дочь Катерина Дмитриевна, и домашние, и соседи, всякий сделал или прислал ей свое маленькое приношение. Я вышила ей подушку, и эту подушку взяла бабушка бережно и положила на свой диван. Матушка, усмотрев на мне жемчуг, сказала бабушке:
– Ах, маменька, как вы ее балуете! Она еще девочка, что ее рядить в жемчуги, учиться ей надо.
– Мне жить не долго, – ответила бабушка, – дай мне повеселить внучку. Молода-то она, молода, а глядь через пару годов под венец везти надо.
– Что вы это, маменька, я и слышать не хочу отдавать ее замуж спозаранку.
– И я слышать не хочу, – шепчу я, прижимаясь головою к коленям бабушки, ибо я сижу у ног ее, на чугунной скамеечке, покрытой красным сафьяном.
Она гладит меня задумчиво по голове и говорит тихо:
– Да, теперь времена другие, а меня отдали замуж 15-ти лет.
Все молчат. Молчит матушка, молчат тети, молчит батюшка. Все знают, что не легка была жизнь бабушки, хотя она была красавица, скромница и доброты ангельской. Вздыхает бабушка глубоким, но тихим вздохом, и в этом вздохе мне слышится что-то неведомое, таинственное и даже страшное. Сердце чует, что не всегда живется так на свете, как живется мне теперь в семье, в холе, в любви и мире!..
Но не время задумываться. К крыльцу катят кибитки, одноколки, кареты, брички, и наполняется большой Щегловский дом. Сама губернаторша приезжает, приезжает и жена предводителя с красавицей дочкой, приезжает и полковник, командир полка, который стоит в Мещовске, и обед обильный, хотя и незатейливый, оглашается полковой музыкой. Это сюрприз полкового командира. После обеда все разъезжаются, оставляя нас довольными и утомленными. Разговоров хватает на две недели, и воспоминаний – на целые месяцы.
Незаметно подходит осень, начинаются туманные и пасмурные дни, дождь моросит, и нельзя сказать, чтобы было особенно весело. Тетушки прилежнее прежнего нижут бисер, бабушка берет эти нитки, нанизанные по узору, и вяжет кошельки. Работают молча. Иногда бабушка скажет:
– Сашенька, поди-ка сюда, ряд не выходит: ошибка.
Тетя Саша подходит к матери, считает и говорит:
– Да, ошибка, но это ничего – лишняя бисеринка. Я ее сейчас расколю.
Она берет большую булавку, вкалывает ее и бисеринка лопается.
– А вот беда, когда одной бисеринкой меньше. Тогда весь ряд перенизывать надо.
Опять молчание, покуда тетя Саша не встанет.
– Ты куда? спрашивает тетушка Наталья Дмитриевна.
– Я, сестрица, в оранжерейку. Моя Mimi (тетина любимая канарейка) верно уже скучает. Пора ее выпустить.
И тетя Саша возвращается с канарейкой на плече, которая чирикает, и скоро задает крути по всей комнате, к общему удовольствию, и наконец садится бабушке на чепчик. Милая наша старушка улыбается. Через час Mimi уносят в ее комнатку.
– Вы слышали, маменька, о новой штуке Филата, – говорит тетушка Наталья Дмитриевна.
– Что такое? спрашивает бабушка, затыкая свой тамбурный крючок в складки своего белого чепца.
– Вообразите себе, привез он из Вологодской губернии провизию Пелагее Евсеевне и сдает ее, а вместе с провизией два десятка кур. Считает она кур. Он из сеней несет одну, показывает ее хвостом и считает: серенькая, раз. Потом несет будто другую, кажет головкой: пестренькая, два. Потом несет еще, кажет брюшком: беленькая, три. Таким-то манером насчитал он ей два десятка кур, взял их, запер в чулан и уехал, а хватились посмотреть, что же вы думаете? Вместо двух десятков кур всего-навсего оказалось полдюжины. Вот так мошенник!
– Конечно, мошенник, да и она-то порядочная простофиля. Как же это не видать, что одну и ту же курицу ей кажут и хвостом, и головой, и брюшком? Малое дитя и то догадается.
– Ну нет, не говорите, – возражает тетушка Наталья Дмитриевна, – теперь-то вам вдомёк, а пожалуй он и вас бы на эту штуку поддел.
– Меня бы непременно обманул, – говорит простодушно тетя Саша.
– Да тебя немудрено, ты что еще смыслишь, ты девушка молодая, ни к чему не приучена, знай, чай кушай, да нижи кошелек, – говорит тетушка, глядя с любовию на младшую сестру.
Меня однако удивляло, что сама тетя Саша считает себя только что не ребенком и без согласия сестры не выходит гулять даже в сад. Ее первое и последнее слово, всегда одно: «а вот что скажет сестрица», или: «как решит сестрица».
– От Волчененовой есть ответ? – спрашивает бабушка после некоторого молчания.
– Нет еще; да какое же может быть сомнение. Это чистое благодеяние. Один сын больной, другой горбатый, четыре дочери и 6 душ крестьян, чем жить, кормиться, не говоря уже о воспитании дочерей.
– Только не было бы хлопот да неприятностей.
– Какие же? Я беру дочку старшую на свое попечение, буду одевать, буду ее учить грамоте, закону Божьему, арифметике, всяким рукоделиям, словом, выучим ее, чему можно и нужно, а там как Бог даст.
– А я буду радехонька давать ей уроки, – говорит тетя Саша с удовольствием.
– Где тебе, ты устанешь.
– Право нет, нет, сестрица.
– Ну хорошо, хорошо, увидим.
Опять молчание.
– Что ж вы примолкли, девочки? – говорит бабушка, обращаясь к игравшим около лежанки внучкам, – чай, уж Аркадские яблочки поспели, маленькие, беленькие, хорошенькие такие. Пойдите к садовнику Спиридону, попросите, чай, собраны. Эй! Федосья, приготовь детям сливок и сахару, они принесут яблоков из саду, накроши их в сливки, посыпь сахаром, и пусть кушают на здоровье.
Суетится Федосья, калмычка, добрая и безобразная, с которою всякой год мы меримся, кто и сколько до нее не дорос, и кто ее перерос. И все мы, кроме сестрицы Нади, переросли уж ее, к великому нашему торжеству и ее добродушному удовольствию. Суетится Федосья, а мы бежим в сад, но Спиридон не скоро отыскивается, он ушел к себе. Мы распоряжаемся решительно, меньшие дети влезают в маленькое и тесное окно избушки, выстроенное посреди куртины для хранения яблок, разобранных тщательно по полкам и по сортам. Братья родные и двоюродные и девочки сгребают яблоки в шапки, сыплют их как попало, хохочут, передают их нам в окно. Внутри темной избушки хохот, грохот и говор: яблоки катятся с полки на полку и, как град, падают на пол. Наконец, натешившись вдоволь, все дети вылезают оттуда и мчатся с добычей домой. Радость несказанная охватила нас, и веселье наше безмерно. В довершение всего на дороге стоит, окаменев на месте, Спиридон, шедший не торопясь с ключами из избушки. При виде яблок он всплескивает руками.
– Деточки! Барышни, – вопит он отчаянно, – что ж вы это? Ах! Батюшки светы! Проказники! Не дождались-таки! На полках яблоки по сортам лежат, счетом лежат, а вы что? Перепутали, помяли, чай, разбросали. Греховодники, право! Вот вам крест, бабушке пожалуюсь!
Но мы уж далеко, несемся, как вихрь, по холодному воздуху в широкие темные покои и смеемся при одной мысли, что на нас Спиридон будет жаловаться бабушке. Мы уж обступили Федосью, которая у лежанки приготовила миски со сливками, и смотрим, как она крошит белые яблоки в желтые сливки и посыпает их сахаром.
Вдруг в дверях вырастает худая и высокая фигура Спиридона. Он стоит молча, заложив руки за спину.
– Что такое? Что тебе? – говорит бабушка своим обычным добрым голосом.
– Воля ваша, матушка Любовь Петровна. От внучков ваших житья нет.
Бабушка глядит удивленно. Спиридон продолжает:
– Месяц тому назад, не хотел я беспокоить вас, скрыл; они, внучки ваши, вбежали в грунт, да не через двери, а прямо в сети, и совсем изорвали; не то что чинить, а почитай, новые плести надо. А теперь влезли в сторожку, и опять не дверью, а в окно.
– Да ведь это не окно, а, почитай, отдушина.
– Отдушина, матушка, отдушина, они в нее-то и влезли, и, полагать надо, попадали, потому все полки перед отдушиной чисты. Яблоки валяются на полу, много их помято, раздавлено – в темноте они возились, а с других полок яблоки взяты без порядку, и все сорта перемешаны. Барское ли это дело? И теперь все надо сызнова устраивать, укладывать…
– Хорошо, ступай себе, Спиридон. Этого вперед не будет.
Спиридон поклонился и вышел.
Бабушка обратилась к нам (а мы стояли все около миски яблоков и сливок смущенные и пристыженные). Голос ее звучал серьезно, и лицо ее было недовольное.
– Дети, – сказала она, – это нехорошо, очень нехорошо. Человек трудится, работает, а вы от безделия и шаловливо его работу портите. Непохвально. Я от вас этого не чаяла. Люба, поди сюда.
Я подошла, сгорая от стыда.
– Тебе сколько лет?
Я молчала.
– Ты уже не маленькая. Тебе 15 минуло, а ты ребенок, как все они. – Бабушка показала на внуков и детей племянниц. – Ты не понимаешь, что это не только непригоже в твои лета, но даже дурно не уважать труды людские. Что об вас слуги думать будут, говорить будут? Барчата-де, куролесы!
– Маменька, – вступилась Наталья Дмитриевна, – ведь это детская шалость, а вы так гневаетесь; посмотрите – на Любе лица нет.
– Шалость, да не хорошая. Беспорядка я не люблю, а пуще всего не люблю, когда работой люди брезгают или ее уничтожают из глупого легкомыслия. Слушайте, дети, чтобы этого в другой раз не было.
Все мы примолкли. Я целый день молча просидела у ног бабушки, а эта шалость наша осталась неизгладимой в моей памяти – она была последняя. Ею распростилась я с моим детством.

IV

В ту осень, о которой я рассказываю, батюшка должен был по делам хозяйства ехать в свое орловское имение, а матушка, не желая переезжать в Москву без него, решила остаться у своей матери в Щегловке до его возвращения, которое предполагалось не ближе первого зимнего пути. Наша и в особенности моя радость, что мы остаемся у бабушки, была беспредельна. Мы все перецеловались и только что не расплакались. Однако осень глухая, холодная не позволяла пользоваться сельскими удовольствиями, и матушка поговаривала серьезно о более последовательных занятиях, чем уроки французского языка с m-lle Rosine, которая мало-помалу больше справляла должность приживалки у тетушек, чем гувернантки у нас. Я начинала скучать. На дворе грязь, в аллеях такая слякоть, что башмаки увязают в рыхлую почву; все поприпряталось. Ни журавлей, ни кур, ни павлинов; листья упали желтые и мертвые на холодную мокрую землю. Моросит мелкий дождик, кажется, ему и конца не будет, не будет и конца низанью бисера, которым заняты тетушки, не будет конца вязанью бабушки. Все приумолкло, приутихло. Соседи наезжают реже, да и те, которые приезжают, прискучили мне. Разговоры их однообразны. Я их уж наизусть знаю, так что могу вперед сказать, что кто скажет. Вечера наступили длинные, предлинные; чем коротать их? Тетушка на длинных спицах начала мне косынку, но эти длинные спицы и сама эта пунцовая косынка наводят на меня еще большую скуку.
Однажды вечером к бабушкиной племяннице, Ольге Афанасьевне, которая жила как-то особняком в семействе, привезли с почты объявление.
– Что такое, Оленька? – спросила бабушка.
– Брат мой Ильюша прислал новые книги из Москвы.
– Как вы оба много денег тратите на книги, – заметила Наталья Дмитриевна.
– Много, сестрица, но это мое лучшее, скажу, единственное удовольствие.
Вечером тетя Оленька сидит за книгами в углу гостиной. Смуглое, пресмуглое лицо ее склонилось над развернутой книгой, и длинные, черные, глянцевитые, как атлас, букли ее окаймляют его. Черные ее глаза как-то хорошо светятся и блестят.
– Тетя Оля, – подлетаю я к ней.
– Что, Люба?
– Вы что делаете?
Оля улыбается.
– Видишь, читаю.
– Вижу я, что вы читаете?
– Прелестную книжку. Хочешь, я с тобою почитаю.
– Очень была бы рада, но смерть боюсь скучных книг.
– Да разве есть скучные книги?
– Есть, тетя, почти все скучные. Вот мне приказали читать письма г-жи Севинье. Страсть скучно. Я даже не знаю, про что она пишет.
– Французской истории не знаешь?
– Нет, знаю, да у нее не французская история, а, Бог весть, что. Говорит она о каких-то людях, и ничего забавного или интересного нет.
– Не одна Севинье на свете. Ты что еще читала?
– «Историю аббата Милота», страсть как скучно; а то еще: «Музеум для детей» – сперва было приятно, а потом прискучило три раза перечитывать. А то вот «История Карла XII» Вольтера – ну и это не то что бы весело.
– Ну почитаем вместе, кое-что другое, – говорит тетя Оля, – и мы читаем с ней вместе трагедию Озерова: «Дмитрий Донской». Я слушаю с восхищением и многое выучиваю наизусть. Как мне кажется чудно, хорошо и занимательно, что Дмитрий Донской является сам, говорит сам от себя, будто он жив еще и передо мною, воочию происходит всё то, что тогда случилось. Бабушка, заметив мои восторги и мои слезы, шарит в своих больших, глубоких карманах, гремит ключами и, отвязав один ключ, дает мне.
– Люба, возьми это от шкапа с книгами – тот, что стоит в моей спальне с медными четыреугольниками и зеленой тафтой, знаешь? Там множество книг, все книги твоей матери. Она была охотница читать сызмала. Читай и ты, – умница будешь.
– Маменька, – заметила тетушка Наталья Дмитриевна, которая любила ставить свое veto, – не молода ли она? Может ли она читать все ваши книги.
– От чего? у нас дурных книг нет. Мать ее все их читала до замужества, отчего же ей не читать? Разве все вы не читали их?
– Я кое-что читала, но там есть романы…
– Что ж такое? Все вы хорошие женщины, и никому книги вреда не принесли. Пусть читает.
Я целую ручку у бабушки и в тот же день разбираю шкаф с книгами. Ну, скажу я, такого удовольствия, такого наслаждения не испытать никому во веки. У вас теперь и книжки, и иллюстрации – читай не хочу, а у нас грешных в те поры, когда заведется книжка, так и то в роде истории аббата Милота, либо Precis de l’histoire ancienne, от которой со скуки заснешь да и будешь спать двое суток непробудно, либо всякую охоту к чтению отобьет навсегда. Нас морили мором в те поры над грамматиками, спряжениями, хронологией, над первыми правилами арифметики, над дробями и хриями, и называли это учением и образованием, ну а между уроками почитать занимательную книгу, да не тяжеловесную – это нет!.. Откуда ее достанешь, да и кто доставать ее будет? Выучили урок наизусть – поняли ли, нет ли, ладно, возьми чулок, да свяжи рядов 15, а связала, поди сделай задачу арифметики столбцов в десять, а ошиблась цифрою – сотрут все, считай снова. Не мало детских слез лилось тогда на грифельные доски и толстые грамматики. Вот и поймите, каково было мое счастие, когда, отерев слои пыли и выложив множество книг на пол, я начала перелистывать их, и что строчку ни прочтешь, то любопытство возрастает. Одна книга занимательнее другой. Богатство несметное лежало на полу, и, как Крез, я не могла надивиться, налюбоваться ему. Тут были розовые тоненькие книжки «Вестника Европы», повести Карамзина и Письма русского путешественника, его же; тут было путешествие в Японию и плен там Головина, анекдоты о Петре Великом, прелестные, простодушные и сердечные романы Августа Лафонтена, перевод с немецкого; один из них остался до сих пор в моей памяти: «Елисавета, дочь полковника»; а уж что лучше всего, все, все, какие есть трагедии Озерова, Княжнина, Сумарокова, комедии фон-Визина, романы и пасторали Геснера и Флориана, также как и похождения Дон-Кихота Ламанчского, «Освобожденный Ерусалим» Тасса, и Илиада Гомера по-французски. Да всего и не перечтешь, кажется. И однако я читала, читала без устали, перечитывала со слезами умиления и восторженным упоением. И какие это были хорошие слезы, сердце смягчающие и просветляющие ум. Многое поняла я, многое сильно почувствовала. Поняла прелесть любви семейной, сладость согласной жизни, дружбу, высоту любви к отечеству, величие героизма, самоотвержения и преданности – словом, великость души человеческой, когда она подвизается в высших сферах духовной жизни; я сознала силы, вложенные провидением в душу человека, и измерила, что дух совершить может. Я вдруг стала взрослой девушкой. Бессознательное житье кончалось, начиналась иная жизнь в мире фантазии. Идиллия детства окончилась, и я достигла таким образом 17 лет. Двери жизни, уже не книжной, распахнулись передо мною, но распахнулись не радостно, так как в это самое время семейная жизнь наша омрачилась. Разница мнений, всегда существовавшая между батюшкой и матушкой, сказывалась все резче и резче, и несогласие их росло. Поводом к этому служили в особенности мы, дети их. Старшему брату моему минуло 18 лет, и матушка желала, чтобы он вступил в министерство иностранных дел, а отец мой и слышать о том не хотел.
– Жить в чужих краях, – говорил он, – отвыкнуть от своей земли и семьи, заразиться пороками и в особенности безверием иностранцев, погубить свою душу – нет, я и слышать о том не хочу.
– Куда же ты хочешь определить его? – спрашивала матушка.
– Мало ли куда. Если бы он не был ленив и беспечен, то мог бы служить по духовному ведомству.
– Ну так, с попами!
– Один из моих дядей был прокурором святейшего синода, собрал множество любопытных рукописей, старинных документов, полезный и почтенный труд… Но наш Сергей к этому не способен. Он склонен к телесным упражнениям. Пусть идет в военную службу.
– Ни за что! восклицала матушка.
– Варвара Дмитриевна, – возражал батюшка, – а когда он называл ее по имени и отчеству, мы все знали, что он очень раздражен, – вспомни, что когда он был ребенком, ты всегда говаривала о военной для него службе.
– Да тогда – это как-то казалось далеко, да и времена не были такие смутные. Теперь все войны, того и гляди грянет опять война. Я умру с горя, зная, что он на войне.
– Нельзя же его держать у своей юбки, как дочь. Он – не баба.
– Слышать не хочу, – говорила матушка.
Батюшка махал рукою и выходил из комнаты. Брат всегда молчал и оставался, по-видимому, безучастным. Он не смел сказать своего мнения, а старался уйти и, оседлав лошадь, уезжал в поле. Он был лихой ездок, ловкий и красивый всадник. Его веселость, кротость нрава и доброта закупали всех в семействе, кроме батюшки, который относился к нему холодно. Именно эти свойства его характера не были ему симпатичны, а его недостатки он конечно преувеличивал.
– Баба! – говаривал он часто об нем, – оскорбляя этим словом матушку.
Не меньше неудовольствий возникало между ними по поводу моих предполагаемых матерью выездов в свет. Тогда устраивался в Москве большой карусель, который затеяла графиня Орлова, искусная наездница, единственная дочь графа Алексея Григорьевича Орлова. Он принимал в своем большом доме – дворце, рядом с Нескучным садом, и все московское общество считало за честь бывать на его балах, приемах и праздниках. Батюшка не хотел слышать искать с ним знакомства и на все просьбы матушки отвечал:
– Я человек пожилой, поздно мне заискивать знакомства вельмож. Спина моя и смолоду не гнулась, а под старость стала еще прямее.
– Зачем спину гнуть – просто познакомься.
– Мне граф Орлов не ровня.
– Что ж ты, мелкопоместный?
– Нет. Но всяк сверчок знай свой шесток. Я столбовой дворянин, а он вельможа. Искать в нем не хочу. Беды большой в том не вижу, что Люба не будет скакать на лошадях в каруселях и на паркетах в экоссезах.
– Загубить ее молодые годы, оставить ее старою девицей?
– Зачем же. Найдется хороший человек – женится, а не найдется, на то воля Божия.
– Так запри уж ее в терем.
– Пустое говоришь ты. Запирать не зачем, а напоказ выставлять, суетой всякой голову ее набивать, да с зари до зари мыкаться по приемам и праздникам не мое дело, да и не мое желание. Я тебе не мешаю. Делай, как знаешь.
– Что же я буду, жена без мужа, выезжать одна – все засмеют.
– Как знаешь.
И отец опять уходил, прекращая тем всякие прения. Матушка плакала или вздыхала и целый день была не в духе. Между ею и батюшкой установилось мало-помалу отчуждение, холодность отношений, нам всем весьма прискорбная. Матушка сделалась раздражительна, батюшка суров и мрачен. Я сносила это печальное положение, делая вид, что ничего не замечаю. По целым часам сидела я молча, раздумывая, и пришла к заключению, что, любя их обоих, помочь не могу ни тому, ни другому. Из мира семейных несогласий уходила я с наслаждением в мир фантазии. Я жила в нем, окруженная героями и героинями. Прекрасная Ксения, нежная Антигона:








