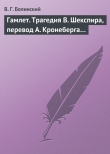Текст книги "Белинский"
Автор книги: Евгения Филатова
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Глава VI. Теория познания
В философии Белинского значительное место занимают гносеологические проблемы, при решении которых ярко проявилась диалектичность его мышления. Он и сам говорил, что диалектика – «средство дойти до знания истины» (3, 8, 507). Достижения Белинского в области гносеологии относятся к 40-м годам.
В первых работах критик, как уже отмечалось, отводил решающую роль в познании бессознательному художественному творчеству. В дальнейшем Белинский посвящает теории познания статью «Опыт системы нравственной философии А. Дроздова», относящуюся к осени 1836 г. Статья эта написана в последовательно идеалистическом направлении. Отмечая, что «есть два способа исследования истины: a priori и a posteriori, то есть из чистого разума и из опыта» (3, 2, 239), Белинский далее излагает сущность рационализма и эмпиризма. Уже в самом этом изложении он подчеркивает свое отрицательное отношение к эмпиризму, говоря, что для его защитников разум есть «поденщик, раб мертвой действительности, принимающий от нее законы и изменяющийся по ее прихоти…» (3, 2, 239). Эту же мысль он развивает в одном из писем. «Опыт, – говорит Белинский, – ведет не к истине, а к заблуждению, потому что факты разнообразны до бесконечности и противоречивы до такой степени, что истину, выведенную из одного факта, можно тотчас же пришибить другим фактом; найти же внутреннюю связь и единство в этом разнообразии и противоречии фактов можно только в духе человеческом, следовательно, философия, основанная на опыте, есть нелепость» (3, 11, 152).
Но уже в ранний период творчества Белинский начинает осознавать недостаточность, односторонность рационализма и постепенно отходит от чисто умозрительного направления. Он заявляет, что ненавидит отвлеченную, оторванную от жизни мысль, что он по природе своей враждебен такому мышлению (см. 3, 11, 245). Бакунину он пишет, что тому «помогает уловить истину» отвлеченная логика, а ему, Белинскому, открывает ее жизнь. «Что ж мне делать, – спрашивает критик, – когда для меня истина существует не в знании, не в науке, а в жизни?» (3, 11, 271). «Есть для меня всегда будет выше знаю» (3, 11, 318), – развивает он эту же мысль.
Подчеркивая коренное различие своих гносеологических взглядов и взглядов Бакунина, Белинский заявляет: «…ты в жизни рационалист, – я эмпирик» (3, 11, 272). Но Белинский предупреждает, что его «эмпирический опыт… не совсем эмпирический» (3, 11, 315). Он протестует против обвинения его Бакуниным, будто он отказался от отвлеченного мышления в процессе познания.
Белинский приближается к правильному решению вопроса о рационализме и эмпиризме в 1843 г. в своей статье «Сочинения Державина». Он характеризует рационализм и эмпиризм как «односторонности, равно чуждые истины», и видит истину «в свободном примирении обеих этих крайностей» (3, 6, 588). Говоря о задачах исторической науки в работе «История Малороссии», относящейся к тому же периоду, критик пишет, что историку надо с честью пройти между двумя крайностями: «…между опасностию затеряться и запутаться в многосложности событий и, за их частностию, потерять их диалектическую связь между собою, их отношение к целому и общему (идее), и между опасностию произвольно натянуть события на какую-нибудь любимую идею, заставив их лжесвидетельствовать в пользу или односторонней, или и вовсе ложной доктрины» (3, 7, 53).
Еще более определенно Белинский высказывается о рационализме и эмпиризме в последние годы своей жизни. Он осуждает отвлеченные теории, априорные построения, игнорирующие факты, а еще больше – такие теоретические построения, которые насилуют факты для оправдания той или иной точки зрения. Критик указывает, что такие теории гораздо ниже и бесполезнее простого знакомства с фактами; в современную эпоху они с каждым днем теряют свой кредит и уступают место в науке направлению, основанному на знании фактов. Вместе с тем Белинский отмечает, что и одно знание фактов без философского взгляда на них таит в себе опасность затеряться в частностях, тогда как задача науки состоит в том, чтобы проникнуть в суть вещей, найти в них общее, открыть законы их развития. Так Белинский, перейдя к материализму, отвергает крайности рационализма и эмпиризма и ратует за сочетание в процессе познания опыта и умозрения.
Как же представляет себе Белинский процесс познания? Он считает, что познание начинается с ощущений, которые он понимает материалистически. «Каждый человек, – говорит критик, – начинает с того, что непосредственно поражает его ум формою, краскою, звуком; а природа полна форм, красок, звуков» (3, 6, 13). Мысль, по мнению Белинского, рождается из ощущений. Он солидаризируется с положением Локка: «Ничего не может быть в уме, чего не было в чувстве» (3, 8, 510), расходясь с гегелевской формулировкой: «…ничего не может быть в уме, чего не было бы в чувстве, кроме самого ума». Отвергая добавление Гегеля «кроме самого ума», Белинский пишет: «Но эта прибавка едва ли не подозрительна, как порождение трансцендентального идеализма. Человек не прямо же, не чистым мышлением дошел до сознания, что у него есть ум, а заметил это прежде всего из собственных действий, в которых отразился его ум, но которые он опять-таки только через чувства сознал своим умом» (3, 10, 145). При этом критик добавляет, что даже самые отвлеченные представления являются результатом деятельности мозга.
Интересно отметить, что, характеризуя возникновение мысли из ощущений, критик обращается к произведениям Лермонтова, читая которые, «кажется, сопутствуешь духом таинству мысли, рождающейся из ощущения, как рождается бабочка из некрасивой личинки» (3, 5, 452). Белинский считает, что ощущение «есть только приготовление к духовной жизни» (3, 7, 166), но еще не духовная жизнь, которую он определяет как чувство, имеющее в основе своей мысль. Сознание человека Белинский рассматривает как единство мысли и чувства. Он пишет: «В мысли без чувства и в чувстве без мысли виден только порыв к сознанию, половина сознания, но еще не сознание: это машина, кое-как действующая половиною своих колес, и потому действующая слабо и неверно» (3, 8, 278). Критик ставит мысль выше чувства, однако только тогда, когда чувство является непосредственным, когда оно еще не имеет в своей основе мысль. Подчеркивая свою веру в силу разума, Белинский и чувству отводит не менее важную роль в познании, утверждая, что без него «разум есть ложь», более того, «разум есть сознавшее себя чувство» (3, 4, 237). Он считает, что разум и чувство «родственны, односущны» друг другу (см. 3, 5, 220) и оба имеют решающее значение в познании.
В 1841 г. Белинский анализирует сущность представлений и понятий, подчеркивая различия между ними. В трактовке этих категорий видно влияние как диалектики, так и идеализма Гегеля. Подобно немецкому философу, критик ставит представление ниже понятия и считает его простой эмпирической формой, не охватывающей главного – перехода от одного явления к другому. Понятие Белинский называет философской мыслью, или идеей. Он рассматривает его как нечто живое, способное к органическому развитию и заключающее в себе две стороны, которые представляют собой единство противоположностей и борются друг с другом. Каждая из этих сторон имеет свою долю истины и свою долю лжи, а искомая истина заключается в их примирении, в их слиянии, результатом чего становится новое понятие. Здесь Белинский рассуждает почти по Гегелю, рассматривавшему понятие как движение, как «переход» на основе единства и борьбы противоположностей. Но если для Гегеля исследование процесса движения понятий было преобладающей задачей, то для Белинского главным было установление их связи с жизнью.
Останавливаясь на различных методах познания, Белинский характеризует аналитический метод и отмечает его большое значение. Он говорит, что для познания истины необходимо «разъединение идеи от формы, разложение элементов, образующих собою данную истину или данное явление. Это действие разума отнюдь не отвратительный анатомический процесс, разрушающий прекрасное явление для того, чтобы определить его значение. Разум разрушает явление для того, чтобы оживить его для себя в новой красоте и в новой жизни… От процесса разлагающего разума умирают только такие явления, в которых разум не находит ничего своего и объявляет их только эмпирически существующими, но не действительными» (3, 6, 270). Здесь форма идеалистична, но за ней скрывается правильная мысль о том, что путем анализа мышление не отходит от истины, а приближается к ней. отделяя ее от лжи и глубже проникая в суть явления.
На основе идеалистической диалектики Белинский разбирает и вопрос об абстракции как методе научного познания. «До постижения идеи, – говорит он, – мы доходим искусственным путем отвлечения: следовательно, идея сама по себе есть только одна сторона предмета, искусственно отделяемая нами от живой всецелости предмета, для того чтоб нам можно было отрешиться от непосредственного, эмпирического способа понимать этот предмет» (3, 6, 582). Но критик знает, что познание не может закончиться абстракцией. Еще в одном из писем Бакунину он писал, что знание всякой действительности, чтобы быть истинным, должно быть конкретным. Он и к понятию конкретного подходит диалектически и определяет его как единство всех сторон, всех элементов предмета.
Какую роль в теории познания Белинский отводит практике? Вся его философия пронизана идеей о единстве теории и практики. Он не рассматривает практику как материально-производственную деятельность людей, но он видит в ней форму общественной деятельности. Он приближается к пониманию, что наука, теория возникает и развивается на основе практических потребностей людей.
В своей ранней статье «Опыт системы нравственной философии А. Дроздова», в которой он превозносит априорное познание и отрицает значение эмпирического, критик пытается вместе с тем поставить вопрос об опыте, т. е. о совокупности фактов как о критерии истины. Он высказывает мысль о возможности «поверки умозрения опытом». «Если умозрение верно, то опыт непременно должен подтверждать его в приложении… Если факты поняты верно, они непременно должны подтверждать умозрение…» (3, 2, 243). Однако этот правильный тезис обосновывается критиком в чисто идеалистическом духе: он утверждает, что само «опытное знание» есть умозрительное, что факт имеет значение не сам по себе, а по тому понятию, которое мы к нему прилагаем. В более зрелых своих произведениях Белинский говорит о единстве теории и практики в процессе познания, причем первенствующую роль отводит практике. «Так как человек не только существует, но еще и мыслит, то всякий предмет, в отношении к нему, существует не только практически, но и теоретически, и человек только тогда вполне владеет предметом, когда схватывает его с этих обеих сторон. Но одно практическое обладание предметом еще значит что-нибудь, тогда как одно Теоретическое ровно ничего не значит» (3, 7, 391–392). Белинский называет ложным и пустым все, что «не подходит под мерку практического применения» (3, 7, 389). «Дело – в деле» (3, 7, 392), – заявляет он.
Белинский критикует современную ему философию за отрыв от жизни, от практики. Он ставит вопрос о необходимости при решении социологических проблем учитывать активное воздействие человека на природу (см. 3, 3, 197; 6, 274–275). Создавая революционно-демократическую эстетику, Белинский основой ее провозглашает художественную практику, считая, что эстетическая теория должна не учить художников творчеству, а выводить законы изящного из уже существующего искусства. Все это говорит о том, что Белинский видел огромную роль практики в процессе познания, но все же в его гносеологии практика так и не заняла нужного места ни как основа познания, ни как критерий истины.
Белинский на всех этапах своего развития безоговорочно признавал познаваемость мира. Осуждая агностицизм, он писал: «Величайшая слабость ума заключается в недоверчивости к силам ума» (3, 8, 274). Он утверждал, что «скептицизм отчаивается в истине и не ищет ее» (3, 6, 269). Критик считал, что существует и объективная и абсолютная истина. Истина, говорил он, есть «общее, необходимое, вечное» (3, 5, 231). Белинский подходил и к этой проблеме как диалектик. Наряду с абсолютной он признавал и относительную истину, считая, что условное и относительное составляют форму безусловного (см. 3, 7, 431). Заявляя, что все на свете относительно, он ставит риторический вопрос: «Как, – скажут нам, – истина и добродетель – понятия относительные?» – «Нет, – дает ответ Белинский, – как понятие, как мысль они безусловны и вечны; но как осуществление, как факт они относительны. Идея истины и добра признавалась всеми народами, во все века; но что непреложная истина, что добро для одного народа или века, то часто бывает ложью и злом для другого народа, в другой век» (3, 10, 23). Поэтому, делает вывод критик, не сомневаясь в существовании истины вообще, можно сомневаться в тех или иных истинах: «…истины преходящи, но истина вечна!» (3, 6, 473).
Подобно Гегелю, Белинский считает, что истина не рождается готовой, что она представляет собой процесс (см. 3, 8, 318). Он объясняет это тем, что мысль человеческая не в состоянии охватить всю абсолютную истину; поэтому, открывая часть ее, человек понимает, что не все еще познал, и стремится к новым открытиям. Белинский высмеивает те «робкие умы», которые верят только в абстрактную истину, раз навсегда данную и неизменяемую, возникающую совсем готовой, как «Паллада из головы Зевса». «По недостатку исторического такта, – говорит критик, – эти умы не могут понять, что истина развивается исторически, что она сеется, поливается потом и потом жнется, молотится и веется и что много шелухи должно отвеять, чтобы добраться до зерен» (3, 8, 318). Исторический характер истины Белинский показывает на примере немецкой классической философии. Он указывает на последовательную смену учений Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, каждый из которых не доказывал бесплодность труда своего предшественника, а использовал этот труд как основание своей философии или плодотворный элемент, вошедший в нее. В результате этого мышление в Германии сделало огромный шаг вперед (см. 3, 8, 318).
Вопрос об абсолютной и относительной истине Белинский разрешает, рассматривая его не только в историческом, но и в социальном аспекте. Он указывает, что любой, даже великий, человек представляет собой существо ограниченное в смысле своих возможностей: будучи проницательным в одном, он часто не способен понимать другое. По-иному обстоит дело в человеческом обществе: «Ограничен разум человека, но зато безграничен разум человеческий, то есть разум человечества… В процессе общечеловеческой жизни все ложное и ограниченное каждого человека улетучивается, не оставляя по себе следа, а все истинное и разумное дает плод сторицею» (3, 8, 274). Познание человечеством истины критик представляет себе как непрерывный процесс, совершающийся по восходящей линии. В отличие от Гегеля, полагавшего, что процесс познания завершается достижением абсолютной истины, Белинский считал этот процесс бесконечным.
Познание, по Белинскому, – это борьба противоположностей: истины и заблуждения. Историческое развитие истины есть ее победа над ложью, над заблуждением. Поэтому, говорит Белинский, нельзя жить старыми преданиями, противоположными «новым истинам, открытым наукою, выработавшимся из исторических движений» (3, 6, 285). Здесь он явно намекает на господство в России старых «истин» крепостнической идеологии, опровергаемых и наукой, и «историческими движениями», т. е. объективным ходом вещей.
Развивая свои мысли о борьбе истины с ложью, с «заблуждениями эпохи», Белинский подчеркивает необходимость выявления зла, его обнародования. «Ложь гораздо опаснее и страшнее, когда существует невидимкою и призраком: чтобы уничтожить ее, должно не мешать ей дойти до своей последней крайности, впасть в нелепость, сделаться смешною… Когда преследуешь зло, надо видеть его перед собою, чтобы можно было показать его и другим» (3, 5, 305).
Имея в виду прежде всего крепостническую и славянофильскую идеологии, Белинский выступает с резкой критикой догматизма. Он противопоставляет догматику ученого, который страстно ищет истину, «тревожимый внутренними вопросами, мучимый страшными сомнениями» и готовый всегда признать свои ошибки, если он допустит их в этих поисках. «Только тот не ошибался в истине, – говорит критик, – кто не искал истины, и только тот не изменял своих убеждений, в ком нет потребности и жажды убеждений» (3, 7, 106).
Серьезный вклад в теорию познания представляют идеи Белинского о познавательной роли искусства. В этом вопросе тесно переплетаются между собой теория познания и эстетика великого критика. В познании мира Белинский отводит искусству и литературе огромное место. В ранний период своего творчества он предполагал, как уже отмечалось, что литература в этом отношении имеет даже примущества перед наукой, которая будто бы может только анализировать явления, тогда как литература способна к синтезу. В дальнейшем Белинский отказался от этой ошибочной точки зрения, но до конца жизни считал, что в познании мира искусство играет огромную роль, что оно представляет собой особую форму познания истины.
Он неоднократно указывал на общность науки и литературы, заключающуюся в стремлении к истине. На первый взгляд иногда кажется, что Белинский отождествлял содержание литературы и науки. Он высказывался в этом духе неоднократно, заявляя, что наука и искусство отличаются друг от друга только формой, в которой выражается одно и то же содержание. Для искусства характерна образная форма, а для науки – понятия и силлогизмы. В своей работе «Сочинения Державина» Белинский утверждает, что «со стороны содержания поэтическое произведение – то же самое, что и философский трактат», что «в этом отношении нет никакой разницы между поэзиею и мышлением» (3, 6, 591). Но философия действует прямо через разум и на разум, чувство и фантазия играют здесь лишь вспомогательную роль, в поэзии же, напротив, фантазия является главной действующей силой. «Поэзия рассуждает и мыслит – это правда, ибо ее содержание есть так же истина, как и содержание мышления; но поэзия рассуждает и мыслит образами и картинами, а не силлогизмами и дилеммами» (3, 6, 591). В одном из своих последних произведений – «Взгляд на русскую литературу 1847 года» – Белинский развивает эту мысль еще более определенно. «Видят, – пишет он, – что искусство и наука не одно и то же, а не видят, что их различие вовсе не в содержании, а только в способе обработывать данное содержание. Философ говорит силлогизмами, поэт – образами и картинами, а говорят оба они одно и то же… Один доказывает, другой показывает, и оба убеждают, только один логическими доводами, другой – картинами» (3, 10, 311).
Казалось бы, вопрос ясен: Белинский отождествляет содержание науки и искусства. Однако в действительности это не совсем так. Прежде всего надо учесть, что, сближая таким образом науку и искусство, Белинский имеет в виду не точные, а только гуманитарные науки: философию, историю, политическую экономию, на что он указывает сам. Кроме того, возникает вопрос: что подразумевает критик под общим содержанием науки и искусства? Если внимательно проследить его высказывания на эту тему, то можно убедиться, что речь идет не о конкретном содержании, а о самых общих понятиях, прежде всего об истине. «Содержание науки и литературы одно и то же – истина…» (3, 9, 157). Эту мысль он повторяет неоднократно, заменяя иногда понятие истины другими общими понятиями – бытие, действительность.
Сближая содержание науки и искусства в таком общем, отвлеченном плане, Белинский совершенно прав. Ему это сближение потребовалось для того, чтобы подчеркнуть право поэта на мышление. Критик напоминает, что было время, когда общее мнение отнимало у поэта ум, а у философа сердце. «Поэзия считалась откровением каких-то исступленных вдохновений, а поэтическое произведение – чем-то вроде изречений Пифии, в судорогах кривляющейся на священном треножнике» (3, 7, 49). Отвергая такой подход к художественному творчеству, Белинский заявляет, что «поэт нашего времени есть в то же время и мыслитель» (3, 7, 50), и называет «Фауста» и «Прометея» Гёте философской поэзией, «Дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви мышление сделалось теперь жизнию всякой истинной поэзии» (3, 7, 344), – утверждает критик.
Это не значит, однако, что Белинский считает тождественным конкретное содержание научных исследований и художественного творчества. Что, по мнению критика, может быть предметом поэтического произведения? Он утверждает, что поэт совершенно свободен в выборе этого предмета, что для него тут нет ограничений. «Всякая поэзия должна быть выражением жизни, в обширном значении этого слова, обнимающего собой весь мир, физический и нравственный» (3, 7, 319). Любые явления, по мнению Белинского, могут быть предметом поэтического изображения. Он ссылается при этом на Пушкина, на его удивительную способность делать поэтическими самые прозаические вещи. Пушкин, говорит он, брал первый попавшийся ему под руку предмет, «и все у него являлось поэтическим» (3, 7, 337).
Углубляя свое понимание содержания искусства, критик говорит, что оно не допускает идей отвлеченных, и тем более рассудочных, а берет лишь идеи поэтические. Первые являются плодом ума, мысли, вторые – не только мысли, но и любви, страсти, пафоса (см. 3, 7, 311–312), а также художественной интуиции. В научном познании главную роль играет мысль, в поэтическом – чувство. А это значит, что наука и искусство, даже познавая один и тот же предмет, рассматривают его под разным углом зрения. Искусство отражает действительность через духовный мир человека, что не присуще науке. Следовательно, их содержание различно. Белинский не формулирует это положение, но такой вывод логически следует из основных суждений критика об искусстве и его познавательной роли. Белинский наглядно показывает особое содержание художественных произведений, открытие ими таких «тайн» жизни, которые не могут быть познаны ни непосредственным восприятием, ни наукой.
Особенно большое значение, по мнению Белинского, поэзия имеет для познания внутреннего мира человека. «Для искусства нет более благородного и высокого предмета, как человек» (3, 5, 303). Критик видит великое значение искусства в том, что «поэт освещает пламенником своей фантазии все сердечные изгибы своих героев, все тайные причины их действий…» (3, 10, 42). Раскрытие внутренней жизни человека, по мнению Белинского, является особенно трудной задачей, которая решается именно искусством. Эта задача трудна потому, что «непостижимо сердце человеческое»; «сердце наше – вечная тайна для нас самих» (3, 7, 349). Вот эти-то тайны и открывают великие поэты: сколько обнаженных тайн человеческой природы у «глубокого сердцеведа» Шекспира, у Пушкина, побуждающего нас «вдумываться… в тайное святилище собственной души» (3, 5, 535), у Гоголя, заставившего своих персонажей открыть «такие сокровенные изгибы их натур, в которых они не сознались бы сами себе под страхом смертной казни» (3, 6, 428). Белинский напоминает о многочисленных, невыразимых без творческой силы поэзии чувствах, которые благодаря ей «выпархивают на свет», становятся достоянием не одного, а многих людей.
Что же, по мнению критика, необходимо для художника, чтобы превратить свои произведения в мощное средство познания действительности? Прежде всего изображение ее такой, какая она есть. «Только жалкие писаки подбеливают и подрумянивают жизнь… Истина выше всего» (3, 6, 35). Однако это не значит, что художественные произведения должны быть простой копией явлений жизни. «Списывают с природы не живописцы, а маляры, и их списки – чем вернее, тем безжизненнее для всякого, кому неизвестен подлинник» (3, 5, 567). Истинно художественные творения, говорит Белинский, точнее отображают жизнь, чем зеркало. В них действительность больше походит на действительность, чем она походит сама на себя (см. 3, 3, 460). Так на портрете, сделанном великим живописцем, человек особенно похож на самого себя, «ибо великий живописец резкими чертами вывел наружу все, что таится внутри того человека и что, может быть составляет тайну для самого этого человека» (3, 6, 526–527). Чтобы образно показать эту могучую познавательную силу искусства, Белинский говорит, что оно воспроизводит жизнь, как выпуклое стекло. Это является следствием того, что художник, изображая предмет, не только воспроизводит его как явление, но и раскрывает его сущность. Так, определив роль искусства в познании мира, критик исходит из диалектики философских категорий сущности и явления.
Но что такое сущность факта, по мнению Белинского? Критик говорит, что она заключается не в самом частном факте, а в его общем значении. Когда поэт озаряет факт «светом общего значения», тогда он открывает его сущность. Следовательно, не только наука, но и искусство в процессе познания в частном выявляет общее. Белинский утверждает, что «в поэтическом произведении устраняется все случайное и постороннее, а представляется одно необходимое и знаменательное…» (3, 7, 54).
Однако выявление общего в частном происходит в искусстве по-иному, чем в науке. Характерным для него является выражение общего в частном путем создания типических образов. Типизация связана с тем, что поэт берет самые характерные черты описываемых им лиц, а все случайное опускает. Эстетическая категория типического представляет собой одну из форм философских категорий единичного и общего. «В типе, – пишет Белинский, – заключается торжество органического слияния двух крайностей – общего и особного» (3, 5, 318–319). Критик сравнивает отношение типических образов к явлениям действительности с отношением родов к видам и говорит, что эти образы, при всей своей индивидуальности, заключают в себе общие родовые черты. Поэтому каждое лицо в художественном произведении есть представитель бесчисленного множества лиц одного рода. Особенно удачным критик считает тип Хлестакова из «Ревизора». При этом Белинский показывает более широкое и важное значение типизации; типичное – это обобщение не только человеческих характеров, но и общественных явлений. Белинский заявляет, что Хлестаков – это «общая идея, обособившаяся в художественно созданном лице, это лицо и вместе – идея…» (3, 5, 319). Критик имеет здесь в виду в первую очередь хлестаковщину, пронизавшую собой жизнь николаевской России. Ведь и Герцен писал, что Хлестаков – это «вечный тип… повторяющийся от волостного писаря до царя» (18, 2, 267).
По мнению Белинского, в художественном произведении отражается личность самого художника. Он называет это субъективным началом в поэзии, без которого нет истинного искусства. К такому мнению критик пришел не сразу. В первые два периода своего творчества он требовал от художника полного беспристрастия и видел в этом беспристрастии один из главных признаков таланта. Но с начала 40-х годов он резко изменил свой подход к этому вопросу. В своей рецензии на «Мертвые души» он заявил, что видит их величайшее достоинство в том, что в них ощутимо проступает субъективность автора. «Здесь мы разумеем не ту субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, искажает объективную действительность изображаемых поэтом предметов; но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая в художнике обнаруживает человека с горячим сердцем, симпатичною душою и духовно-личною самостию, – ту субъективность, которая не допускает его с апатическим равнодушием быть чуждым миру, им рисуемому, но заставляет его проводить через свою душу живу явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать душу живу» (3, 6, 217–218).
В дальнейшем Белинский дает еще более глубокое толкование субъективности. Он доказывает, что художник не может не отразиться в своем произведении как человек, как характер, как натура, следовательно, как определенная личность. Даже если поэт имеет способность изображать явления без всякого отношения к самому себе, то это тоже есть выражение его натуры, но эта способность не безгранична. В качестве примера критик приводит Шекспира, кажущегося равнодушным к изображаемому им миру, но не избежавшего того, что его личность просвечивает сквозь его творения. Углубляя понятие субъективности в искусстве, Белинский доказывает, что через отражение личности в художественном произведении отражается также дух народа и эпохи, так как всякий художник – гражданин своей страны и сын своего времени.
Теория познания Белинского, в которой ярко проявился его диалектический метод и постепенно побеждали материалистические тенденции, является одним из важных завоеваний его философской мысли.