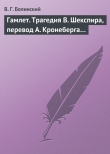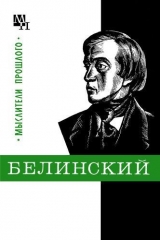
Текст книги "Белинский"
Автор книги: Евгения Филатова
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Размышляя над проблемой развития всего сущего, Белинский приходит к выводу, что оно совершается «по законам необходимости». Он считает, что ей подчиняется не только природа, но и общество. «Возникновение и падение царств и народов не случайно, а внутренно необходимо» (3, 3, 414). Русский мыслитель рассматривает необходимость как существующую независимо от воли людей. С этих позиций он критикует французских энциклопедистов XVIII в., их философию просветительства, их убеждение, будто «мнения правят миром» (см. 3, 11, 326, 332–333). Он отвергает субъективный метод, доказывая, что он не может служить основой научных теорий. «Субъективность… в сфере знания превратится в ограниченность и произвольность понятий» (3, 3, 339). Критик иронически называет субъективистов «маленькими великими людьми», которые «таращатся выполнить свою случайную волю» (3, 3, 393). Высмеивая их пренебрежение к объективному ходу вещей, он говорит, что, по их мнению, «напрасно солнце ни раза не взошло вечером и не скрылось утром, ни раза не вышло с запада и не закатилось на востоке» (3, 3, 393).
Белинский считает несостоятельными современные ему утопические теории. Он доказывает, что нельзя искусственно создать новое общество, как нельзя сочинить язык. «Начиная от времен, о которых мы знаем только из истории, до нашего времени не было и нет ни одного народа, составившегося и образовавшегося по взаимному сознательному условию известного числа людей, изъявивших желание войти в его состав, или по мысли одного какого-нибудь, хотя бы и гениального человека» (3, 3, 328).
Борьба против субъективизма, признание объективной необходимости в развитии мира были большими достижениями не только в философских поисках самого Белинского, но и в общем развитии русской прогрессивной философии. В значительной мере тут сказалось влияние Гегеля. Заслугой Белинского в понимании великого немецкого философа было то, что он сумел в гегелевской диалектике увидеть главное – учение о саморазвитии, о внутренне необходимом движении. В. И. Ленин указывает, что именно в этом заключается суть диалектики Гегеля. «Эту суть надо было открыть, понять, hinuberretten[7]7
Спасти.
[Закрыть], вылущить, очистить, что и сделали Маркс и Энгельс» (2, 29, 127). Белинский не мог «очистить» суть диалектики Гегеля – это осуществили лишь основоположники марксизма. Но он сумел понять, что эта суть заключается именно в идее самодвижения.
Однако в этот период Белинский не связал еще эту идею с учением о единстве и борьбе противоположностей. Хотя у него были суждения на эту тему, но он еще не видел в единстве и борьбе противоположностей источник самодвижения. В этом отношении он пока еще отставал от Гегеля.
Вместе с тем русский мыслитель делает первые шаги, еще им самим не осознанные, к тому, чтобы в гегелевской идее универсального саморазвития центр тяжести из духовной сферы перенести в реальный мир.
Гегель не только в логике, посвященной абсолютизированному процессу мышления, но и в философии природы, и в философии духа, анализирующей преимущественно вопросы общественной жизни, трактует развитие мира как движение понятий. И хотя он, по определению Ленина, в диалектике понятий гениально угадывает диалектику вещей (см. 2, 29, 178–179), все же его универсальное саморазвитие подчинено его логической схеме. Он не всегда считается с эмпирическими фактами развития природы и общества. Маркс как-то сказал о нем: «В философии истории Гегеля, как и в его натурфилософии, сын порождает мать, дух – природу, христианская религия – язычество, результат – начало» (1, 2, 185). Для Белинского же, несмотря на провозглашение им первичности идеи, главное – факты реальной жизни, действительная история, действительная современность. Он сам видит это только еще намечающееся расхождение с Гегелем и заявляет, что он не является учеником немецкого философа в полном смысле этого слова. Он пишет Бакунину в октябре 1838 г.: «Глубоко уважаю Гегеля и его философию, но это мне не мешает думать… что еще не все приговоры во имя ее неприкосновенно святы и непреложны» (3, 11, 313).
Реалистический подход Белинского к действительности и расхождение его с Гегелем в этот период ярче всего проявляются в эстетике. «Когда дело идет об искусстве… я смел и дерзок, – заявляет он, – и моя смелость и дерзость в этом отношении простираются до того, что и авторитет самого Гегеля им не предел» (3, 11, 313). Хотя у Белинского встречаются суждения об искусстве в соответствии с учением Гегеля как об осуществлении божественной идеи (см. 3, 3, 399), все же он все больше и больше толкует его как «зеркало жизни». «Искусство есть воспроизведение действительности» (3, 3, 415), – говорит критик.
Выдвижение на первый план вместо отвлеченного мышления реалистического начала привело Белинского к расхождению с некоторыми русскими последователями Гегеля. Наиболее ярким примером этого является его полемика с Бакуниным. Последний тоже был тогда объективным идеалистом и даже раньше Белинского пришел к «примирению с действительностью». По видимости их объединяла общая точка зрения; на самом же Деле между ними были принципиальные расхождения в понимании действительности.
Расхождение друзей-противников ярко проявилось в их более чем двухлетней переписке (с лета 1837 до весны 1840 г.) (см. 8). Признавая способности Бакунина в области спекулятивного мышления, Белинский вместе с тем называл его «абстрактным героем» (3, 11, 385, 541) и указывал на его «добровольное отторжение от живой действительности в пользу отвлеченной мысли» (3, 11, 289). Характеризуя метод Бакунина как «фантастический скачок через действительность», критик обращал его внимание на необходимость связи с живой жизнью, «такта действительности». Он писал, что истина существует для него не в науке, а в жизни. Бакунин раньше Белинского начал отходить от «примирительных» настроений, чему способствовал, по свидетельству Герцена, его «революционный такт». Несмотря на это, идейные расхождения между Белинским и Бакуниным привели к разрыву их отношений на ряд лет. Уже после отъезда Бакунина в Германию, узнав о его участии там в революционном движении, критик признался, что напрасно подозревал своего друга в «сухости и мертвенности натуры» (3, 12, 120). Однако в дальнейшем, уже в конце жизни Белинского, их новая, более глубокая дискуссия подтвердила, что Белинский был прав, упрекая Бакунина в неумении отражать в теории действительную жизнь. Полемика 30-х годов имела и другое значение: она показала отход Белинского от гегелевского понимания действительности.
В период «примирения» наряду с достижениями в области философии у Белинского были и серьезные недостатки. Они вытекали из его главной методологической ошибки – из игнорирования момента отрицания. Правильное суждение критика о развитии по законам необходимости всего сущего, включая и общественную жизнь, переросло в абсолютизирование этой необходимости, в отрицание активной роли людей в историческом процессе. В результате Белинский пришел к ошибочному выводу о бесцельности, бессмысленности борьбы против существовавших общественных отношений, более того – к осуждению революций.
Исключение отрицания из процесса общественного развития отразилось и на эстетической теории Белинского в этот период. Он выдвинул идею «объективного искусства», т. е. такого искусства, в котором «автор не вносит ничего своего – ни понятий, ни чувств» (3, 3, 11). Считая, что нельзя «требовать от искусства споспешествования общественным целям» (3, 3, 397), что «поэзия… сама себе цель» (3, 3, 431), критик отверг «всякое судопроизводство со стороны поэта» (3, 3, 442). Такая точка зрения привела Белинского к серьезным ошибкам в литературной критике. В этот период он осудил творения ранее так любимого им Шиллера «за абстрактный героизм, за прекраснодушную войну с действительностью» (3, 11, 385). Тогда же он выступил с резкой критикой стихотворений Полежаева за активное авторское отношение к изображаемому, утверждая, будто такое отношение – «смерть поэзии» (3, 3, 25). Белинский отрицательно отнесся к комедии «Горе от ума» за то, что Грибоедов в ней «не возвысился до спокойного и объективного созерцания жизни» (3, 3, 485). Однако это не помешало критику уже тогда отнести Грибоедова «к самым могучим проявлениям русского духа» (3, 3, 485).
В дальнейшем Белинский отказался и от отрицательных оценок этих литературных произведений, и от своей теории «объективного искусства».
Итак, период «примирения с действительностью», несмотря на ряд серьезных ошибок и заблуждений, был для Белинского периодом больших философских исканий и находок. Его мысль работала в том же направлении, что и передовая мысль других стран, откликаясь одновременно на специфические потребности русской действительности. Плеханов был глубоко прав, когда указывал на заслугу Белинского, отвергнувшего в этот период веру просветителей во всесилие человеческого разума, в «абстрактный идеал», оторванный от действительности, и вставшего на точку зрения развития, объективного хода вещей (см. 37, 4, 362, 457, 466). Нельзя, однако, согласиться с мнением Плеханова, будто для этого критику необходимо было примириться с действительностью, так как в те годы якобы еще не было объективных предпосылок для ее изменения. На самом деле такие предпосылки в виде глубоких экономических и социальных противоречий уже имели место, и «примирение» критика с существующим положением вещей не было правомерным. Друзья Белинского, осуждая его за «примирительные» настроения, были в общем правы, хотя они и не поняли, что эти настроения были лишь ошибочной формой его глубоких и верных по своему направлению теоретических исканий. Сам же Белинский, отрекшись вскоре от «примирительных» заблуждений, не перечеркнул своих достижений этих лет в области философии.
Глава III. Отказ от «примирения с действительностью» и развитие диалектики
В октябре 1839 г. Белинский переехал в Петербург и стал основным сотрудником журнала «Отечественные записки», издававшегося А. А. Краевским. Критик проработал в этом журнале до апреля 1846 г., превратив «Отечественные записки» в самый передовой орган русской печати.
В первое время сотрудничества в этом журнале Белинский опубликовал в нем статьи, в которых наиболее ярко выразились его «примирительные» настроения. Но вскоре начался новый этап в развитии его мировоззрения (1840–1845 гг.). Белинский осудил свои «примирительные» взгляды, оправдание самодержавия, отрицание революций, свои ошибочные литературные оценки. В письме к Боткину от 4 октября 1840 г. он прямо писал: «Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусною действительностию!» (3, 11, 556).
Чем же объяснить отказ Белинского от «примирительных» настроений? Главную роль тут сыграла сама действительность. Еще в период «примирения» критик неоднократно говорил, что его взгляды формируются под воздействием реальной жизни. Он писал Бакунину в октябре 1838 г.: «…никогда не буду предпочитать конечной логики своей своему бесконечному созерцанию, выводов своей конечной логики бесконечным явлениям действительности» (3, 11, 318). И еще: «…если моя мысль… стукается о факты – я велю ее мальчику выметать вместе с сором» (3, 11, 315). Вот «примирительные» взгляды Белинского и «стукнулись о факты», в особенности в Петербурге, где «гнусная действительность» николаевской эпохи проявляла себя наиболее ярко.
Но дело было не только в самой «гнусной действительности», ведь критик и до этого был знаком с ней достаточно хорошо. Главное влияние на него оказали наметившиеся изменения в общественной жизни страны. В 40-х годах противоречия крепостного хозяйства привели его к кризису. В результате несколько усилились крестьянские волнения. Вновь возродились и распространились среди передовых людей антикрепостнические идеи, казалось, придавленные разгромом движения декабристов. Конечно, и в 40-х годах деспотизм пытался давить все живое, но это ему теперь не всегда удавалось. Герцен говорит об этой эпохе: «…если фасад острога остался тот же, то внутри многое изменилось» (18, 17, 95). Правительство не могло уловить «открытую, огромную конспирацию, проникавшую в душу без присяги… В этой конспирации участвовало все, не только не сговариваясь, но и не подозревая того, – так наливаются в одно и то же время, под влиянием одной и той же атмосферы, не зависимые друг от друга почки, составляющие общий характер весны» (18, 17, 95–97).
Подъем общественного сознания особенно ярко дал себя знать в литературе. Для нее 40-е годы были замечательным десятилетием: вышли в свет «Мертвые души» Гоголя, «Герой нашего времени» и полные гражданского пафоса стихотворения Лермонтова, первые произведения Тургенева, Некрасова, Достоевского, Гончарова. В области русской философии эти годы были ознаменованы появлением работ Герцена «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы». Эти сдвиги в общественном сознании нашли яркое отражение и во взглядах Белинского.
Сыграли тут свою роль и его страстные споры с Герценом и его друзьями, принявшие особенно резкую форму осенью 1839 г. и закончившиеся, как уже отмечалось, разрывом. Надо сказать, что эти споры имели положительное значение для обеих сторон: Белинскому они помогали освободиться от его «примирительных» настроений, а его противникам приняться за серьезное изучение Гегеля и понять детерминированный характер истории. В результате временный разрыв критика с Герценом был ликвидирован.
Герцен так описывает их встречу (вероятно, осенью 1840 г.), приведшую снова к их сближению: «Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я – мы не были большие дипломаты, в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о „бородинской годовщине“. Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне:
– Ну, слава богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать… Ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого, там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться? „Это автор статьи о бородинской годовщине?“ – спросил его на ухо офицер. – „Да“. – „Нет, покорно благодарю“, – сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть, – я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: „Вы благородный человек, я вас уважаю…“ Чего же вам больше?
С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку» (18, 9, 27–28).
На этом новом этапе своего развития Белинский переходит на революционно-демократические позиции. Он готов на борьбу с той самой действительностью, с которой недавно «примирялся». «Не прятаться, а идти навстречу этой гнусной действительности буду я» (3, 11, 483). В этот период Белинский становится убежденным социалистом. Его демократические взгляды сливаются с идеями утопического социализма.
Тогда же происходят существенные изменения и в философских воззрениях Белинского. Отказавшись от «примирения с действительностью», критик пересматривает свое отношение к Гегелю. «Я давно уже подозревал, – пишет он 1 марта 1841 г. Боткину, – что философия Гегеля – только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов ни к […] не годится, что лучше умереть, чем помириться с ними» (3, 12, 22). Белинский видит, что, мирясь «с расейской действительностью», он отдавал дань консервативной системе Гегеля и поэтому, по его собственным словам, имеет «особенно важные причины злиться на него». Он осуждает Гегеля за то, что тот одобрял существовавшие в Германии реакционные порядки, оправдывая «палачей свободы и разума», возводил в идеал прусское правительство, в котором представлены «подлецы, тираны человечества» (см. 3, 12, 24).
Белинский отвергает также систему Гегеля за ее отрыв от практики, за то, что в ней «много кастратского, т. е. созерцательного». Он называет ее книжной философией, знающей только самое себя и равнодушной к миру. «Глупцы врут, говоря, что Гегель превратил жизнь в мертвые схемы; но это правда, что он из явлений жизни сделал тени, сцепившиеся костяными руками и пляшущие на воздухе, над кладбищем» (3, 12, 22). Белинский осуждает немецкого философа за игнорирование интересов живой человеческой личности. Он говорит, что Гегеля интересует только общее, но «это общее является у него в отношении к субъекту Молохом» (3, 12, 22). И критик резко отвергает его консервативную систему, раскланивается, по его выражению, с «философским колпаком» немецкого идеалиста. Страстная тирада Белинского, обращенная к Егору Федоровичу, т. е. к Гегелю, показывает глубокое различие в направленности идей двух мыслителей. «Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лествицы развития, а споткнешься – падай – чорт с тобою – таковский и был сукин сын… Благодарю покорно, Егор Федорыч, – кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лествицы развития, – я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братий по крови, – костей от костей моих и плоти от плоти моея» (3, 12, 22–23).
В отличие от Гегеля, который своей философией хотел объяснить мир, Белинский ищет в философских идеях не только объяснений, но и средств для преобразования крепостнической России.
«Разрыв» критика с Гегелем в первой половине 40-х годов не был полным. После этого «разрыва» он не сразу освобождается от концепции объективного идеализма. Еще некоторое время он продолжает считать абсолютную идею первоосновой бытия. В своей работе «Идея искусства», написанной почти в одно время с тем письмом, в котором он «раскланивается» с Гегелем, Белинский говорит: «Все сущее, все, что есть, все, что называем мы материею и духом, природою, жизнию, человечеством, историею, миром, вселенною, – все это есть мышление, которое само себя мыслит» (3, 4, 586). Подобные высказывания встречаются время от времени в произведениях критика, относящихся к первой половине 40-х годов. Но эта идеалистическая концепция приходит во все большее противоречие с реалистической сущностью философских идей Белинского. Постепенно изменяется толкование критиком термина «абсолютная идея». Она уже фигурирует у него не как синоним «божественной идеи», а как философская категория «общего». Характеризуя в начале 40-х годов понятие «судьба», как его толковали древние греки, Белинский пишет, что оно на нашем языке именуется разумной необходимостью, законами действительности, соотношением между причиной и следствием. По существу «абсолютная идея», «абсолютное мышление» и пр. употребляются критиком в этот период в том же смысле. Недалек тот день, когда он, перейдя уже к материализму, заявит, что абсолютная идея только привычное название закона природы (см. 3, 12, 330).
Так под идеалистической формой у Белинского вопреки Гегелю развиваются материалистические тенденции.
Главное, что критик до конца своих дней продолжает ценить в философии Гегеля, – это его метод. В 1843 г. в работе «История Малороссии» он подчеркивает колоссальное значение метода Гегеля. Он называет его «строгим и глубоким», открывающим «большую дорогу сознанию человеческого разума», избавившим его «от извилистых окольных дорог», на которых сознание человечества так часто «сбивалось с пути».
Отречение от «примирения с действительностью» было необходимой предпосылкой для новых философских исканий и находок русского мыслителя. Самым большим достижением его в этот период является дальнейшая разработка диалектического метода. Белинский вносит ценное положение в саму постановку вопроса о методе. Приближаясь к мысли, что научный метод не может быть произвольным, что он должен отражать объективные закономерности, критик говорит, что мы не должны мерить жизнь «на свой аршин, но у ней же самой должны брать этот аршин» (3, 4, 354).
Признав свои ошибки периода «примирения», Белинский вместе с тем сохраняет и развивает ряд сделанных им тогда выводов, имеющих научное значение. Даже по поводу своей статьи «Очерки Бородинского сражения» он пишет, что ее идея «верна в своих основаниях» (3, 11, 576). Он имеет в виду идею саморазвития и объективной необходимости. Этой идее он и теперь уделяет исключительное внимание. Он разрабатывает ее в своих произведениях «Идея искусства», «Руководство по всеобщей истории. Сочинение Фридриха Лоренца», «Стихотворения Е. Баратынского» и в ряде других.
Критик по-прежнему указывает на огромную заслугу Гегеля в разработке учения о всеобщем развитии. Но вместе с тем он толкует эту проблему по-иному, чем немецкий философ. В отличие от Гегеля, который в своем основном труде «Наука логики» дает детальный анализ развития абсолютной идеи, логически существовавшей будто бы еще до появления мира, Белинский говорит о ней только вскользь и только как о возможности бытия. Дух сам по себе «есть только возможность бытия, но не его действительность; чтобы стать (werden) бытием действительным, он должен был явиться тем, что мы называем миром, и прежде всего стать природою» (3, 4, 588). Итак, у русского мыслителя реальный мир, природа – это действительное бытие, а не «инобытие духа», как у Гегеля. В этом аспекте он и рассматривает развитие мира, хотя и ссылается иногда на абсолютный дух и пр.
Свою теорию развития Белинский обогащает новыми положениями. Он связывает ее с учением о единстве всего существующего. Подобно Гегелю, он понимает единство не как одинаковость явлений, а как их взаимообусловленность и взаимодействие. Но в отличие от Гегеля, для которого единство осуществляется в мышлении, в чисто логическом процессе, Белинский видит в этой категории реальные связи действительного мира. Например, он так представляет себе мироздание: «…нет числа небесным телам, и все они делится на миры, подчиненные один другому, и каждое из них есть часть целого, составляющего как бы живое органическое тело, и находится во взаимном отношении и взаимной зависимости от всякого другого…» (3, 4, 599).
Белинский признает бесконечность мира в пространстве и времени. Нет конца вселенной, утверждает он и добавляет, что «все это пространство без границы, вся эта величина без измерения, все это множество без исчисления» (3, 4, 599) родилось само из себя, заключая в себе и свои законы, на основе которых и происходит развитие. В отличие от Гегеля Белинский считает, что природа развивается не только в пространстве, но и во времени. Он делает этот вывод, опираясь на достижения современных ему естественных наук. «Естествоведение, – говорит он, – есть история творящей природы, повествование о восходящей лествице ее явлений…» (3, 6, 95).
Обращаясь к возникновению и развитию нашей планеты, критик отмечает, что она «образовалась не вдруг, а постепенно, перейдя через множество превращений, претерпев множество переворотов, но так, что всякий последующий переворот был ступенью к ее совершенству» (3, 4, 588). В противоположность Гегелю, отвергавшему эволюционные идеи естествознания, Белинский говорит о возникновении и саморазвитии органического мира, о появлении все новых родов и видов, о соединении «живым звеном» растительного царства с животными, о постепенном переходе от низших организаций к высшим и, наконец, о происхождении человека, которого он называет «венцом природы». Характеризуя возникновение людей как высшую ступень в развитии мира, Белинский вместе с тем отмечает, что человек подчинен общим законам природы, что в человеческом организме совершаются «все стихии природы», все ее процессы (см. 3, 4, 73). Развивая ранее признанную им идею объективной необходимости, господствующей в общественной жизни, Белинский понимает ее теперь как закономерность. Он еще не знает, в чем суть этой закономерности, но он твердо уверен, что в «развитии общественности» господствуют «неизменные», т. е. объективные, законы (см. 3, 8, 277). Он считает, что общество, развиваясь, переходит от низших форм к высшим, сохраняя при этом правильную постепенность, строгую логическую последовательность (см. 3, 4, 589).
Утверждая, что «в природе и в истории владычествует не слепой случай, а строгая, непреложная внутренняя необходимость» (3, 4, 591), критик вместе с тем далек от фатализма. В свое понимание диалектического развития мира Белинский вводит практику, активные действия общественного человека. Он пишет, что «действующие силы природы неизменны», т. е. что человек не может отменять одни из них и вводить другие, но, «сообразуясь с ними и действуя через них же, он изменяет климаты, осушает болота… соединяет разъединенные природою моря, озера и реки… он царь природы, повелевающий ею…» (3, 6, 274–275).
Особенно ценным в философских исканиях Белинского в этот период является связь его учения о развитии с идеей отрицания, которая отсутствовала в его концепции во время «примирения с действительностью». Большой интерес критика к этой проблеме объясняется его переходом на революционно-демократические позиции. Теоретическая разработка проблемы отрицания переплетается у него с поисками путей преобразования России. В письме к Боткину от 3 октября 1840 г., осуждая свою статью о Бородинской годовщине за оправдание русского самодержавия, он выдвигает на первый план «идею отрицания, как исторического права… без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото» (3, 11, 576). «Отрицание – мой бог!» – восклицает он в другом письме (3, 12, 70). Белинский снова придает большое значение борьбе в развитии общества. Но теперь он понимает ее не только как борьбу идей – он признает закономерность и необходимость революций. «Я начинаю любить человечество маратовски», – заявляет он (3, 12, 52).
В одном из своих писем к Боткину Белинский говорит, что смешно думать, будто переход к новому обществу «может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови» (3, 12, 71). Несколько позже он пишет, что новый общественный строй «утвердился на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террористами – обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов» (3, 12, 105). Белинский уже не отрицает активную роль людей в историческом процессе. Свои симпатии он отдает борцам со старыми порядками. «В истории мои герои – разрушители старого – Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон („Каин“) и т. п.» (3, 12, 70).
Придавая огромное значение идее отрицания, Белинский развивает ее на другой философской основе, чем в первый период своих исканий. Предпосылки отрицания он ищет теперь не в абстрактном идеале, а в действительности. Его первые попытки в этой области связаны с разработкой эстетической теории и относятся к концу «примирительного» периода. В своей статье «„Горе от ума“. Сочинение А. С. Грибоедова» (в конце 1839 г.) Белинский заявляет о праве писателя изображать не только положительные, но и отрицательные стороны жизни. Эти отрицательные стороны он называет «призрачностью», или «призрачной действительностью», противопоставляя ей «разумную действительность». К «разумной действительности» он относит все то, «в чем только есть движение, жизнь, любовь», к «призрачной» – «все мертвое, холодное, неразумное, эгоистическое» (3, 3, 438). Главным для него в «разумной действительности» в противовес мертвой «призрачности» является движение, жизнь, т. е. развитие. Первую он толкует как утверждение жизни, а вторую – как отрицание жизни. Уже в некоторых статьях тех лет критик начинает применять понятие призрачности к общественному строю России.
Деление явлений жизни на «разумные» и «призрачные» помогло Белинскому правильнее понять гегелевскую формулу о действительном и разумном. Если в годы «примирения» он понимал под «действительным» все то, что есть, то в новый период своего творчества он дает ему более глубокое толкование. В 1841 г. он пишет: «…что действительно, то разумно, и что разумно, то и действительно: это великая истина; но не все то действительно, что есть в действительности…» (3, 4, 493). По существу критик приходит к мысли, что отжившее, неразвивающееся является неразумным, недействительным и обречено на гибель.
Для Белинского это не только философская абстракция. Он все более и более убеждается в «неразумности», в «недействительности» крепостного строя России, в необходимости его отрицания, уничтожения. Он размышляет над возможностью революционного преобразования страны. Как диалектик, он понимает, что для отрицания существующего строя необходимы объективные предпосылки, что без них революция невозможна. Он с горечью констатирует, что в крепостной России такие предпосылки еще не созрели, и характеризует свою эпоху как переходную. Белинский пишет П. Н. Кудрявцеву: «…я принадлежу к несчастному поколению, на котором отяжелело проклятие времени, дурного времени! Жалки все переходные поколения – они отдуваются не за себя, а за общество» (3, 11, 521). В письме к В. П. Боткину он называет «истинно трагическим» положение современного ему русского общества, «принужденного тернистым путем идти… к очеловечению» (3, 11, 526).
Но вместе с тем критик предвидит, вернее, угадывает, что этот «тернистый путь» ведет к ликвидации крепостничества. Он ищет и находит симптомы его отрицания. Белинский еще не может обосновать это отрицание материалистически, но он вскрывает те сдвиги в общественном сознании, которые предвещают грядущие перемены. В этом отношении особый интерес представляет его работа «Речь о критике А. Никитенко». Белинский констатирует появление «демона сомнения», «духа неуважения», скептицизма по отношению к старым воззрениям. Он пишет: «Во времена переходные, во времена гниения и разложения устаревших стихий общества, когда для людей бывает одно прошедшее, уже отжившее свою жизнь, и еще не наставшее будущее, а настоящего нет, – в такие времена скептицизм овладевает всеми умами, делается болезнью эпохи» (3, 6, 333). Имея в виду прежде всего Россию, Белинский указывает, что такое состояние умов находит яркое отражение в искусстве и в критике. Они определяются духом времени и являются «сознанием эпохи»: искусство есть «сознание непосредственное», а критика – «сознание философское». К последней русский мыслитель относит критику не только искусства и литературы, но и науки, истории, нравственности и пр. Так, Вольтер был критиком феодальной Европы, добавляет Белинский, явно намекая на формирование антикрепостнических идей в России.