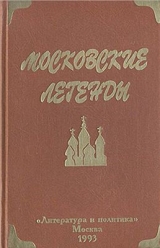
Текст книги "Московские легенды"
Автор книги: Евгений Баранов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Евгений Баранов
Легенды о русских писателях
Брюс, Сухарев и Пушкин
В течение четырех лет (1919–1923 гг.) мне пришлось торговать книгами на многих улицах Москвы, а с весны 1921 г. по декабрь 1923 г. я торговал ими на Арбате, около дома No 26 (бывшего Берга). Тут я познакомился с дворником этого дома Филиппом Яковлевичем Болякиным. Тогда ему было 68 лет, значит, теперь, когда пишутся эти строки (в 1925 г.) ему 72 года. Он высокого роста и, судя по его фигуре, когда-то был крепкого телосложения, теперь одряхлел, стал сутулиться. Родом он из крестьян Тульской губернии, Новосельского уезда, деревни Даниловки.
По отбытии солдатчины он женился, занимался дома крестьянским хозяйством, временами живал в Москве, потом, когда дети подросли, передал им хозяйство и окончательно переселился в нее, нанялся дворником в тот самый дом, в котором я застал его, когда познакомился с ним. В этом доме он работал более двадцати пяти лет и все время, до зимы 1924 г., жил вдвоем со своей женой, которой, когда я узнал ее, было 80 лет. Третьим членом семьи Филиппа Яковлевича был его любимец, большой серый кот Барсик.
За 25 лет работы Филипп Яковлевич нажил немало разной одежды, но его обворовали дочиста в то время, когда он убирал мостовую, а старуха отлучилась из дому.
В первое время моего знакомства с ним наши разговоры вращались большей частью вокруг уборки мостовой. Обыкновенно, покончив с работой, он с метлой или киркой в руке подходил ко мне, тяжело волоча ноги.
– Давай, – устало произносил он.
Это означало, что он хочет покурить. Я доставал из кармана кисет с махоркой, мы скручивали цигарки, закуривали. После двух-трех молчаливых затяжек замешался разговор, и почти всегда начинал его Филипп Яковлевич.
Если дело было зимой, он, посасывая цигарку, принимался не торопясь, медлительно объяснять, как надо закаливать кирку для скалывания толстого, слежавшегося слоя снега, а летом осуждал теперешнюю метлу, которой и на неделю работы не хватает: в три дня так измызгается, что хоть бросай ее и бери новую.
Иногда, глядя на убранную мостовую и любуясь своей работой, он говорил мне:
– Глянь-ка, походил по ней метлой, она и поумнела, а то была, как пьяная баба вся растрепанная.
Иных разговоров у нас почти не было, и я думал, что Филиппу Яковлевичу не о чем больше говорить. Но, оказалось, было о чем.
Раз как-то увидел он у меня выставленную на продажу книжку с портретом Наполеона на обложке, взял ее, медленно пошевелил губами: он немного знает читать (на военной службе выучился) и положил на место.
– Вот, – заговорил он, кивая головой на книжку, – первеющий человек в свете был, а пропал через свою гордость.
И потом, все так же медлительно, все так же посасывая цигарку, стал он рассказывать, как Наполеон, обуянный гордостью, пошел войной на Россию, завладел Москвою и бежал из нее, как он попал в плен и был сослан на остров и как, отправляясь в изгнание, предрек императору Александру Первому гибель дому Романовых, что потом, хотя и через много лет, в точности сбылось.
В другой раз я уже сам завел с ним разговор об очень популярном в народе человеке, сподвижнике Петра Великого, графе Якове Вилимовиче Брюсе, этом, по легендам, удивительном на всем свете ученом и волшебнике. Затеял я такой разговор в надежде услышать от Филиппа Яковлевича что-нибудь новое о Брюсе и тем пополнить свое собрание легенд о нем. И надежда не обманула меня: я услышал от него не только о Брюсе, но и о другом современнике Петра Великого – Сухареве, и, чего я совсем не ожидал, об А. С. Пушкине. Оказывается, по словам рассказчика, все они трое жили в одно время. Легенда так и начинается: «Их было трое: Брюс, Сухарев и Пушкин...»
Рассказывал мне эту легенду Филипп Яковлевич в ноябре 1923 г., а в следующем месяце я принужден был прекратить книжную торговлю и за весь 1924 г. лишь мельком видел Филиппа Яковлевича раза два, а летом 1925 г. пришел к нему расспросить о Пушкине.
За эти полтора года, в которые мы не виделись, умерла его жена, и он, чтобы иметь в доме хозяйку, «расписался» с одной тридцатилетней женщиной, т. е. зарегистрировал у нотариуса свой гражданский брак с ней.
Он еще более одряхлел и память стала изменять ему: меня он называл «Миронычем» вместо «Захарыча», как раньше называл, а на мои расспросы о Пушкине только отмахнулся:
– Что о нем говорить, – возразил он, – Пушкин и есть Пушкин.
А когда я напомнил ему его рассказ о Наполеоне, он удивился:
– Да нешто я рассказал? – возразил он и долго думал, очевидно, припоминая. – Не помню, – промолвил он потом. – Может и говорил, да позабыл.
Разговор у нас не клеился, мы покурили и разошлись. Месяц спустя мы опять встретились, разговорились о прежнем времени, прежней Москве, вспомнили, между прочим, обезьянщиков, т. е. айсаров, болгар и персов, водивших напоказ пляшущих обезьян, и Филипп Яковлевич рассказал любопытную, на мой взгляд, легенду о том, почему было запрещено водить обезьян и медведей. Пользуясь его хорошим настроением, я направил было разговор о Пушкине, но из этого ничего не вышло.
– Что ж Пушкин, – промолвил он. – Был он хороший человек, за что честь и слава ему. – И больше о Пушкине ни слова.
Но все же я узнал, что Филипп Яковлевич ни одного из произведений Пушкина не читал и не слышал, и вообще никаких книг не читал, кроме одной – «Ухарь-купец» [*], которую он очень хвалил.
[*] – Под таким заголовком известно было лубочное издание (Т-ва Сытина) собрания песен и романсов, среди которых было помещено стихотворение Никитина «Ехал из ярмарки ухарь-купец». Положенное на ноты, оно распевалось с эстрад увеселительных садов, ресторанов так называемыми исполнительницами народных песен и, между прочим, одной из них, более талантливой, Плевицкой, удачное исполнение которой много способствовало распространению его в городских низах, где оно было в моде с 1908 по 1914 г., хотя и теперь еще не совсем забыта.
Иx было трое: Брюс, Сухарев и Пушкин.
Брюс на небо летал смотреть, есть ли Бог. Ну, вернулся.
– Есть, – говорит, а сам поскорее к батюшке побежал... – На, говорит, тебе рупь, отслужи молебен.
Ну, а батюшка что ж?.. Рупь – деньги, на тротуаре не подымешь; взял да и отслужил...
И был этот Брюс самый умный: весь свет исходи – умней не найдешь. И знал он волшебство, и дошел до всяких наук. Календари делал... и порошки у него там, составы разные... И мог он обернуться птицей. А жил в Сухаревой башне. Там у него и книги, бумаги, пузырьков наставлено было тьма-тьмущая... и чего-чего только там не было. Понятно, не зря, а все для науки.
А башню эту Сухарев построил... Вот поэтому самому и называется она "Сухарева башня".
А Сухарев этот был купец богатый, мукой торговал. Ну, еще и другие лавки-магазины были... бакалея там, да мало ли каких не было. Одно слово – богач... и тоже парень неглупый был, тоже по науке проходил. Ну, до Брюса-то ему далеко было, и десятой части брюсовской науки не знал. Он, может, и узнал бы, да торговля мешала.
– Ну, хорошо, говорит, положим, ударюсь я в науку, а кто же, говорит, за делом смотреть станет? А на приказчиков, говорит, положиться нельзя: все растащут, разворуют.
Да и правда. Ведь что у нас за народ, я тебе скажу, – анафема, а не народ! Поверь ему – он живо выставит тебя за дверь да еще тебя же и виноватым сделает... Нет, доверяться нашему народу никак нельзя: обманет, а то, еще того хуже, в одной рубашке оставит...
Ну, это одно, а тут еще баба-жена да ребятишки. А при бабе какая наука может быть? Ты, примерно, книгу раскрыл и хочешь узнать чего-либо по науке, а тут жена и застрекочет сорокой: то-се, пятое-десятое... Уж она завсегда найдет, что сказать. Ты нарочито думай – не придумаешь, а она, и не думавши, как примется стрекотать... Уж она трещит-трещит... А ведь все зря, все попусту, лишь бы языку дать работу. Конечно, есть и понимающая, разумная женщина, завсегда уважит мужа. Но ведь мало таких, всего больше – как раскудахчутся, так и жизни не рад станешь...
Ну, тоже и нашего брата похвалить не за что: есть такие соловьи залетные, он тебе напоет такое, что ты уши развесишь, и облупит он тебя, как яичко печеное. Есть такие ловкачи...
Ну, вот и Сухарева такое дело: думал, думал, как быть? И по науке человеку лестно пойти, да и нищим не хочется остаться... Видит – не с руки ему наука, взял, да и построил башню.
– Ты, говорит, Брюс, живи в этой башне, доходи до всего... А чего, говорит, понадобится, скажи, дам.
А чего Брюсу понадобится? Чего нет – сам сделает. Я тебе говорю: на все руки мастер был. Он и золото, и серебро делал. Ну, конечно, не зря, а по малости. А то, пожалуй, наделай много – тут такая бы пошла поножовщина, такое смертоубийство... Смотри, и башню давно бы спалили. Вот он и остерегался. А больше всего испытания делал, над составами работал.
А царь сердится:
– И чего ты, говорит, все мудришь? Что выдумываешь? Забился, говорит, в свою башню и сидит, как филин. Вот, говорит, прикажу подложить под башню двадцать бочонков пороху и взорву тебя. И полетишь, говорит, ты к чертям.
А Брюс говорит:
– Если, говорит, я филин, то пусть буду взаправдашний филин.
И тут обернулся филином. Обернулся, да как закричит: "Пу-гу-у!". Царь испугался и – бежать...
– Тут, говорит, и до греха недалеко.
И не любил царь Брюса.
– И когда, говорит, черти заберут его от меня?
А тронуть Брюса боялся. А не любил вот почему: он хоть и царь был, а по науке ничего не знал. Ну, а народ все больше Брюса одобрял за его волшебство. Ну, царя и брала зависть.
А тут Брюс такой состав сделал: старого человека на молодого переделывать. Вот и говорит слуге своему:
– Брат, изруби ты меня топором на мелкие кусочки. Полей, говорит, сперва из этого пузырька, а потом вот из этого. Хочу, говорит, снова молодым стать, а то мне, говорит, уже девяносто лет...
Ну, слуга изрубил его топором. Полил из одного пузырька – тело срослось. А из другого не стал поливать, взял да и разбил об пол. А сам побежал к царю.
– Брюс, говорит, помер. А царь говорит:
– Помер, и чорт с ним – собаке собачья честь.
А нешто он собака был? Самый ученый человек был, самый умный. Тут царская злоба, зависть... Живому ничего не мог сделать, боялся, так вот дай хоть мертвого облаю... Злоба, конечно.
Ну вот... Ну, похоронили Брюса... И очень народ жалел его. Да что поделаешь? Умер, значит, конец.
А этот подлец, слуга Брюсов, как ни таился, а все же люди узнали про то, как он Брюса погубил. Ну, понятно, не поблагодарили за такое дело: ругали всячески и ребра пересчитали. Да толку-то от этого чуть. А его бы из поганого ружья пристрелить, вот это в самый раз было бы: чего заслужил, того и получай.
Ну, а Пушкин... Пушкин в Москве жил и планы разводил: ведь это он застроил Москву, ведь это он завел порядок.
А ежели бы не Пушкин, была бы не Москва, а чорт знает что... Ведь у нас как? Ты дом построил, ты сад развел. И я дом построил, только у меня он неказист, да и сад не тово, подгулял. Вот меня бес и начинает мутить, зависть разбирает... Вот я возьму, ночью перелезу через забор и спилю твои деревья в саду. И после того пойдет промежду нас грызня: я тебя "подлецом", ты меня – матерными словами... И дойдет дело до драки: один другому рожи исковыряем. А Пушкин это воспрещал... Вот и завел порядок.
Умнейший был господин. И книги тоже писал, все описывал. И чтоб люди жили без свары, без обмана, по-хорошему...
– Вы, говорит, живите для радости.
Да ведь наш народ какой? Окаянный народ. Я мостовую мету, своим делом занимаюсь, а он, шут его знает, кто такой, по тротуару идет и ровно бы ветром его качает... самогону через край хватил. Ну, качался, качался, остановился и давай меня ругать. Уж он конопатил, конопатил... А за что? Я ему не должен, ничего не украл у него, да и вижу-то его впервые...
Ну что ты поделаешь с ним? Драться с дураком не приходится – сам дурак станешь, да и не одолеешь, ведь он какой оглоед – быка за хвост удержит... Поругал-поругал, пошел, закачался... Пьяный, конечно... ну, пьян-пьян, а башкой об стену не стал колотиться. Хам.
Вот Пушкин и правду написал: "На подлеца хоть аполеты надень, а он как был свинья, так и останется свиньей". Что ж, и верно: ты его как ни полируй, а он все такой же хамло будет... Вот Пушкин и хотел, чтобы у нас дружелюбие было, чтобы мы не хватали один другого за горло, чтобы свиной жизни не было. Только у нас дело на свой лад идет, не на пушкинский. Нам бы вот сивухи-матушки через край хлебнуть, да человека матом разутюжить – это так... вот это и есть радость наша. А дружелюбие это... Обманул человека, обработал как нельзя лучше, в одной рубахе оставил – вот и дружелюбие твое.
Пушкин-то хорошо знал обхожденьице наше – какой мы народ... Человек умнейший был, а иначе нешто поставили бы ему памятник?
Им, видишь, всем троим хотели поставить памятники: Брюсу, Сухареву и Пушкину... Это уж после было, при другом царе... Три памятника хотели поставить, да царь воспротивился:
– Брюсу, говорит, не за что: он волшебством занимался и чорту душу продал.
Вот, видишь как человека опорочили.. А ведь напрасно, совсем зря. Чего ему было душу продавать чорту, ежели он наукой дошел? Умный человек и без нечистой силы дойдет. И волшебство он наукой взял.
Да ведь у нас как? Озлился на человека и давай его чернить. Вот и тут так: один царь невзлюбил Брюса, ну, и другие цари той же дорожкой пошли. От дедов-прадедов пошла эта царская злоба... Вот от этого и не приказано было ставить Брюсу памятник.
И Сухареву тоже не приказал царь.
– Какой, говорит, ему памятник надо? Есть Сухарева башня, и довольно с него.
Да и не за что, говорит, ставить ему: он, говорит, мукой торговал, барыши в карман клал.
Ну и клал... А как же иначе? На то ведь и торговля, чтобы барыш был. А станешь торговать без барыша – проторгуешься, в трубу вылетишь. Без барыша нельзя. Ну, а Пушкина все же одобрил.
– Он, говорит, умнейший человек был.
Вот и поставили памятник Пушкину, и стоит... Да ведь наш народ какой? Проклятый народ, с ним не сговоришь. Иной-то тысячу раз прошел мимо памятника, а спроси его: какой был человек Пушкин?
– Не знаю, – говорит.
"Не знаю". Да ведь и я тоже не знал, а как расспросил знающих, и узнал... И вот ты расспроси, послухай, что скажут. И никто тебя за это не оштрафует, и никто не заругает...
– Нам, говорит, это не требуется.
А вам что же требуется? Чужие карманы обчищать да замки сворачивать, а? Поверишь ли? Четырнадцати вершков голенища – сапоги были... елецкие вытяжки, [3] к Пасхе справил... И что ты скажешь? Пришли, свернули замок, все забрали, все унесли. Бекеша на вате была... я бы за нее и пяти червонцев не взял бы... уперли и бекешу. Да мало ли чего не взяли... Валенки старые – и с ними не расстались! Ну, что за народ такой? Им вот про Пушкина знать не требуется, а воровать по квартирам да в карман залезать – это самое любезное дело... Эх, народец!..
Пушкин и Гоголь
Андрей Егорович Колтыхин – крестьянин, вернее был приписан к крестьянскому обществу. Он родился от неизвестных родителей, был вскормлен сначала в Московском Воспитательном доме, потом в семье крестьянина одной из подгородных деревень, бравшего «шпитонцев» (питомцев) этого дома на воспитание. Когда ему было восемь лет, он жил в селе Хотеичево Рязанской губернии (где, по его словам, раньше делали гребешки), потом попал поводырем к слепому старику-нищему, «дедушке Якову Петровичу». С ним он ходил по селам и деревням «по кусочки», то есть собирал милостыню; с ним же он пробрался в Москву. Тут вскорости дедушка помер, а Андрей Егорович остался на улице; тогда ему было десять лет. На улице он провел два года и однажды зимой чуть было не замерз, ночуя в мусорном ящике.
На тринадцатом году его взял в учение к себе сапожник, но Андрей Егорович пробыл у него недолго и сбежал, не выдержав жестоких побоев, и очутился «кухонным мужиком» у немки Луизы Ивановны, содержавшей на Малой Бронной меблированные комнаты со столом. У нее он прожил четыре года и потом вспоминал ее с теплым чувством, как добрую женщину.
В числе жильцов Луизы Ивановны были и студенты. Один из них по окончании курса учения в университете взял Андрея Егоровича к себе на родину, в Новороссийск, в качестве работника.
Андрей Егорович прожил у него только неделю, возненавидев мать студента, почтенную даму в пенсне, за то, что та звала его «Андрэ» и скликала своих любимых кошек, лязгая столовыми ножами один о другой.
– Как скажет она мне это «Андрэ», так вся душа во мне перевернется, а тут еще эти треклятые ножи. Кажется, схватил бы ее за горло, да и удавил бы, – рассказывал он.
Потом ушел на Кубань, батрачил в экономиях «тавричан», выходцев из Таврической губернии, занимавшихся овцеводством, потом скитался по югу России, пил, босячил, работал в Крыму на виноградниках, вернулся в Москву и за продажу поддельных золотых колец попал на три месяца в тюрьму.
Отбывая солдатчину, он принимал участие в Русско-японской войне 1903–1905 гг., был ранен. В мировую войну 1914–1917 гг. был мобилизован и опять ранен в одном из боев на германском фронте. По выздоровлении все время, вплоть до окончания войны, находился в тылу армии.
Зимой 1924 г., когда я познакомился c ним в одной из московских харчевен, он нанимался колоть дрова. Работа случалась не каждый день, и ему приходилось жить впроголодь. В зимние вечера мы подолгу сиживали в харчевне за чаем и беседой.
Поговорить он любил. Рассказывал он больше всего о своих скитаниях, о войне. Как-то раз зашла речь о Пушкине, и он рассказал легенды о нем и о Гоголе. Сам он не читал ни Пушкина, ни Гоголя, хотя и говорил, что когда-то «читал, да все перезабыл».
Говорю: «не читал», потому что он не был знаком ни с «Капитанской дочкой», ни с «Тарасом Бульбой», двумя произведениями, по которым, по моим наблюдениям, читатель из низов начинает знакомиться с Пушкиным и Гоголем. Скажу больше: ему даже названия этих произведений не были известны. Мне думается, что он и читать-то не знал: жизнь его с детства была обставлена такими условиями, при которых ему негде и не у кого было учиться.
Находясь на военной службе, он мог бы немного поучиться грамоте в ротной школе, но я уверен в том, что не научился: ничто в нем не говорило за то, что он был грамотен.
Пушкин только по фамилии русский, а русской крови в нем и капли одной не было: немецкая да арапская кровь была. Его отец из немцев был, а мать – арапка. Отец во дворце находился, при царе служил... Ну, служит и служит, а толку нет: кому чин повысят, кому жалованья прибавят, а его все обходят, он все в стороне.
– Что же это такое? – думает. Вот посмотрел, посмотрел: – А ну, говорит, дай-ка я выкрещусь в русскую веру. Взял да и выкрестился. А царю приятно стало:
– Это, говорит, хорошо, что ты нашу, русскую веру принял. Надо, говорит, чтобы и фамилия твоя была русская. Вот и дал ему фамилию Пушкин, а раньше у него немецкая фамилия была. Вот с той поры он и стал называться Пушкиным.
И тут ему повезло: и деньгами царь его наградил, и чином повысил. А прочих, которые тоже при царе служили, взяла досада, стала их зависть брать... Вот они и давай следить за ним: думают – человек в чем-нибудь ошибется, промашку какую сделает. И принялись подслеживать. А он и взаправду сплоховал...
И дело это произошло через арапку одну. А эта арапка при дворце находилась. Не для дела держали: какое уж от нее дело. А так – при милости, на кухне жар раздувать... Мало ли раньше этих чертей арапов, карликов держали при дворцах. И все только для одного форсу: вот, мол, какой народец у нас имеется.
Ну, эта арапка самая тоже на таком положении находилась. А этот выкрест-немчура был холостой. И зашло ему в голову насчет арапки, интерес его взял: что, мол, за народ такой – арапки. Вот он и давай крутиться вокруг арапки, давай увиваться... Принялся напевать – лишь бы голову задурить.
Ну, крутился-крутился и обставил ее...
Он думал – никто не узнает, все шито-крыто будет. А тут десять, а то и больше шпионов за ним следят. Ну, и накрыли раба Божия. Как накрыли – побежали к царю.
– Так и так: Пушкина с арапкой застали.
А царю досада...
– Это, говорит, что за самовольство такое? – и сейчас этого выкреста за бока...
Ругал, ругал... – Ишь, говорит, что выдумал! Нешто, говорит, я для того арапок завел, чтобы ты с ними разврат производил? Ежели, говорит, сошелся, обвенчайся, а не хочешь – к чортовой матери вон из дворца!
Ну, царя не ослушаешься: хочешь-не хочешь, а венчайся. Вот и обвенчался и стал жить с ней по-настоящему.
Понятно, какое уж там было житье. И в люди показаться с черной сатаной – одна срамота. И грызлись они каждый день, как собаки, и бил он ее здорово. Ну, она-то не сдавалась: живущие они, эти арапки треклятые, и злые, как черти. И она тоже огрызалась хорошо: как схватит каталку, так ему впору бежать.
Ну, однако, как плохо ни жили, а все через девять месяцев она родила. Все так и думали: обязательно она родит арапченка или девочку-арапку, а родила она белого мальчика. И все очень удивлялись.
– Значит, говорят, мужская кровь над женской кровью перевес имеет.
И царь очень доволен остался.
– Это, говорит, похвально, что мужская кровь победила. Определить, говорит, мальчика на казенный счет. Самых лучших учителей к нему приставить – профессоров.
Ну уж, конечно, и папашу не забыл: и чином наградил, и жалованья прибавил. Вот после этого выкрест этот, немчура и заблистал, а то ведь совсем заплевали человека. Вот тебе и сатана черная. Она, эта сатана, после такой срамоты ему возвышение придала.
Ну, отцу хорошо, а сыну нешто плохо? И сыну тоже хорошо было. Как он подрос, стали его учить, а царь только одно и твердит учителям:
– Учите мальчика хорошенько...
А этот мальчик вот какой был: ему только десятый год пошел, а он уж зашагал: всю профессорскую науку одолел, да еще сам стал задавать учителям задачи. Такую задачу задаст, что профессора только рот разинут. Смотрят на него, и только глазами хлоп-хлоп. И так, и сяк – ничего у них не выходит... В своих книгах ищут, ищут – ничего нет подходящего. Что тут делать? Бегут к царю жаловаться на Пушкина... Ну, не жаловаться – какая тут может быть жалоба? А так – пошли доложить насчет учения Пушкина. Вот приходят и говорят:
– Пушкина, говорят, больше нечему учить, он всю нашу науку превзошел.
Царь и удивляется.
– Как же это, говорит, так? Ведь он еще мальчик.
А профессора говорят:
– Это действительно верно, что он мальчик, а только по уму он и большого превышает. У него, говорят, такой талан. Он, говорят, от природы такой умный.
– А-а, – говорит царь, – это дело другого рода, это особая статья, Ну, говорит, ежели он от природы такой, так и отступитесь от него. Пусть, говорит, он один до всего доходит. А то, говорит, вы еще испортите его, разобьете его мысли.
Профессора и отступились: раз приказ царский, тут уже не станешь растабарывать. Вот они и отступились от Пушкина, отошли.
– Ну-ка, думают, как он без нас станет учиться?
А он как пошел, как пошел! Все предметы постиг. Кроме русского, семь языков знал! А как подрос, пошло у него занятие – до всего докапывался, все узнавал... А учителя, эти профессора, только удивляются "Ах-ах!" И опять по книгам шарят: может, что осталось, чего Пушкин не знает... Шарили-шарили – нет ничего, хоть бы какая малость осталась! И все только: "Ах-ах!" А себе в голову того не возьмут, что они от книги берут свою науку, а Пушкин все больше от природы брал. А как он там брал – это его дело. Значит, умел, ежели брал... Ну, конечно, и он по книгам учился, и он в книги вникал – без книг никак нельзя. И сам он чрез книги прославился – мало ли написал сочинений. Через книги и пошла его слава. А иначе кто бы знал про него? Ну, кто и знал бы, а прочие не слыхали бы ничего – какой-такой есть Пушкин. А то по всей России пошла слава.
Ну, однако, какая слава его ни была, а пропал он зря, так – за ничто: через свою жену-потаскушку пропал. Ну, понятно, не бульварная она была, а с жиру бесилась: Пушкин нехорош, дай заведу любовника... Вот и завела: нашелся такой ухарь – полковник Павловского полка. А Пушкин и дознался... Как дознался, сейчас на этого полковника налетел и сорвал с него аполеты. А это дело такое нешуточное. Сейчас докладывают об этом царю. А царь говорит:
– Пушкин – человек вольный [т. е. не военный.], какой с него спрос? А тут, говорит, надо спросить полковника: какое его поведение, ежели у него аполеты обрывают. Ежели, говорит, не оправдается, – вон со службы!
А тут вот какое оправдание: раньше у военных не было того, чтобы по судам таскаться, самих себя срамотить, а так было заведено: я убил тебя из пистолета или там из револьвера – значит, на моей стороне правда, значит я оправлен, а ты виноват. Вот и Пушкин тоже вышел против полковника. Он думал срезать полковника, а только сам свалился: полковник получше его стрелок был. Ну, убил, значит, оправдался, совсем оправился. И не стал царь выгонять его со службы.
Конечно, такое правило тогда было, а если по-настоящему, по совести рассудить, какое тут может быть оправдание? С женой Пушкина жил и Пушкина же убил. Где же тут правда? Понятно, это тогда не разбирали, такое тогда правило было, и все тут. Ну, тоже и Пушкина в этом деле не за что похвалить: он вот у полковника погоны сорвал, а того не разобрал, кто тут виноватее всех. Он думал – полковник тут виноват, а того не взял в разум, что полковник не самовольно пришел к ней – она его позвала. А ежели не позвала бы, как он мог нахалом прийти? Ведь человек не без ума был... а тут от нее магнит был. Она виновата, ее и спрашивай. А то он взялся за полковника. Это не дело... По-настоящему-то дал бы ей хорошую выволочку, так она забыла бы, какие полковники бывают, да и сам бы остался жив... А то пропал зря.
Гоголь тоже башка был, умница. Товарищи с Пушкиным были. Пушкин и часы свои золотые ему на память подарил. Это когда Пушкин умирал, когда полковник поранил его. А Гоголь пришел проведать его. Пушкин говорит:
– Возьми часы, носи да меня вспоминай почаще.
А как умер Пушкин, тут же Гоголь все вызвездил его жене.
– Это, говорит, ты, ведьма, Пушкина уходила. Это, говорит, твоя работа.
А ей крыть нечем, потому что – правда.
Ну, похоронили Пушкина. А Гоголь после того за свое дело принялся. Тоже сочинения писал. Как напишет книгу, начальство и тащит его в тюрьму. А это за то, что он за простой народ стоял, начальство здорово протаскивал. Вот начальство и тащило его...
– Ты, говорят, очень горяч – садись, остынь мало-маленько.
Ну, что тут поделаешь? Вот идет Гоголь в тюрьму на казенные хлеба... Посидит месяца с три, его и выпустят, А он опять за свое возьмется. Как напишет книгу – похлеще первой.
– Вы, говорит, сажайте меня, сколько вам угодно, а я от своего не отстану: как писал, так и буду писать.
А они ему:
– И мы, говорят, от своего не отстанем: как сажали тебя, так и будем сажать.
Возьмут и посадят...
А как отбудет срок – опять писать... А начальство уж знает, какое его занятие.
– Пиши, пиши, говорят, место для тебя найдется – тюрьма еще не сгорела, не
развалилась...
И как напишет – его тащут в тюрьму. А караульные солдаты смеются:
– Опять, говорят, Гоголь к нам в гости пожаловал...
А Гоголю что? Ну, пожаловал и пожаловал, что тут особенного? Ежели бы за воровство, или убил кого, а то ведь за книгу, за правду... Тут греха никакого. Ну, а господам правителям это ни к чему: они этого не разбирали. У них правило такое было, постановление такое. Да и сам в толк возьми; Гоголь их ругает, а они ему награду давай? Дескать, "благодарим тебя, Гоголь, что ты нас подлецами обозвал – на тебе за это золотую медаль"?.. Так не бывает... Ведь не безумные были эти правители. Обругал, ну садись, отсиживай срок. Да и сам Гоголь хорошо понимал это дело: на то и шел человек – знал, какая награда от них полагается... Ну, жил, писал книги, сидел в тюрьме и умер... Своею смертию помер – никто его не убивал.
В московских низах мало кто знаком с жизнью невымышленного Гоголя, по крайней мере, из числа довольно многих своих низовых знакомых я встретил лишь одного человека, который знал подлинную биографию его. Другой рассказчик рассказывал:
– Гоголь тоже, как Максим Горький, был босяком, выпивал здорово, потом остепенился, стал писать сочинения, и тут ему повезла фортуна и пошел он в гору, прославился.
Рассказчик ни одного из сочинений Гоголя не читал, хотя и знает грамоту: «некогда» (сам он по профессии водопроводчик, человек еще не старый). Но в низах Гоголь все же распространен, конечно, настолько, насколько распространена там книга; вернее сказать, распространен не весь Гоголь, а одно из его произведений – «Тарас Бульба», это одно из любимых чтений низов.
Как Пушкин учился в школе
Познакомился я с ним в харчевне, за чайным столом, потом мы не раз встречались там же, разговаривали. Он человек лет пятидесяти, рабочий-каменотесец из крестьян Костромской губернии; работает в Москве давно. Товарищи по работе называли его Василием Прокофьевичем, так и я стал называть его, а фамилию мне как-то не пришлось спросить у нега. Как-то по моему почину разговор у нас зашел о книгах.
Василий Прокофьевич назвал себя «большим любителем интересного чтения», но из прочитанных им книг мог указать только роман «Камо грядеши?», автором которого ошибочно назвал Достоевского (в произношении этой фамилии он делал ударение на первом "о"), затем назвал еще повесть Пушкина «Капитанская дочка», но сам он ее не читал, а слушал, как другие читали.
– Я тогда еще холостой был, – рассказывал он, – работал в артели в Москве. И вот один наш паренек раздобыл эту «Капитанскую дочку» про Емельку Пугачева и стал читать. Он читает, а вся артель слушает. Бывало, придем с работы, надо бы спать ложиться, а мы не спим, слушаем, чем там дело кончится. Да ночей, может, семь слушали. Ну, это, действительно, занимательное чтение было. И ведь вся правда, все с правды списано.
Тоже вот еще «Камо грядеши?» – очень хорошее чтение. Это я уж сам читал. Только не Пушкина сочинение, а Достоевского.
– Сенкевича, – поправил я его.
– Да, это правда, Сенкевича, – сказал он. – А Достоевского я видел у знакомого переплетчика – «Преступление и наказание». Тоже, говорят, хороший роман. Просил почитать – не дал, чужая, говорит.








