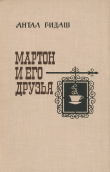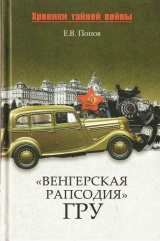
Текст книги "«Венгерская рапсодия» ГРУ"
Автор книги: Евгений Попов
Жанры:
Военная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Встреча на Кузнецком Мосту
Мы встретились с ним перед зданием НКИД, возле памятника Воровскому. У Григорьева было странное имя и отчество – Белорд Янович. Неожиданно для меня он заговорил со мной на чистейшем венгерском языке. Сомневаться не приходилось, венгерский – его родной язык. Я ответил по-венгерски, поняв, что он проверяет, насколько я владею языком, возможно, по просьбе генерала Кузнецова.
Разговаривая, мы прошли с ним по Кузнецкому Мосту, по Рождественке. Я узнал, что до войны Григорьев работал в нашем посольстве в Будапеште, и члены делегации ему хорошо известны. Характеризуя главу делегации, Григорьев сказал, что это опытный, умный офицер-разведчик старой школы. Неплохо знает русский язык, немногословен, обладает своеобразным чувством юмора. Не спешит высказывать свою точку зрения, хотя по обсуждаемым вопросам, как правило, имеет собственное мнение. Несмотря на то что Фараго возглавляет делегацию, следует ожидать, что активную роль в переговорах будет играть Сент-Иваньи. Это карьерный дипломат, имеющий прекрасное образование, большой опыт работы за границей и в центральном аппарате МИД Венгрии. Свободно владеет несколькими иностранными языками. Сент-Иваньи, добавил Григорьев, один из воспитанников бывшего премьера и министра иностранных дел Венгрии Пала Телеки, активный работник «тайной дипломатии», нацеленной на создание благоприятного климата для пересмотра постановлений Трианонского мирного договора. На мой вопрос о том, какую позицию мы занимаем в отношении Трансильвании, Григорьев уклончиво ответил, что Ленин считал Версальский договор несправедливым, грабительским. Это надо иметь в виду, когда речь идет о территориальных претензиях Венгрии.
«Что касается графа Гезы Телеки, – сказал Григорьев, – то это, скорее всего, второстепенная фигура. Своим участием в составе делегации он, по-видимому, обязан своему имени. Его отец – граф Пал Телеки, бывший премьер-министр Венгрии, вы, наверное знаете, покончил жизнь самоубийством, протестуя против немецкого диктата. Сын бывшего премьера должен, по-видимому, придать делегации определенную антинацистскую окраску».
Не скрою, на меня произвела глубокое впечатление эрудированность Григорьева (позднее я узнал, что его настоящая фамилия – Гейгер). Отец его был венгерским интернационалистом. Григорьев работал в третьем европейском отделе НКИД в качестве главного специалиста по Венгрии. Просматривая позже архивные материалы МИДа, я обнаружил обстоятельную справку по Трансильвании, подготовленную Григорьевым. На полях первого листа справки заместитель наркома иностранных дел Деканозов написал: «Показать всем начальникам отделов. Вот как нужно отрабатывать документы дипломатической службы!» К сожалению, столь удачно начавшаяся карьера Гейгера после войны сложилась не так, как он наверняка заслуживал. Он был уволен из дипломатического ведомства и перешел на работу в качестве преподавателя в школу.
Утром следующего дня я приехал на дачу в Серебряный Бор. Члены делегации уже позавтракали. Я привез свежие газеты, перевел им сводку Совинформбюро. Кратко изложил основные сообщения. До обеда не планировалось никаких встреч, и я предложил прогуляться по Серебряному Бору. Это предложение гости приняли с энтузиазмом. Стояла пасмурная, но безветренная погода, падали редкие снежинки. Фараго и Сент-Иваньи немного отстали, а мы с графом Телеки шли впереди. Из разговоров с Телеки и генералом Фараго можно было сделать однозначный вывод, что вчерашняя встреча с Ф.Ф. Кузнецовым произвела на них глубокое, положительное впечатление.
Генерал-полковник Ф.Ф. Кузнецов относился к числу тех людей, которых судьба по какой-то ей одной известной прихоти выхватывает из низов и поднимает высоко. Работая над книгой, я встретился с сыном Федора Федотовича – полковником Александром Федоровичем Кузнецовым. Он рассказал, что его отец родился в 1904 г. в одной из захолустных деревень Троекуровского уезда Рязанской губернии (ему было 40 лет, когда он получил воинское звание генерал-полковника!). Семья не имела своей земли, и Федора, как только он немного подрос, отправили в город на заработки. С трудом устроился в Рязани на работу в трактир мальчишкой на побегушках. Денег хозяин не давал, Федор был благодарен, что досыта кормят. Когда окреп и освоился в городе, ушел работать на шахту. Уголь добывали обушком и тащили к клети волоком на санках. Когда произошла революция, вступил в партию. Товарищи по работе избрали его секретарем партячейки. Если бы не это событие, может быть, остался бы Федор до конца жизни шахтером. Но нередко жизнь бросает человека в пучину событий, и человек неожиданно оказывается там, где никогда и не думал быть. Чистка в партийных рядах в то время следовала за чисткой, начались повальные репрессии. Ответственных людей снимали с постов и на их место выдвигали энергичных молодых рабочих без образования и опыта работы. Кузнецова заметили. Он ведь не был связан ни с какими группировками. Перед молодым человеком открылась «зеленая улица». Вскоре он был избран секретарем парткома Московского электролампового завода, а затем выдвинут на пост секретаря райкома партии Пролетарского района столицы. Это уже была «номенклатурная должность».
Незадолго перед войной, когда ежовская и бериевская чистки вывели из строя сотни руководящих военных работников, образовав зияющие бреши в наркомате обороны, Ф.Ф. Кузнецова направили на работу в Главное политическое управление Красной армии в качестве заместителя начальника Главпура. Ему было присвоено соответствующее воинское звание. Здесь, по словам работников Главпура, разбирая жалобы военнослужащих, он проявил себя как отзывчивый, внимательный начальник, умевший обобщать недостатки, предлагать конструктивные решения. В 1942 г. Ф.Ф. Кузнецов получил назначение в действующую армию членом Военного совета Воронежского фронта. Незаурядные организаторские способности, умение Кузнецова работать с людьми, требовательность и внимание к нуждам солдат и офицеров, способность видеть главное в гуще событий были замечены приезжавшими на фронт маршалом A.M. Василевским и генералом армии А.И. Антоновым. Работа с партизанскими отрядами в тылу врага входила в задачу политуправления. И здесь Кузнецов показал себя с положительной стороны. Несомненно, это предопределило назначение Ф.Ф. Кузнецова на должность начальника Разведуправления Генерального штаба. Он и на новом для него участке работы проявил себя с лучшей стороны.
…Прошло три дня, как делегация находилась в Москве. Члены делегации, лишенные связи с Будапештом, пребывали в томительном ожидании. Время от времени они перебрасывались словами, в которых сквозила тревога за состояние дел дома. Помню, в гнетущую атмосферу невольно минутную разрядку внес пятилетний внук горничной, работавшей на даче, которого она вынуждена была взять с собой из-за болезни дочери. Генерал Фараго обратился к горничной со словами: «Мадам, можно еще чашечку кофе?» Мальчуган подошел к генералу и громко повторил незнакомое слово: «Мадам!» Глава венгерской делегации хитро посмотрел на малыша и ответил: «Нет, милый мой, я еще не мадам, хотя скоро уже, видно, перейду в эту категорию…» Гадали, когда состоится продолжение разговора с генерал-полковником Кузнецовым. Сент-Иваньи спросил, есть ли на даче какие-нибудь игры. Оказалось, что есть шахматы. Он предложил, чтобы убить время, сыграть партию. Я еще не успел как следует сосредоточиться, как он поставил мне мат. «Ну что же, – резюмировал он, – могу гарантировать, что выиграю у вас сто партий из ста. Если хотите убедиться, давайте сыграем еще». Самонадеянность венгерского дипломата была тем не менее посрамлена. Я довольно быстро выиграл у него следующую партию. Сент-Иваньи предложил реванш. Во время игры он, как бы между прочим, заговорил о литературе. Спросил, как я отношусь к произведениям Свифта. Не кажется ли мне, что идущая война, как и в истории о Гулливере, такая же нелепость, как война лилипутов из-за того, с какого конца открывать яйцо – с тупого или острого? «Каждая страна сама должна решать, – продолжал венгерский дипломат, – какой строй ей больше подходит. Вы согласны с этим?»
Я понял, что разговор о литературе Сент-Иваньи завел не случайно. Знакомство с «венгерским досье» помогло мне понять его смысл. Стратегическая цель переговоров для делегации – уяснить, будет ли сохранен существующий в Венгрии строй после войны. Я помнил наставление Кузнецова – не давать оценок в беседах с членами делегации. Мне не оставалось ничего другого, как ответить, что приключения Гулливера были сатирой на исторические события того времени, что исторические параллели не всегда правомерны. Сент-Иваньи бросил на меня цепкий взгляд, говоривший, что он понял: ответа на наводящие вопросы от меня не получить.
В перерыве работы с делегацией я заглянул в бюро переводов. Майор Стрельников передал мне папку документов на венгерском языке.
Часть материалов представляла собой донесения, подписанные командиром боевой группы венгерской горнострелковой бригады полковником Дожа.
Трофейные документы свидетельствовали о чудовищной жестокости карателей в отношении мирного населения на оккупированной советской территории.
В объявлении, которое было расклеено на улицах города Новый Оскол на русском языке, говорилось, в частности:
– «Никто из жителей не имеет права покидать город или деревню без разрешения комендатуры. Лица, покинувшие город без разрешения, будут рассматриваться как партизаны и будут повешены» (курсив автора).
– «С семи часов вечера до пяти часов утра хождение по городу запрещено. Неподчинившиеся будут расстреляны на месте».
– жителям города запрещалось собираться на улицах группами более 2-х человек.
– «…за каждого убитого венгерского солдата, – говорилось в объявлении, – будет расстреляно 100 жителей, взятых в качестве заложников, а деревня будет сожжена».
– далее в объявлении сообщалось, что «гражданскому населению запрещается пользоваться колодцами, предназначенными для солдат и обозначенными особыми знаками, а также подходить к колодцам на близкое расстояние. Жители, обнаруженные близ колодцев, будут расстреляны».
– «лица, работающие на полях, должны иметь при себе документ, выданный местной комендатурой… на каждом документе должен быть отпечаток большого пальца правой руки».
– «Каждый еврей обязан заявить о себе в течение 24-х часов военному командованию. Не исполнившие этого будут расстреляны, равно как русские, укрывающие евреев, общающиеся с ними».
– «Все собаки должны быть заперты в домах. Собаки вне дома будут застрелены».
Под объявлением стояла подпись: Венгерский комендант.
Среди захваченных партизанами документов был отчет о поездке инспекции в г. Слуцк 19 ноября 1941 г. В нем говорилось о том, что 3800 евреев, проживающих в Слуцке, переселяются со всем своим скарбом в гетто и постепенно уничтожаются. Из-за нехватки рабочей силы исключение делается для евреев-ремесленников. В отчете говорится, что некоторые районы города уже полностью очищены от евреев.
Документы, полученные от партизан, действовавших в брянских лесах, были захвачены в результате нападения на штаб одной из венгерских частей.
Группировка венгерских войск здесь насчитывала в разное время от 9 до 13 дивизий.
Среди захваченных партизанами документов представляла несомненный интерес Директива об основных принципах действий частей и подразделений венгерской оккупационной группы № 2700 от 26 августа 1942 г., подписанная генерал-майором Силардом Бакаи. В ней содержалось требование «положить конец имеющим место фактам малодушия и трусливой сентиментальности».
В Директиве содержалось указание: «При движении по заминированным участкам местности использовать для разминирования местное население или приданные дивизиям еврейские рабочие роты».
В другом приказе, подписанном командиром 3-го батальона 17-го полка, от 1.05.1942 г., говорилось: «Венгерская армия, не считаясь с большими потерями, должна наступать. Тогда наши семьи будут живы. Если Красная армия захватит Венгрию, вся венгерская нация будет уничтожена»…
Далее приказ гласил: «Села, где есть партизаны, при отступлении солдат надо сжигать дотла, чтобы лишить партизан баз продовольствия».
Однако из другого документа (приказа командира 108-й пехотной дивизии генерал-майора Алта от 20 апреля 1942 г.) можно было заключить, что жестокость по отношению к мирному населению не одобряется частью рядового и унтер-офицерского состава.
Меры предосторожности
Посольство Германии в Будапеште получало все чаще сообщения своих агентов о сепаратистских настроениях в руководящих кругах Венгрии. 2 октября в резиденции германского посла в Будапеште собрались представитель ставки немецкого Верховного главнокомандования: генерал СС Грейфенберг, командующий группировкой немецких войск в Венгрии генерал СС фон Бах-Зелевски, шеф гестапо генерал Винкельман, руководители профашистской венгерской партии скрещенных стрел.
Накануне комиссар с особыми полномочиями и посол Германии в Венгрии Веезенмайер побывал в ставке Гитлера и получил от него свободу действий на случай, если обстановка в Венгрии будет складываться неблагоприятно для Германии. Веезенмайер считал необходимым обсудить меры, которые потребуется принять, если Хорти попытается совершить крутой поворот и порвать союз с Германией.
Участники совещания были единодушны в том, что самое главное в сложившейся ситуации – правильно определить время для нанесения упреждающего удара. Согласно данным, полученным немецкой разведкой, Хорти готовится к разрыву союза с Германией уже в начале третьей декады октября. Обсуждался факт перелета генерал-полковника Надаи в Италию для ведения переговоров с англо-американцами. На случай непредвиденных обстоятельств был утвержден список венгерских генералов и офицеров, подлежащих аресту в первую очередь. Наконец, Веезенмайер большое значение придавал подготовленной операции по захвату сына Хорти в качестве заложника и его компрометации.
Это совещание у немецкого посла не прошло незамеченным для венгерской контрразведки. Хорти догадывался, о чем может идти речь на подобном сборище. Шаги, предпринимаемые немцами, сковывали его волю. Он вновь и вновь колебался, оттягивал принятие радикальных мер, направленных на разрыв с Германией. Хорти понимал, что необходимо было подготовиться на случай чрезвычайных событий, если он не сможет управлять страной. Важно было назначить преемника. Таким человеком регент избрал командующего 2-й венгерской армией генерал-полковника Лайоша Вереша. На него, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, в силу которых Хорти не сможет исполнять свои функции, возлагались права и обязанности главы государства и правительства.
Документ, которым Вереш[30]30
Дальноки ВЕРЕШ Лайош (dalnoki Veress Lajos). Генерал– полковник венгерской армии. Во время Второй мировой войны командующий армии. Убежденный сторонник выхода Венгрии из войны путем заключения сепаратного мира с англо– американцами. Регент Венгрии назначил генерала Вереша своим преемником на случай, если не сможет выполнять свои функции вследствие захвата власти представителями иностранной державы. Считал ошибкой Хорти то, что он не решился на разрыв с Германией. Был арестован немецкой полицией и не смог выполнить миссию, возложенную на него регентом.
[Закрыть] облекался при определенных обстоятельствах правами «Homo regis»[31]31
Термин «homo regis» – лат. – буквально переводится как «человек короля», иначе говоря, доверенное лицо главы государства, назначаемое для временного управления страной в силу форс-мажорных обстоятельств.
[Закрыть], был направлен командующему армией фельдъегерской связью. Дубликат этого документа регент послал генералу Верешу с бароном Даниэлем Банфи. В нем Хорти указывал: «В случае, если какая-либо иностранная держава лишила бы меня возможности свободно осуществлять мои права, возлагаю на вас право осуществлять функции главы государства и премьер-министра…»
Зная, что не раз содержание самых секретных документов, адресованных ограниченному кругу людей, становилось известным немцам, начальник военной канцелярии регента предложил обусловить вступление документа в силу передачей по радиоканалу кодовой фразы: «Выполняйте директиву 1.111.1920». При получении этого сигнала командующие 1-й и 2-й венгерскими армиями должны были прекратить военные действия, установить связь с советским командованием и начать боевые действия против немцев. Хорти в присутствии начальника военной канцелярии лично сообщил находившемуся в Будапеште командующему 1-й армии генерал-полковнику Беле Миклошу содержание директивы и условный радиосигнал для введения ее в действие.
Одновременно командующему 2-й армии генерал-полковнику Верешу было направлено секретное письмо через «надежного» офицера с указанием кодовой фразы и связанными с ее получением задачами. «Надежный» офицер передал пакет представителю немецкой контрразведки.
Обладая такой информацией, немцы решили произвести аресты среди преданных регенту лиц. К их числу относились командир 1-го корпуса, являвшийся начальником столичного гарнизона, генерал-лейтенант Бакаи, на которого было возложено обеспечение безопасности правительства и поддержание порядка в столице; вторым в списке подлежащих аресту был командующий 2-й венгерской армией генерал-полковник Лайош Вереш; третьим – командующий 1-й венгерской армией генерал-полковник Бела Миклош; и, наконец, начальник Генерального штаба Янош Вёрёш. Намечалось сместить главу правительства и поставить на его место верного немцам Стояи, сменить руководство военной и политической разведкой. Был дан зеленый свет операции «Мышь», цель которой состояла в том, чтобы взять заложником сына Хорти и скомпрометировать самого регента. Это позволяло вынудить адмирала Хорти отречься от поста главы государства и поставить на его место руководителя профашистской венгерской партии скрещенных стрел Салаши (партия нилашистов).
Начало переговоров в Москве
В Москве все было готово для проведения переговоров. 5 октября днем генерал армии Антонов принял у себя в кабинете венгерскую делегацию. Гости разместились за длинным столом, за которым обычно собирались генералы и офицеры оперативного управления Генштаба для доклада по оперативной обстановке на различных участках фронта, здесь же рождались и наносились на оперативные карты замыслы новых стратегических операций.
Генерал-полковник Фараго сообщил, что делегация уполномочена регентом Венгрии адмиралом Хорти передать советскому командованию и правительству, что Венгрия намерена выйти из войны и перейти на сторону антигитлеровской коалиции. Глава венгерской делегации вручил генералу армии Антонову конверт с посланием регента Венгрии маршалу Сталину. Документ был написан на английском языке. «Это послание, – разъяснил генерал Фараго, – служит свидетельством того, что делегация прибыла в Москву с ведома и по поручению регента для обсуждения вопросов, связанных с перемирием».
Сент-Иваньи поспешил добавить, что в Будапеште положительно отнеслись к предложениям, содержащимся в письме Макарова. Он извлек из папки изложение этого письма и начал читать.
Генерал армии Антонов ответил, что наведены справки в штабе партизанского движения. Там ни о каком письме Макарова не известно, и поэтому советская сторона не может вести переговоры на условиях, приписываемых несуществующему письму. Делегация должна иметь в виду, добавил генерал армии, что Советский Союз не ставит своей целью захват венгерской территории. Главная цель Советской армии состоит в том, чтобы разгромить гитлеровскую Германию. Красная армия лишь пройдет через Венгрию, как это имело место в Румынии и Болгарии. В противном случае страна превратится в арену боевых действий, сопряженных с огромными потерями в людях и материальных ценностях.
Генерал Фараго сказал, что делегация Направит запрос в Будапешт, чтобы венгерское руководство подтвердило полномочия на ведение переговоров шифротелеграммой, и дополнительно выслало документ с курьером.
Беседа у генерала армии Антонова проходила непринужденно. Подали чай. Алексей Иннокентьевич после официальной части разговаривал с членами делегации без переводчика – с Сент-Иваньи по-французски, а с графом Телеки – по-немецки. Фараго предпочел говорить по-русски.
Весь следующий день члены делегации в своих разговорах вновь и вновь возвращались к обсуждению вчерашней встречи с Антоновым. В этом не было ничего удивительного: Алексей Иннокентьевич Антонов был обаятельным человеком. Высокий, стройный, с умными карими глазами на продолговатом лице, с высоким лбом. Он был внимательным собеседником, обладал чувством такта и собственного достоинства. Генерал армии пользовался огромным авторитетом в Генеральном штабе и в войсках. О его феноменальной работоспособности и необыкновенной памяти в Генштабе знали все. Он никогда не заглядывал в блокнот, когда докладывал обстановку на фронтах Верховному главнокомандующему, удерживая в памяти огромное количество данных, готовый дать квалифицированный ответ на любой поставленный вопрос.
А.И. Антонова любили и уважали еще за то, что он никогда не повышал голоса на подчиненных, уважая достоинство своих сотрудников, не любил грубости и хамства. И в то же время был исключительно требовательным в работе, не терпел никакого разгильдяйства и нечестности. Ценя свое время, генерал армии выражал свои мысли лаконично, четко и ясно.
Работа требовала отдачи всех сил, и тем не менее он постоянно проявлял заботу о тяжело болевшей в последние годы жене – Марии Дмитриевне. У них не было своих детей, и он пытался всячески скрасить ее одиночество, а позднее тяжело переживал ее смерть. До войны Алексей Иннокентьевич с женой часто бывал в театре, на концертах, испытывая истинное наслаждение от хорошей музыки, много читал.
В 1956 г. он связал свою жизнь с выдающейся советской балериной народной артисткой СССР Ольгой Васильевной Лепешинской. Случай свел меня с Ольгой Васильевной в Будапеште, где она в течение нескольких лет была консультантом-педагогом при столичном театре оперы и балета. Она тепло вспоминала об Алексее Иннокентьевиче. «У многих, даже часто общавшихся с Алексеем Иннокентьевичем людей, сложилось не совсем верное впечатление о нем, как о человеке, занятом только чисто военными проблемами, лишенном интереса к другим сторонам жизни, – сказала она. – Он был интеллигентом в самом лучшем смысле этого слова. Несмотря на то что Алексей Иннокентьевич отдавал службе все свои силы и способности, он при этом был человеком разносторонним, постоянно интересовался искусством и литературой. Любил хорошую компанию. Ценил умную шутку и не терпел пошлости. На досуге с азартом играл в волейбол, любил покататься на лодке или просто погулять в лесу. Его увлечением были шахматы. Он с удовольствием разбирал сложные шахматные партии.
Алексей Иннокентьевич до конца своей жизни продолжал заниматься историей войны. Читал труды военных теоретиков, научные статьи, публиковавшиеся в военных журналах, и мемуары военачальников.
В своих рассказах о Ялтинской и Потсдамской конференциях он приводил массу очень интересных деталей… Жизнь Алексея Иннокентьевича, – заключила О.В. Лепешинская, – будет благодарной темой для того, кто возьмет на себя труд рассказать о нем. К сожалению, – призналась Ольга Васильевна, – мы были слишком разными людьми, и наша жизнь с ним не сложилась так, как мне хотелось бы».