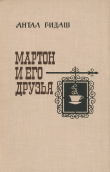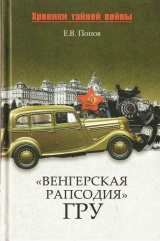
Текст книги "«Венгерская рапсодия» ГРУ"
Автор книги: Евгений Попов
Жанры:
Военная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Злополучное «письмо Макарова»
Все тайное, как справедливо говорится, со временем становится явным. После войны стали появляться различные публикации, воспоминания участников событий военных лет. Привлекло к себе внимание ученых Венгрии и Советского Союза и «письмо Макарова». Этим вопросом занимался, в частности, крупный советский специалист по истории Венгрии профессор А.И. Пушкаш. Большую работу, связанную с поиском «пропавшей грамоты», проделал венгерский историк профессор Будапештского университета М. Кором.
Многие венгерские исследователи склонялись к тому, что письмо было действительно написано партизанским комиссаром по заданию советского руководства, чтобы подтолкнуть Венгрию на переговоры о перемирии. Но с таким же основанием можно было предположить, что этот документ был сфабрикован с помощью венгерских разведорганов, чтобы дать регенту аргумент в пользу направления венгерской делегации в Москву.
Подполковник Макаров действительно был комиссаром одного из партизанских отрядов на территории Словакии. Однако, что касается подлинности «его письма», то исследователи обнаружили целый ряд элементов, которые дают основание полагать, что он был не способен написать его. Во-первых, отсутствуют какие-либо следы его подготовки, черновики, копии, упоминания в советских архивных материалах. Во-вторых, сомнительно, чтобы советское руководство могло рассчитывать, что регент Венгрии всерьез отнесется к документу, подписанному никому не известным подполковником из партизанского отряда, – ведь для этой цели можно было подобрать авторитетного военного или политического деятеля. Наконец, условия перемирия могли быть переданы графу Зичи в устной форме. Он был достаточно солидным человеком, чтобы его слова были приняты регентом на веру. И самое главное – о письме Макарова ничего не было известно ни штабу партизанского движения, ни политуправлению Красной армии, ни Наркомату иностранных дел, мимо которого подобный документ никак не мог пройти.
И уже совсем странно, что графологически подпись под документом не совпадает с подлинной подписью Макарова. Больше того, в «подписи» Макарова под письмом допущена ошибка: вместо русской буквы «р» написана латинская буква «г». Трудно поверить, чтобы человек мог допустить ошибку в написании собственной фамилии. К тому же в письме должность подполковника Макарова указана ошибочно: он был комиссаром, а не командиром отряда, как написано в письме.
К сожалению, ни командира партизанской бригады, ни его политкомиссара уже нет в живых, и историки не смогут получить достоверные сведения из первоисточника. Странно и то, что о «письме подполковника Макарова» ничего не было известно начальнику штаба повстанческой армии.
Генерал-майор И.И. Скрипка рассказал, что командир партизанского отряда Волянский и Макаров докладывали ему о встрече с венгерским помещиком графом Зичи, который интересовался, могут ли партизаны перебросить по воздуху венгерскую делегацию в Москву.
Однако ни о каком «письме Макарова» адмиралу Хорти никто даже не упоминал. «Только после войны я узнал, – сказал И.И. Скрипка, – что историки пытаются разобраться с вопросом о письме, якобы направленном регенту Венгрии комиссаром партизанской бригады. Уж если исходить из того, что такое письмо действительно могло быть послано, то логично было бы предположить, что его должен был бы подписать командир бригады Волянский, а не комиссар».
Надо иметь в виду, что и Волянский, имевший звание старшего лейтенанта, и Макаров, носивший погоны подполковника, скорее всего, присвоили себе эти звания сами в партизанском отряде. Макаров, до войны учитель, был капитаном. Но комиссар бригады должен был иметь звание выше, чем его подчиненные, так он стал подполковником.
Командир партизанского отряда Волянский был от природы умным, смелым и решительным человеком, но он сознавал, что у него нет необходимой подготовки, поэтому многие вопросы он перекладывал на своего заместителя – Макарова. Но и Макаров просто-напросто не в состоянии был подготовить письмо главе государства с условиями, на которых советская сторона согласна вести переговоры о перемирии с руководством Венгрии. У него не было даже представления о проблемах, которые излагались в приписываемом ему письме. Комиссар отряда просто не располагал достаточными знаниями ни о политике, ни об истории Венгрии.
Волянский безусловно сообщил бы мне, если бы возникла необходимость передать какой-либо документ венгерской стороне. Когда граф Зичи установил контакт с партизанами, командир бригады поставил меня об этом в известность. Я информировал об этом штаб партизанского движения Украины. После согласия командования венгерская делегация была принята. Ее разместили в Зволенской крепости в отдельном доме. Помню, что приехавшие венгры привезли с собой 12 чемоданов. Присланный за ними легкий самолет не мог взять трех человек с таким багажом. Венгры наотрез отказались оставить в Зволене часть багажа, сославшись на то, что они везут с собой много важных документов.
Я направил телеграмму маршалу Коневу, в которой сообщил о сложившейся ситуации. Из Киева пришло сообщение, что за делегацией будет прислан более вместительный самолет.
До прилета самолета я встретился с членами делегации. Генерал Габор Фараго произвел на меня впечатление сдержанного, умного человека. Член делегации Сент-Иваньи предложил обсудить условия, на которых может быть заключено перемирие. Я ответил, что он задает вопросы, ответ на которые может дать только высшее командование или правительство. Поэтому нет смысла обсуждать эти вопросы, тем более, что делегация через несколько дней будет в Москве и сможет получить там исчерпывающую информацию. Генерал Фараго согласился с моими доводами. Третий член делегации граф Телеки присутствовал при беседе, но участия в ней не принимал. О нем у меня не сложилось никакого впечатления.
Вскоре из Киева на аэродром «Три дуба» прибыл самолет «Дуглас», в котором было достаточно места и для членов делегации, и для багажа. До Киева делегацию сопровождал подполковник Макаров.
Пробный шар
В конце сентября меня вызвал к себе начальник отдела полковник С.Д. Романов. Высокий, худой, с отличной военной выправкой, он, казалось, родился в форме офицера. Полковник, как обычно, немного рисуясь, подчеркнуто четко, размеренно артикулируя каждое слово, сказал, что с настоящего момента я поступаю в непосредственное распоряжение начальника Разведуправления генерал-полковника Ф.Ф. Кузнецова, и освободил меня от работы в отделе и от дежурств.
«Обращаю' ваше внимание на то, – подчеркнул он – что информацией о работе с генерал-полковником Кузнецовым вы не должны делиться ни с кем».
Мне впервые предстояло встретиться лично с начальником Управления. До этого я лишь мельком несколько раз видел его у подъезда здания Генерального штаба, когда он выходил из своего респектабельного паккарда.
Порученец начальника Управления представил меня генерал-полковнику. В грубоватых чертах его лица угадывалась властность, даже, пожалуй, надменность. Зазвонил телефон. Генерал снял трубку, и выражение его лица изменилось, в голосе теперь чувствовалась тревога. Он посмотрел в мою сторону, явно недовольный тем, что я присутствую при сугубо личном разговоре. «Ты померила ему температуру?…Какие у нас есть лекарства от простуды?…Я позвоню тебе попозже». Я понял, что заболел его сын.
Положив телефонную трубку, генерал предупредил, что мне предстоит работать с венгерской делегацией в качестве переводчика и офицера связи. Я должен неотлучно находиться в Управлении, чтобы, как только делегация прибудет в Москву, приступить к работе. «И не вздумайте делать записи. Эта работа носит сугубо секретный характер». Подумав, он добавил: «Если у вас есть знакомые венгры, коммунисты, им не надо ничего говорить о прибытии делегации и о переговорах. Если ЦК партии сочтет нужным, то их проинформируют по линии партийных органов. И учтите, – добавил генерал, – что члены делегации могут спрашивать ваше мнение по тому или иному вопросу. Воздержитесь от всяких оценок, потому что ваш ответ могут истолковать как мнение командования».
Генерал-полковник сказал, что мне необходимо ознакомиться с документами о секретной деятельности венгерской дипломатии в нейтральных странах. Это поможет лучше ориентироваться в переводе и понимать логику переговоров. Указание Вдовину дано.
В приемной генерала Кузнецова я встретил своего однокашника по Военному институту иностранных языков Василия Харькова. Он только что вышел из кабинета шефа. Василий рассказал мне, что – как он понял из разговора генерала по телефону – сам Сталин хотел знать, какие из наиболее информированных и объективных иностранных периодических изданий стоит выписать на предстоящие месяцы.
Библиотека разведуправления подготовила список иностранной периодики. Предпочтение отдавалось швейцарскому бюллетеню «Интеравиа» и английскому журналу «Форин офис» («Foreign Office»).
Лейтенанту Харькову было поручено доставить генералу Кузнецову список иностранной периодики. Василий по секрету рассказал мне, что перед тем как доложить «Хозяину» список газет и журналов, Кузнецов встал, тщательно застегнул китель на все пуговицы, и только после этого стоя доложил Сталину (или, возможно, Поскребышеву) названия заслуживающей внимания иностранной периодики.
Утром я еще не успел приступить к работе над документами, захваченными нашими разведчиками в тылу противника, как мне позвонил офицер-порученец генерала Кузнецова Григорьев: «Попов, зайдите ко мне, есть срочное дело». Я убрал со стола документы и спустился на 4-й этаж, где помещался кабинет начальника РУ. Григорьев держался со всеми просто, но через него генерал-полковник передавал свои указания, поручения, Григорьев определял очередность приема начальников отделов на доклад Кузнецову, поэтому начальники отделов старались иметь с ним хорошие отношения. Григорьев сказал мне, что от разведки 4-го Украинского фронта поступило сообщение, что венгры доставлены в штаб фронта и будут в ближайшее время отправлены самолетом в Москву. Мне предстоит обеспечить перевод переговоров генерал-полковника Кузнецова с ними. Григорьев предупредил меня, что эта информация носит сугубо секретный характер.
Весь следующий день я напрасно ждал вызова к начальнику РУ. Вечером Григорьев позвонил мне и дал отбой.
Начальник разведуправления лично вылетел в Киев, учитывая осложнения, возникшие в работе с группой Ацела. Позднее я узнал, что начальник «Смерш» генерал Абакумов связался по телефону с членом Военного совета Мехлисом и договорился, что делегация будет передана службе военной контрразведки.
Ф.Ф. Кузнецов с трудом сдерживал свое возмущение бесцеремонным вмешательством Абакумова, который представил командованию переход венгерских парламентеров как заслугу своей службы. Ни для кого не было секретом, что Абакумов – ярый карьерист и ради карьеры готов на любые поступки. Но Абакумов подчинялся непосредственно Сталину, и с этим приходилось считаться (хотя «Хозяин» знал, что Абакумов выдвиженец Берии, и держал его на расстоянии от себя).
В сложившейся ситуации каждую встречу с группой Ацела разведуправлению приходилось согласовывать с Абакумовым.
О нахрапистости Абакумова было хорошо известно в кругах, близких к руководству силовых ведомств. Рассказывают, что в результате одной операции, проведенной совместно органами НКГБ, НКВД и «Смерш» была захвачена разведывательно-диверсионная группа, заброшенная немцами в тыл наших войск. На совещании по итогам операции было высказано предложение начать радиоигру с немцами для внедрения дезинформации, передаваемой немецкому командованию. Присутствовавший на заседании Абакумов подошел к телефону «ВЧ», доложил Сталину о захвате группы немецких разведчиков и сообщил о целесообразности начать радиоигру с немцами. Повесив телефонную трубку, Абакумов объявил, что Сталин одобрил предложение, и добавил, что берет руководителя немецкой группы и его радиста себе. «Остальных делите как хотите», – огорошил он участников совещания и ушел. Представители параллельных ведомств оторопели от такой наглости.
Когда от маршала И.С. Конева была получена телеграмма о намерении венгерского руководства направить через фронт с помощью партизан венгерскую представительную делегацию для переговоров о перемирии, советское руководство поручило эту работу начальнику РУ ГШ генерал-полковнику Ф.Ф. Кузнецову. Зная повадки Абакумова, Кузнецов лично вылетел в Киев и проследил, чтобы самолет с делегацией в сопровождении военных разведчиков отправили в Москву. Сам он вернулся на бомбардировщике, опередив венгерских представителей.
Венгерская официальная делегация в Москве
Вечером 1 октября на Центральном аэродроме советской столицы приземлился самолет, на борту которого прибыла венгерская официальная делегация. К трапу самолета подрулили две легковые автомашины. Встречавший делегацию полковник Иванов предложил гостям занять места в автомашинах и представил им майора Скрягина, который будет сопровождать делегацию до места размещения, и меня.
Глава делегации генерал-полковник Фараго внимательно вглядывался через стекло автомобиля в улицы города, в котором он провел не один год, будучи военным атташе при посольстве Венгрии в Москве. Миновали стадион «Динамо», выехали на Хорошевское шоссе. За окном машины промелькнули деревушки, показался мост, и вскоре открылась серебристая лента Москвы-реки, окаймленной по противоположному берегу высокими соснами. Фараго вопросительно взглянул на Скрягина и спросил: «Никак мы в Серебряном Бору?» Да, это был Серебряный Бор. Автомашины остановились перед воротами дачи, обнесенной деревянным зеленым забором. Ворота открылись, и автомашины остановились перед красивым загородным домом, окруженным соснами и декоративным кустарником.
Пока гости располагались и приводили себя в порядок, горничная накрыла на стол. Отличное грузинское вино, аппетитные закуски располагали к отдыху. Новые обитатели дачи сбросили с себя напряжение, в котором они находились последние часы, и начали осваиваться в новой обстановке. Едва успели поужинать, как зазвонил телефон. Порученец генерал-полковника Кузнецова сообщил, что генерал ждет гостей в Генеральном штабе.
До центра Москвы доехали минут за 30 – 40. Генерал принял делегацию в своем кабинете. Поинтересовался, как долетели, как расположились, нет ли просьб или пожеланий. Затем Ф.Ф. Кузнецов перешел к основному вопросу, ради которого венгерская делегация прибыла в Москву.
«Советское командование, – начал генерал, – поручило мне вести переговоры с венгерской стороной о заключении перемирия». Он представился как второй заместитель начальника Генерального штаба. «Я полагаю, – сказал он, – в Будапеште хорошо известно, что союзники по антигитлеровской коалиции договорились, что любые переговоры с Германией и ее союзниками возможны только на основе безоговорочной капитуляции. Этот принцип, как вы понимаете, выработан союзниками коллективно и не подлежит обсуждению. Наши союзники уже уведомлены о прибытии делегации. Однако заключение перемирия предполагает согласование целого ряда чисто военных вопросов, и мы могли бы, не теряя времени, приступить к работе. Надо полагать, – спросил Ф.Ф. Кузнецов, – делегация имеет полномочия на ведение переговоров и подписание соответствующего соглашения?»
На лице генерал-полковника Фараго выступили багровые пятна. Он и Сент-Иваньи обменялись выразительными взглядами. Граф Телеки, который вел протокольную запись встречи, казалось, был погружен в свою работу и только еще ниже опустил голову.
После непродолжительной паузы Фараго объяснил, что делегация по соображениям конспирации не взяла с собой письменных полномочий, но у нее имеется личное послание регента Хорти маршалу Сталину, которое делегации поручено передать лично Сталину или Молотову. «Этот документ, – продолжил генерал Фараго, – свидетельство того, что делегация носит официальный характер и ей доверено вести переговоры с представителями стран антигитлеровской коалиции». Сент-Иваньи воспользовался небольшой паузой и добавил, что венгерское руководство, направляя делегацию в Москву, учитывало позицию советской стороны, изложенную в письме подполковника Макарова, которое было адресовано адмиралу Хорти.
Генерал-полковник Кузнецов попросил уточнить, о каком письме идет речь. Узнав, что письмо якобы было получено от командования партизанской бригады, генерал поручил полковнику Иванову, который вел запись беседы, срочно разобраться со штабом партизанского движения, о каком письме идет речь.
Фараго и Сент-Иваньи были явно смущены. Оказалось, что делегация не имеет с собой ни упомянутого письма, ни его копии, имелись только выписки.
Сент-Иваньи поспешил перевести разговор на другую тему. Он сказал, что среди пленных, находящихся в Венгрии, имеется некто Мкртчан, который показал на допросе, что он якобы участвовал в бомбардировке города Кашша (Кошице). Сент-Иваньи спросил, нельзя ли уточнить, проходит ли по кадровым спискам советских военнослужащих офицер с такой фамилией. Кузнецов ответил, что проверить можно, но для этого нужно знать как минимум имя, отчество, место и год рождения офицера. «Судя по фамилии, это армянин. Армянская диаспора разбросана по всему миру. Важно уточнить, гражданином какой страны он является. Когда он бомбил Кошице? Ведь общеизвестно, – подчеркнул Кузнецов, – что бомбардировка города Кошице (Кашша) в 1941 г. была немецкой провокацией, чтобы втянуть Венгрию в войну. Может быть, речь идет о действиях авиации в настоящее время?» Венгерскому дипломату нечего было ответить.
Генерал Фараго спросил, как советская сторона представляет себе реализацию перемирия. Ф.Ф. Кузнецов ответил, что советская сторона и союзники рассчитывают, что Венгрия по примеру Румынии объявит войну Германии и примет участие в боевых действиях против немецких войск.
Сент-Иваньи заметил, что Венгрии больше импонирует финский вариант. Это дало бы возможность не допустить развертывания военных действий на территории Венгрии и избежать напрасных потерь с обеих сторон. Генерал-полковник Кузнецов усмехнулся и сказал, что для этого как минимум необходимо, чтобы немцы согласились на повторение такого варианта. Но, если быть реалистами, то нужно исходить из того, что немецкое командование постарается сделать все от него зависящее, чтобы не допустить выхода Венгрии из войны. Перед тем как закончить беседу, Кузнецов спросил, есть ли у членов делегации вопросы к нему. Сент-Иваньи обратился с просьбой прислать в Москву из Бухареста секретаря венгерского посольства в Румынии Ишт-вана Тарнаи, который вошел бы в состав делегации в качестве технического секретаря. Кузнецов обещал выяснить, возможно ли это сделать.
Генерал Фараго, в свою очередь, просил предоставить делегации возможность передавать в Будапешт шифротелеграммы средствами советской радиосвязи. Ф.Ф. Кузнецов обещал, что на следующей встрече даст ответ. Он поинтересовался, надежны ли шифры для переписки. Генерал Фараго сообщил, что разработкой шифров занимался крупный специалист в этой области генерал в отставке Покорни, он же будет лично осуществлять шифрование и дешифрование телеграмм для Хорти.
Гости в сопровождении капитана Левшни уехали в Серебряный Бор, а мне генерал приказал задержаться, чтобы доработать запись беседы. Генерал-полковник сел за письменный стол и стал собственноручно писать докладную записку начальнику Генерального штаба об итогах первой встречи с венгерской делегацией. Особая секретность документа требовала свести к минимуму круг лиц, посвященных в содержание переговоров, исключить машинистку, секретаря, делопроизводителей. Поэтому генерал сам взялся за техническую работу. Время от времени он спрашивал полковника Иванова, который протоколировал переговоры, как правильно пишется то или иное слово (генерал окончил лишь рабфак).
Позвонил генерал армии А.И. Антонов. Ф.Ф. Кузнецов доложил, что встреча прошла нормально, но, как выяснилось, делегация не имеет письменных полномочий.
Надо признать, что Ф.Ф. Кузнецов, показавшийся мне поначалу мужиковатым, блестяще провел встречу с делегацией, в состав которой входили изощренный дипломат Сент-Иваньи, опытный разведчик генерал Фараго и представитель старинного аристократического рода – профессор граф Геза Телеки. Кузнецов корректно, но настойчиво проводил свою линию, не ущемляя достоинства собеседников. В течение всей беседы Кузнецов сохранял инициативу в своих руках.
2 октября утром генерал-полковник вызвал меня к себе и передал личные документы членов делегации для перевода. В это время раздался телефонный звонок. Генерал снял трубку «вертушки», встал, представился и продолжал стоять в течение всего разговора. «Будет исполнено, Вячеслав Михайлович», – сказал он и осторожно положил телефонную трубку на рычаг. Я понял, что Кузнецов говорил с Молотовым.
Генерал-полковник сказал, чтобы я перевел личные документы членов делегации и передал их сотруднику Наркоминдела Григорьеву.