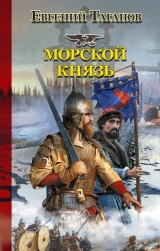
Текст книги "Морской князь"
Автор книги: Евгений Таганов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Дарник все снова и снова переживал нежелание гридей его освобождать. Не мог понять, как такое вообще могло случиться. Сначала валил все на необстрелянность своих чересчур грамотных челядинцев, возвращался к своему колдовству, не забыл и про отрубленную руку Твердяты – может, именно это оттолкнуло от него верную дружину. Наконец его осенило: лучшие и отважные гриди ушли из княжеской сотни еще там, на новолиповской дороге, с ним же остались одни слабаки и боязливцы, те, кто не может сам за себя все решать. Эта догадка приободрила князя, и он уснул немного успокоенным.
Наутро было шумное и веселое пробуждение. Особенно горели восторгом глаза у варагесцев, позже Рыбья Кровь выяснил, что в их жизни это была едва ли не первая ночевка в чужом становище. На выходе во двор князя поджидал Дулей:
– Мы правда идем в поход на ромеев?
– Правда. Пусть собираются как надо.
– А как мы пойдем, пешцами или как?
– Как надо, так и пойдем! – Дарник посмотрел на вожака смольцев так, что тот мгновенно бросился поднимать свою ватагу.
Гриди уже знали о походе и тоже были на ногах. Все на Утесе пришло в движение и в бесконечные вопросы, на которые ответить могли лишь князь и частично Грива. Хазарам и варагесцам было проще, они быстро перекусили остатками вчерашнего пиршества и, отойдя во дворе со своими конями чуть в сторонку, с любопытством смотрели на хлопоты словен.
Самым трудным и беспокойным вышло расставание гридей со своими лошадьми и частью вооружения. То там, то здесь были попытки отдать смольцам что похуже. Рыбья Кровь все видел и слышал, но молчал. Занятые своими скакунами, гриди совсем не обратили внимания, как были запряжены три двуколки с камнеметами и княжеская двуколка с хранящимися в ней шатром и знаменами, а ведь это восемь упряжных лошадей. Свирь и знаменосец Беляй по распоряжению Дарника целыми охапками сносили в них сулицы, колчаны со стрелами и арбалетными болтами. Не забыта была и провизия на три дня вперед.
Двадцать два смольца скоро напоминали украшенные в честь первой весенней вспашки вербы: щиты, шлемы, надетые на зимние шапки, мечи, клевцы, секиры, кистени, арканы, свои и чужие доспехи – все топорщилось и едва держалось, но никто не смеялся, главное было ничего не забыть.
Дарник и сам приоделся: на плечах у него был красный с золотой окантовкой плащ из тонкого двойного ромейского полотна, на голове парадный шлем, соединенный с княжеской короной, на ногах сапоги с золотыми шпорами. Гриди, позабывшие, как может выглядеть их князь, сейчас и сами старались подтянуться, забыть про расхлябанную походку и на лица вернуть готовность слушаться. А вот княжичей переодеть не получилось – из своих прежних парадных одежд они уже выросли.
Когда в дополнение к четырем упряжным и семи верховым лошадям, принадлежащим смольцам, из конюшен вывели еще четырех упряжных и двенадцать верховых лошадей, обнаружилось, что на самом Утесе остается всего четыре лошади.
– А у нас тогда как?! – Грива был в полной растерянности.
Рыбья Кровь ожидал этого и распорядился взять еще двух упряжных лошадей, а четырех верховых вернуть назад в конюшню, мол, шесть лошадей вам для конных сторожевых разъездов хватит за глаза. Этих двух дополнительных упряжных впрягли в двухосную повозку смольцев, которую нагрузили тремя палатками, пятью конными катафрактными доспехами и четырьмя носилками для будущих раненых. Помимо двадцати двух смольцев, с князем отправлялись еще оба княжича, Свирь и знаменосец Беляй.
Выступали действительно как в настоящий военный поход. Впереди на варагесской лошади ехал князь, за ним Свирь вел в поводу княжеского коня с кожаным седлом и нарядным, шитым золотом, чепраком. Следом ехали княжичи и знаменосец с развернутым княжеским знаменем. Далее хазары и варагесцы. За ними катили колесницы и повозка. Замыкали колонну дюжина конных смольцев во главе с Дулеем.
10
Едва с глаз скрылся Утес, как Дарник приказал поворачивать на Варагес, а смольцам немного себя разгрузить: сложить лишнее оружие на повозку, что те с удовольствием и сделали. Дулей недоумевал:
– Мы что, не на ромеев идем?
– И на ромеев тоже, но позже, – шутил князь, весьма довольный, что ему удалось столь просто обескровить предательский Утес. Не мешало, конечно, отполовинить у них еще коров и свиней, но тогда они точно догадались бы, что назад смольцы с князем уже не вернутся.
Чтобы никто в его войске не чувствовал себя в чем-то ущемленным, Рыбья Кровь использовал скучную дорогу как учебу по маневрированию: то приказывал возглавить колонну конной дюжине Дулея, то командовал хазарской декархии занять место сбоку колесниц, то хотел посмотреть, как новоявленные колесничие могут быстро выдвигаться в сторону и разворачиваться к воображаемому противнику камнеметным стволом. Все с большой готовностью и воодушевлением выполняли его команды. Даже варагесцы и те по своей воле с удовольствием повторяли все движения хазарской декархии.
Что касается княжичей, то те попали в полную зависимость от красавиц-варагесок. Квино была всего на год постарше Милиды, поэтому в восьмилетних княжичах обе они нашли себе подходящую компанию. Пока мужчины с важным видом занимались своими взрослыми делами, там, где ехали варагески с мальчишками, все время раздавался дружный смех, от того еще более веселый, что обе стороны с большим трудом понимали друг друга. Когда не хватало слов, в ход шли руки, а то и щипки с толчками.
– Какая веселая у тебя, князь, жена, – заметил Свирь. Ему самому не было еще восемнадцати, поэтому чужой детский задор вызывал в нем некоторую зависть.
– Хочешь, и ты к ним присоединись, – посмеивался Дарник.
Так, в хорошем, бодром настроении они и прибыли в Варагес. Перед тем как войти в городище, Рыбья Кровь перестроил колонну в том виде, в котором она вышла из Утеса, и пересел на своего княжеского коня. Дозорные мальчишки еще за три версты обнаружили их походный поезд, и встречать гостей за ворота городища высыпали все его жители. Развевающееся знамя с золотой рыбой на синем фоне, красный княжеский плащ и парадный шлем с короной сделали свое дело – ни один из варагесцев уже не сомневался в счастливом жребии, выпавшем их городищу. Ничего подобного в Варагесе никогда не происходило. Особенно, как позже выяснилось, все были покорены присутствием малолетних княжичей – значит, князь им полностью доверяет и не сомневается в их надежности! С почтением смотрели и на хорошо вооруженных смольцев, мол, вот они какие, настоящие дарникские воины.
– Это и есть твои знаменитые камнеметы? – поинтересовался у Дарника Сигиберд, заглядывая под полотняный навес колесниц, когда колонна втянулась уже в городище.
– Они самые.
– Значит, все-таки пойдешь на ромеев?
– Еще сам не знаю. Как получится и если твое войско поможет, – отвечал ему князь.
Смольцы, успев за дорогу почувствовать себя настоящей княжеской дружиной, без всяких указаний Дарника вели себя сдержанно и чуть напыщенно, да и как иначе себя вести, имея на поясе меч, а на голове стальной шлем?
Агилив, стоя на крыльце своего дома, внимательно смотрел на прибывших гостей.
– Вот привел тебе загонщиков для большой охоты, – сообщил, поднявшись к нему, Дарник.
– Только для охоты? – испытующе уточнил Агилив.
– Твой совет попугать ромеев был хорош, и я его принял, – напомнил с наигранным смирением князь.
Весть о завтрашней большой охоте еще больше взбудоражила городище. Теперь уже варагесцы выводили своих коней, осматривали их копыта, проверяли луки и сулицы, усердно готовили дополнительные стрелы.
Вначале предполагалось, что все гости будут участвовать в охоте только как загонщики, но потом к Дарнику пробились Янар с Дулеем и сказали, что так будет не очень хорошо: хазарский декарх утверждал, что половина его людей прекрасные лучники, а вожак смольцев высказал опасение, что в итоге загонщикам достанется лишь самая малая часть общей добычи.
– А мы сейчас все это и проверим, – сказал князь и слово в слово передал претензии своих вожаков Агиливу и Сигиберду.
До темноты оставалось еще несколько часов светлого времени, и гостям вместе с охотниками-стрелками устроили общее состязание: укрытый толстыми попонами конь тащил на ристалище санки с мишенью-оленем, а изготовившиеся лучники должны были успеть послать в цель по три стрелы или два болта из арбалета.
По результатам этих стрельб трое хазар и четверо смольских арбалетчиков перешли в разряд стрелков. Рыбья Кровь, хоть и имел два дальнобойных лука – свой, княжеский и подаренный тестем, – от участия в стрельбе уклонился. За него три стрелы из княжеского лука пустил Свирь – хорошо еще, что хоть один раз в саму мишень попал. Тем не менее на правах оруженосца получил право находиться вместе с Дарником среди стрелков.
Новые гости и княжеский наряд подразумевали особо торжественный вечерний пир, но Рыбья Кровь от этого излишества накануне большой охоты посоветовал хозяевам воздержаться:
– Лучше пировать после, а то удачи может и не быть.
Агилив с ним согласился, хоть это и противоречило законам степного гостеприимства. Поэтому, кое-как перекусив по семейным дымам, весь Варагес со товарищи быстро и дружно отошел ко сну.
Несмотря на прибытие дополнительных двух дюжин лошадей, коней для большого охвата территории все равно не хватало. Однако тервиги вышли из положения достаточно просто: забрали лошадей у стрелков, а всем загонщикам посадили за спину «по пешцу», снабженному молотками и железными котелками. При выезде двумя клиньями в степь их по очереди через каждые полверсты ссаживали на землю, с тем чтобы они своим шумом не давали загоняемым животным свернуть с главного направления в сторону. И была у варагесцев еще одна придумка, которую Дарник разглядел, когда уже прибыл на место стрельбы: две длинные на целое стрелище загородки, состоящие из легких рогаток с вертикально закрепленными прутьями с развивающимися лентами. Поставленные клином друг к другу, эти загородки направляли бегущих животных в узкий пятисаженный проход, где их поджидали стрелки.
Первыми еще по темноте в степь выехали загонщики, стрелки же спокойно дождались утреннего света, еще и горячего успели поесть, и, только когда солнце проникло уже через стену на двор городища, двадцать стрелков во главе с князем и Сигибердом пешком двинулись к своей засаде. Там, выстроенные с одной стороны прохода друг за другом, стояли восемь телег, наполненные хомутами и жердями для волокуш. За этими телегами и предстояло прятаться стрелкам.
Сигиберд поставил князя вместе с варагесскими лучниками у самого устья прохода, сам же вместе с хазарами и смольцами разместился у самой последней телеги. Сначала Дарник подумал, что это для того, чтобы как следует оценить ловкость и меткость гостей, но чуть позже он понял, что дело в другом: под надзором князя и хозяева, и гости будут изо всех сил стараться показать себя в наилучшем виде. И воевода хочет проследить за всем этим. Ну что ж, вполне верное решение.
Пока заняли места, приладили себе по росту тележную поклажу и разложили на ней поудобней свои стрелы, настало и время стрельбы. Первым на безжизненной снежной равнине появилось стадо пугливых сайгаков голов в двадцать. Чуть приостановилось, всматриваясь в рогатки с развевающимися лентами, пробежало еще сотню саженей, снова остановилось, чуя присутствие за телегами людей. И наконец решившись, вслед за своим вожаком бросилось в проход. Сигиберд загодя предупредил, чтобы первую дичь пропускали беспрепятственно, поэтому выстрелил из лука только сам уже вдогонку стаду и попал, одна из самок кувыркнулась, потом встала и с трудом с торчащей в боку стрелой двинулась, шатаясь, за своим стадом. Ее не стали догонять – этим полагалось заниматься позже.
Не успели проводить сайгаков взглядами, как вся степь впереди наполнилась всевозможной живностью: косяками тарпанов, стадами джейранов, оленей, кабанов, снова сайгаков, промчалась даже стая волков, и появилась главная степная дичь – зубры. Стрелки работали не покладая рук, в некоторых животных впивалось сразу по две-три стрелы. Сподобился выпустить из лука тестя две стрелы и Дарник: одна прошла мимо, вторая поразила в шею какую-то мелкую антилопу. Вместо охоты мысли князя были заняты прежней головоломкой: что делать со смольцами? И когда он выпустил вторую стрелу, его вдруг осенило: можно же просто перевести их назад в Смоль. Даже было странно, что такая мысль до сих пор не приходила в голову ни ему, ни самим смольцам. Конечно, без тех припасов, что они привезли в Утес, там зимовать будет совсем не сладко, но ведь то же зерно и крупы можно взять и в Варагесе, обменяв на оружие, взятое у гридей. Единственное, что препятствовало, так это расстояние до вежи: смольцы до Утеса добирались два дня, а Варагес как бы не был еще дальше.
Окружающая бойня между тем заканчивалась. Один огромный зубр, раненый, но еще полный сил, неожиданно развернулся и атаковал трех стрелков, стоявших за последней телегой. Те, спасаясь, вскочили на телегу. Резкий взмах косматой головы – и телега вместе со стрелками отлетела на добрую сажень. Один Сигиберд не растерялся, и подскочив сбоку к могучему животному, нанес ему удар по темени обухом секиры. Передние ноги зубра подломились, еще один удар секиры – и мертвый исполин опрокинулся на бок. Это было как завершение всей охоты. К проходу скакали уже загонщики, часть из них, не останавливаясь, помчались по кровавым следам дальше добивать раненых животных. Возле князя остановилась группа всадников – это Янар со знаменосцем Беляем привезли опекаемых ими княжат и Милиду с Квино. Жестом указав всей пятерке оставаться на месте, сам Янар поскакал, размахивая словенским клевцом, за остальными преследователями дичи.
– Ух ты! Как! Ого! Вот! – Княжичам не хватало трех с половиной языков, включая уже и готский, чтобы рассказать о своих охотничьих достижениях.
Но Дарнику, как и всем окружающим, слушать их было недосуг. Стрелки и часть загонщиков уже вовсю занимались свежеванием убитых животных, прямо на месте отрубали головы, сливали кровь, вынимали внутренности. Подходили загонщики-пешцы, тотчас присоединяясь к этой работе. Добычи было столько, что приходилось опасаться хватит ли для нее всех телег и волокуш.
– Хороший удар! – похвалил Рыбья Кровь разделывающего своего зубра Сигиберда. – Не каждому такое по силам.
Варагесский воевода не ответил, только по чуть дрогнувшим в улыбке губам можно было заметить, как ему приятны слова князя.
Те, кто не был занят на разделке туш и снаряжением телег и волокуш, подбирали расстрелянные по полю стрелы. У каждого из лучников на стрелах имелись свои хозяйские отметины, и теперь все они возвращались в колчаны своих владельцев. Тот, кто совершил много промахов, тут же подвергался самым язвительным насмешкам.
– Смейтесь и надо мной, я сегодня тоже один раз промахнулся, – предложил шутникам Дарник. Никто, разумеется, не смеялся.
Сам князь руками поработать не очень рвался, да от него этого никто и не ждал. Три-четыре приказания смольцам, два-три – хазарам, одна-две шутки сыновьям и Милиде, разрешение использовать для волокуши княжеского коня – таким был его вклад в общее дело. Еще он нашел варагесского проводника, что вывел их на Утес, и спросил: не знает ли он, где находится Смоль?
– Полдня пути летом и день пути зимой, – ответил варагесец. Такая разница была, видимо, не из-за трудной дороги по снегу, а из-за короткого времени зимнего дня.
Наконец, все добытое кое-как погрузили и тронулись в городище.
Дарник продолжал обдумывать поездку в Смоль: сколько человек, кого именно, какие с собой припасы? Ведь вполне могло случиться, что брошенная крепостица разорена или даже сожжена, где тогда заночевать и как возвращаться обратно? Люди, конечно, могут и поголодать, а лошадям какой-то фураж обязательно нужен.
В Варагесе уже дымили все печи, семьи готовились к дальнейшей переработке мяса и к вечернему пиршеству. Князь был приятно удивлен, что никто из городища на особо лакомую добычу не претендовал, все главы семей вместе со своими хозяйками и детьми просто по очереди подходили к телегам и волокушам и брали столько туш, сколько могли унести. Из домов на площадь были вынесены столы, на которых тут же производилось сдирание шкур, разделка мяса, мытье кишок для колбас, лучшие куски тут же закладывались в коптильни. Смольцы и хазары работали наравне со своими хозяевами. Рыбья Кровь теперь уже вместе с Агиливом снова оказались не у дел и, чтобы придать себе вид занятости, уединились для якобы важных переговоров.
Сначала разговор не слишком клеился, но потом Агилив набрел на легенду заморского похода Дарника, и князь, не ломаясь и не рисуясь, принялся рассказывать про это свое самое дальнее путешествие. Исчерпав военные действия, остановились на Константинополе. Вождя интересовало:
– Что там тебя, князь, поразило больше всего?
Дарник чуть призадумался. Про «поразило» до сих пор никто его прежде не спрашивал.
– Я ведь там и был-то всего ничего. Даже с дромона на берег не сходил, опасался, что за захват Дикеи ромеи вздумают меня схватить и казнить. Дикейских заложников и тех отпустил, когда мы уже поплыли на Крит, их прямо в море пересаживали с моего дромона на другое судно.
– Ну а все же? – настаивал Агилив. – Первый взгляд всегда бывает важным и многое определяет на будущее.
– Со мной и на дромоне, и на Крите все время был дикейский священник Паисий. Он очень ловко вел беседу про свою самую правильную веру в Иисуса Христа. И вот как раз в Царьграде я понял, почему никогда не буду креститься…
– И почему же? – Величественный старик весь обратился в слух.
– Увидев только часть Царьграда, я все равно увидел не меньше ста тысяч людей. И представил, как все они заходят в храмы и одновременно что-то просят у своего Бога. Я и подумал: ну почему мои молитвы должны быть для этого ромейского Бога важнее молитв ста тысяч других людей? Почему я, молодой, умный и сильный, должен просить себе еще больших преимуществ? По-моему, богов должно быть всегда очень много, не только у целого племени, но и у каждого рода должен быть свой собственный бог, тогда он тебе и близок, и понятен, и если он тебя в опасную минуту не спасает, то, ну что ж, значит, боги других родов и племен оказались более сильными и могущественными…
Агилив молча смотрел на князя, осмысливая сказанное им.
– Мне сказали, что ты на самом деле колдун.
Дарник не возражал:
– Иногда я и сам так думаю.
– Скажи, князь, а есть ли у тебя враги?
Дарник не мог сдержать смеха:
– Зачем мне враги, я и без них хорошо обхожусь…
Уже укладываясь поздно вечером спать в объятиях Милиды, Рыбья Кровь с удивлением понял, что его шутка была недалека от истины, – при большой массе судебных приговоров и военных походов называть кого-либо врагом как-то язык не поворачивался. И это притом, что нет-нет да кто-либо постоянно объявлял ему кровную месть.
Свое намерение съездить в Смоль князь сумел осуществить лишь через неделю после загонной охоты. Пять дней подряд он занимался конными учениями со своим объединенным смолько-хазарско-варагесским войском, добиваясь четкого выполнения самых простых построений. Зимой серьезных работ в городище было мало, поэтому против такого времяпрепровождения никто сильно не возражал. Одновременно Дарник присматривался, как складываются отношения между тервигами и новым пополнением гостей. Слишком тесное сожительство делало свое черное дело: радушие сменялось сдержанностью, а сдержанность – скрытым раздражением. Сначала он хотел купить расположение хозяев, подарив им некоторое количество мечей, секир и клевцов, но, подумав, воздержался от этого. До окончания зимы оставалось еще месяца полтора, и лучше было приберечь эти подарки как можно дольше. Все говорило за то, что смольско-хазарской ватаге надо во что бы то ни стало перебираться на новое место жительства, тогда и с варагесцами отношения непременно станут лучше.
Однако все в городище говорили уже только о походе на ромеев, и отказаться от него уже не было возможности.
Свое обещание Агиливу только попугать ромеев Дарник выполнил с отменной точностью. Его отряд из сорока всадников, вооруженных луками, копьями и щитами, рассыпавшись цепью, просто выехал на край распадка и остановился, давая себя как следует рассмотреть засуетившимся обитателям лагеря. В центре цепи, под развевающимся знаменем, в княжеском плаще в надменной неподвижности находился Дарник. Он даже снял ненадолго свой шлем-корону, дабы у ромеев совсем не осталось сомнений, кто именно перед ними. В лагере звучала медная труба, слышались свистки декархов, из домов и землянок выскакивали стратиоты и гребцы, на ходу вооружаясь. Дождавшись, когда ромеи стали разворачивать в их сторону и заряжать баллисту, Рыбья Кровь все так же невозмутимо взмахнул рукой, и вся шеренга всадников развернулась и потрусила прочь.
Большинство ополченцев не знали что и думать о таком странном набеге, но, видя, как князь довольно улыбается, они и сами себя убедили в том, что все прошло как надо. И по возвращении в Варагес уже всем с восторгом рассказывали, как сильно их войско напугало ромеев. Теперь можно было определяться и со Смолью.
В эту поездку Дарник взял с собой пятерых хазар, двоих варагесцев и Свиря с Дулеем. Помимо десятерых верховых лошадей взяли с собой еще трех вьючных лошадей, нагруженных палаткой и мешками с овсом. Шли на рысях почти без остановок и оказались у Смоли еще засветло. Вежа была как вежа: трехъярусная деревянная башня, обложенная камнем, при ней квадратный двор с двухсаженным тыном да еще подковой окружающие вежу огороды. Все в целости и сохранности, вот только над башней подымался слабый дымок, указывающий на присутствие в крепости чужих людей.
– Мы, когда уходили, ворота толстыми досками забили, – вспомнил Дулей.
– А почему черную тряпку не повесили, – упрекнул Дарник. – Тогда бы точно туда никто не сунулся.
Следов у ворот было совсем немного, и то, в основном, козьи и какие-то маленькие человечьи. Сами ворота оказались заперты изнутри.
– Ну стучись давай, – сказал князь Дулею.
Тот сначала стучал кулаком, потом обухом топора – из вежи не раздавалось ни звука. Дарник указал Янару взглядом на тын. Янар вместе с еще одним хазарином накинули на заостренные концы бревен арканы, ловко вскарабкались наверх и перевалили во двор крепости. Еще через минуту ворота распахнулись и пропустили вовнутрь весь отряд. Кругом царил неприятный разор и запустение. Все идущие вдоль тына постройки зияли отсутствием дверей, а кузня так вообще лишилась половины своей передней стены. Нетрудно было догадаться, что все это пошло на дрова для новых обитателей башни. Причем несколько толстых бревен, специально предназначенных для печного обогрева, оказались нетронутыми. Нижний ярус вежи служил погребом для съестных и военных припасов, поэтому вход в башню находился на втором ярусе, куда вела лестница из тонких досок и брусьев, которую легко было разрушить, чтобы намертво закрыться от противника в самой веже.
Свирь первым взбежал на высокое крыльцо, тяжелая входная дверь была закрыта. Оруженосец вытащил топор и вопросительно посмотрел на князя. Дарник отрицательно покачал головой: кто бы в веже не закрылся, не стоило из-за этого рубить дверь. Судя по следам и мусору, неизвестные гости были немногочисленны и вряд ли воинственны.
– Может, покричать им, чтобы выходили? – спросил у князя Дулей.
Против этого Дарник не возражал.
– Выходите, вам ничего не будет! Здесь князь Дарник! Это наша вежа! – во весь голос прокричал вожак по-словенски, ромейски и хазарски.
Ответом ему было молчание.
– Там дети! – показал на одно из окон глазастый Янар.
Это развеяло последние сомнения.
– Готовьтесь на постой, – дал команду Рыбья Кровь.
Дальше уже распоряжался Дулей. По его указаниям хазары и варагесцы разобрали до конца переднюю стену кузни и из полученных досок стали сбивать две двери: одна предназначалась для одной из гридниц, другая для бани. В конюшне имелся хороший запас сена, которое пошло и на корм лошадям, и на подстилку для людей. У подножия лестницы, ведущей в вежу, разожгли костер, чтобы он в наступивших сумерках не только варил в походном котле овес, но и освещал вход в башню. По хорошему куску колбасы и копченого окорока нашлось и у каждого из походников, так что сетовать на бескормицу не приходилось. Под конец умудрились даже затопить баню.
Предусмотрительный Свирь ради предосторожности под самой дверью башни, открывавшейся наружу, разбросал старые железяки, найденные в кузне. И вот, когда запахи сытной еды стали подниматься прямо к затянутым бычьими пузырями окнам, раздался звон свалившихся с крыльца железяк. Янар со Свирем похватали из костра горящие поленья и, как факелы, подняли вверх. На крыльце стояли три разного возраста девочки, старшей было лет десять, младшей не больше пяти. Страшно худые и замурзанные, в каких-то немыслимых тряпках, они просто стояли и смотрели на десятерых устрашающего вида мужчин. Ополченцы тоже не двигались, боясь спугнуть детей.
Дарник протянул Свирю свою палочку, на которой грел колбасу. Сняв с себя шапку, чтобы девочки увидели его юное улыбчивое лицо, оруженосец осторожно подошел под самое крыльцо и протянул наверх палочку с колбасой. Старшая девочка, нагнувшись, взяла ее, после чего все трое исчезли за дверью.
– У нее что-то с лицом, – сообщил Свирь князю и Дулею. – Вся щека изрезана.
– Это мануши, – уверенно определил смольский вожак.
Манушами называли особых бродячих людей, которые жили тем, что развлекали на дорогах торговых и военных людей своими гаданиями и фокусами. Дабы обезопасить своих женщин от мужских посягательств, мануши с малолетства обезображивали своим девочкам левую щеку так, что все лицо у них словно съезжало на сторону. Разумеется, оголодавших по женщинам и подвыпивших воинов даже такое уродство вряд ли могло остановить, но еще манушские женщины были знамениты тем, что умели напускать на людей любую порчу, так что их неприступность всегда была под двойной защитой.
– Мы что же, будем здесь ютиться, а эти уродки там? – возмутился Янар.
– Я вижу, на тебе давно не было насекомых, – заметил ему на это князь, и хазарский декарх сразу утих.
Так они и определились. Две пары дозорных по очереди всю ночь сторожили двор и лошадей, остальные, помывшись в бане и растопив в гриднице печь, в тепле и удобстве прекрасно выспались.
Утром вечернее знакомство повторилось. Походники жарили на костре свое мясо, со смаком его ели и призывно подымали на палочках вверх, приглашая манушей разделить с ними трапезу. И дверь вежи наконец распахнулась. На крыльцо и на верхние ступеньки лестницы высыпали с десяток детей, три женщины и позади них пожилой мужчина и парень лет семнадцати, все худые и темно-коричневого цвета. Вчерашнее спокойствие князя по поводу захватчиков вежи благотворно сказалось на ополченцах, они смотрели на манушей больше с любопытством, чем с враждебностью. Даже то, что у всех женщин и девочек старше восьми лет была обезображена левая щека, не слишком отталкивало.
– Князь Дарник, ты простишь нас, что мы без спроса вторглись в твою крепость? – на хорошем словенском языке спросила женщина, одетая чуть получше двух своих родственниц.
– А за то, что всю ночь не пускали нас в вежу, прощения попросить не хочешь? – Дулею вдруг вздумалось пошутить.
– Князь Дарник знает, что мать не может впустить в дом чужих вооруженных людей, когда в нем одни малые дети, – уверенно отпарировала главная хозяйка семьи.
– Есть ли на вас насекомые? – Это Дарника беспокоило сейчас больше всего.
– Зимой на нас насекомых не бывает, мы умеем их вымораживать. Может ли князь обещать, что здесь нас никто не обидит? – Мануши все еще сторожились, готовые снова спрятаться в башню.
– Иди уже корми своих детей, – Рыбья Кровь сделал им всем приглашающий жест и строго посмотрел на ополченцев.
Но в особом приказе к сдержанности нужды не было, ополченцы и без того сами расступались, пропуская к костру всю семью и протягивая детям куски жареного мяса и миски со вчерашней овсянкой.
Главную хозяйку манушей звали Сунитой, ее мужа Абхеем, а парня-племянника Ишой, все они, включая детей, прекрасно говорили и по-словенски, и по-хазарски, через какой-то час их присутствие в крепости уже казалось само собой разумеющимся. Выяснилось, что в Смоль они проникли еще осенью, имея с собой лошадь для волокуши и десяток коз. Сейчас от этого достатка остались лишь две козы. Никаких других съестных припасов у манушей не было, зато сохранилось три небольших мешка с перцем, корицей и другими южными приправами, чья ценность была выше равного им по весу серебра.
Князь знал, что из этого бродячего племени совсем никудышные воины, охотники и землепашцы, столь же неохотно работают они и в услужении другим людям, поэтому видел их присутствие в Смоли лишь до тех пор, пока у них при оплате еды не кончатся их мешочки с приправами.
– А еще мы умеем гадать, и за одно это нас везде хорошо кормили и давали сколько угодно материи, – попробовала не согласиться с условиями оплаты их пребывания здесь Сунита.
– Вот и возвращайтесь туда, где вам было так хорошо. Я сам не суеверный и не люблю суеверных воинов вокруг себя, – отвечал ей на это князь.
Однако Сунита не отставала, и, пока ополченцы и мануши были заняты обменом между собой местом ночлега, а Дулей со Свирем составляли список необходимых для поселения в веже вещей, мать-хозяйка раз семь предлагала сама погадать князю за любую самую ничтожную плату. И в конце концов ввела Дарника в такое раздражение, что он положил руку на свой клевец.
– Я же сказал: отстань от меня!
– Неужели неустрашимый князь Дарник боится узнать свою судьбу?
В этот момент все ополченцы и мануши находились во дворе и при слове «боится» тотчас же навострили уши. Князь понял, что надо как-то на это реагировать.
– Хорошо, погадаешь, но сперва я хочу знать, можешь ли ты себе предсказать свою судьбу?
– Могу, – гордо заявила Сунита.
– Тогда говори: в какой день смерть настигнет тебя? – И Дарник весьма недвусмысленно вытащил из-за пояса клевец. Весь его затаенно-свирепый вид говорил, что он в самом деле готов расколоть череп приставучей гадалке.
На дворе повисла звенящая тишина, все понимали, в какую западню угодила главная манушка. Она тоже молчала, но это не было молчанием страха, а всего лишь выразительная пауза перед заготовленным ответом.
– Я умру ровно за тридцать пять дней до твоей смерти, князь.
Дарник сперва даже не понял, что именно она сказала, замахнулся для удара, да в последний момент сумел удержать руку и громко расхохотался находчивости ее слов.








