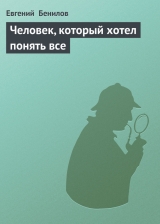
Текст книги "Человек, который хотел понять все"
Автор книги: Евгений Бенилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Таня чувствовала себя, как волк, обложенный со всех сторон красными флажками, однако, при всем при том, нисколечко не боялась. Она переживала только за Ивана – тот пока ничего не знал, ибо работал по хоздоговору в Загорске и в Москву наезжал только на выходные.
По всем признакам, кульминация планировалась власть предержащими на второй раунд разборки. Таня пришла в Институт в 11:45, под лепетание охаживавших ее подруг сняла плащ и ровно в 12:00 постучала в дверь замдиректора по оргвопросам. Первым, кого она увидала внутри, – был Давид. «Подождите за дверью, Глебова», – холодно сказал он. Таня спокойно кивнула, вышла из комнаты и… стремглав бросилась в ближайший туалет, где ее вырвало. Стоя около раковины и умываясь, она увидела в зеркале, как дверь за ее спиной с грохотом отмахнула в сторону и в туалет на всех парах влетел Бегемот. «Танька, – ужаснулся он, – ты чего здесь стоишь? Тебе ж к замдиректора надо!» – «Т-т-т… – танин подбородок почему-то заходил ходуном, – Ф-ф-ф!» – «Что? – вытаращил глаза Бегемот. – Ты чего, мать, совсем рехнулась?» Но Таня не отвечала: громко рассмеявшись, она зарыдала – с ней случилась истерика.
Что произошло в кабинете замдиректора и как, находясь в Архангельске, Давид прослышал о случившемся, Таня не узнала никогда. Он только обмолвился, что Хамазюк оказался страшно зол на Кумысникову («Изгадила все дело, дура!») и что это обстоятельство ему, Давиду, сильно помогло. А когда Таня, наконец, встретила своего спасителя наедине (в его кабинете, вечером того же дня) – тот был заметно пьян и до крайности раздражен (но не на нее, а вообще), из чего она сделала вывод, что ему пришлось товарища-полковника угощать.
Так или иначе, но, начиная с этого момента, неприятности пошли на убыль семимильными шагами. В Институте скандал уладился за два дня: Давид сумел переквалифицировать танины действия из уголовно-политических в антиобщественные.
Ну как, если бы они с Ж.Кумысниковой подрались на рынке, а не при исполнении той служебных обязанностей. И как Давиду такие дела удавалось проворачивать?!
(Глупый Бегемот даже стал капать, что это подозрительно – уж не кэгэбэшник ли он скрытый?… Да только Таня знала, что не кэгэбэшник, и Бегемоту дала заслуженный отпор.) Кстати, Давид этой историей Таню ни разу не попрекнул, ни единым словом!
Но все равно она чувствовала себя виноватой – и, как провинившаяся собака, заискивающе вертела хвостом, подскуливая и тыкаясь в его руки мокрым холодным носом…
Остальное уладилось как бы само собой. Ж.Кумысникова из милиции свое заявление забрала (сказав лейтенанту Муравьеву, что поганку Глебову простила). В райкоме обошлось не так гладко: после трехсторонних переговоров (Таня – райком – Министерство Культуры РСФСР) все до одной картинки пришлось таскать на утверждение ко второму секретарю. И он-таки с десяток зарубил, зараза, включая одну танину любимую… ну, здесь уже ничего не попишешь! Неожиданно упорными оказались институтские комсомольцы: тягали Таню на проработки три раза, требуя сказать, как дошла до жизни такой. Таня не говорила, а лишь презрительно смотрела в окно, в результате чего из комсомола вылетела. Ну и плевать, она на дипломатическую работу не собиралась.
Единственная проблема возникла с Иваном, неожиданно заинтересовавшимся, почему член.-корр. Фельдман стал спасать м.н.с. б./с. Глебову из лап всемогущего КГБ. Однако реальных фактов у Ивана не имелось, и он, ворча, удовлетворился таниным объяснением, что, «видно, хороший человек – Фельдман, раз за правду вступился». Таня считала такую версию событий логичной, а главное, правдивой – однако предпочла бы не рассказывать мужу ничего вообще. Что, к сожалению, было невозможно, ибо работали они в одном и том же Институте.
Последним отголоском бури явился приказ о строгом выговоре м.н.с.
Глебовой, появившийся через неделю на доске объявлений возле отдела кадров. Они даже не лишили ее премии! Шагая домой в тот вечер по Страстному бульвару, Таня глубоко вдыхала влажный осенний воздух и думала, что, несмотря на темноту, сырость, холод, болезни, убожество, нищету и несвободу, жизнь всех людей счастлива и удивительна. Да, именно всех людей, всех людей на свете! – ибо ее собственная, отдельная мера счастья не делала Таню счастливой вполне.
В тот день ей исполнялось двадцать три года.
***
Таня села на постели и подогнула колени под подбородок… почему она не может спать? Что сейчас – ночь, утро?… Почему задернуты шторы? Она медленно подобралась к краю кровати и спустила босые ноги на пол – где тапочки? А где халат? Завернувшись в теплый байковый халат из шкафа, она подобрала с пола мокрое полотенце и отнесла в ванную. Теперь что? Несколько секунд Таня стояла в нерешительности… нет, забыла.
Ну, и Бог с ним…
Волоча ноги по керамическим плиткам пола, она прошла в гостиную, включила электрокамин и рухнула на белую овечью шкуру перед самым радиатором. Потом обвела взглядом комнату: элегантная мебель, цветы в букетах, картинки на стенах: одну нарисовала сама, две выбрала на выставках… Сколько сил ушло на обустройство дома – а Малыш так ни разу и не посмотрел. На что это все теперь?
«Съеду, – с озлоблением подумала она. – В двухкомнатную квартиру, как всю жизнь прожила».
«А чего ж тогда Иван от тебя ушел, если ты его защищала да лелеяла?»
Танины воспоминания. Часть 5
Первым – под влиянием жизни с Иваном – изменился танин стиль рисования.
Прежде всего, рисовать она стала лучше, и не только за счет естественного прогресса, но и потому, что Иван указывал ей ошибки. В этом смысле ему не было равных: бросит один взгляд на картинку, а потом ткнет длинным тонким пальцем в угол и скажет: «Положи здесь тень погуще». Его советам Таня следовала беспрекословно – ни разу не ошибся. Жаль, что сам не рисовал, – когда она смотрела его старые картинки, так только расстраивалась.
А вот оценить уже законченную картинку Иван не мог, так как мыслил категориями «правильно – неправильно», а не «хорошо – плохо». Здесь уже не было равных Давиду: не будучи художником, тот обладал идеальным вкусом, да и трезвой головой впридачу (Таня всегда у него спрашивала, сколько за картинку просить, если объявлялся покупатель).
Но прогресс ее как художника – это одно, а изменившаяся тематика – совсем другое. Говоря попросту, она стала рисовать другие вещи. Таня это заметила, когда посмотрела однажды на три последние к тому времени картинки и на всех трех обнаружила лестницы! К месту они были, не к месту – роли не играло (наверное к месту, иначе бы Иван заметил)… но почему она вдруг захотела рисовать лестницы?
Заинтересовавшись, Таня вытащила чистый ватман и в полтора часа нарисовала пастелью композицию, состоявшую из одних лестниц, – и такое получила при этом удовольствие, что хоть к Игорю Генриховичу на прием записывайся!
А вот пейзажей она стала рисовать меньше – особенно без зданий: стало неинтересно. Церкви – тоже неинтересно. Интереснее всего – старые московские дома, совсем старые: развалюхи с галерейками и мезонинами… Нарисовала несколько портретов маслом, что оказалось полезно для техники: сделать так, чтобы похоже было, а фотографией – не было. Но самыми интересными оставались – лестницы.
Может, иваново влияние здесь и не при чем? Ведь могла же Таня просто измениться с возрастом?
А еще, примерно в то же время, у нее в голове поселилась Другая Женщина.
Таня точно помнит день, когда та заговорила впервые: 29-ый день рожденья, как раз перед вторым разводом. Гости уже ушли, посуда была вымыта, Андрюшка и Иван – уложены спать. Погасив свет и открыв окно, Таня сидела без сил на табуретке в кухне. «Ну что – осталась, наконец, одна?» – спросил ее кто-то изнутри. "Ты кто?
– удивилась Таня, – я тебя знаю?" – «Знаешь, – отвечал голос. – Я – это ты. Ну, иди спать, чего сидеть без смысла…» С усилием встав, Таня поплелась в ванную.
Голос лгал: Другая Женщина Таней не была. Потому что с настоящей ею она никогда не соглашалась. Всегда спорила. А иногда (обычно в критические минуты) перехватывала бразды правления таниным телом и такое творила, что последствия удавалось расхлебать далеко не всегда. Иногда Другая Женщина уезжала куда-то и отсутствовала подолгу – по два-три месяца – но, в конце концов, неминуемо возвращалась домой. Таня не говорила о ней никому. Да и некому: Давида с ней уже не было, а Игорь Генрихович умер полгода тому назад. А другим рассказать – так не поверят, скажут: с ума сошла, раздвоение личности. Какая чушь!… неужто непонятно, что Другая Женщина не сама по себе в таниной голове завелась, а от Ивана переселилась? (Недаром она его так хорошо знала – можно сказать, насквозь видела…) А иногда Тане казалось, что это игра такая, ею же и придуманная, – чтоб можно было хоть с кем-нибудь откровенно поговорить, помимо самой себя.
То, что у Ивана кто-то появился, Тане сообщила как раз Другая Женщина.
Таня-то по наивности подумала, что у него обострение начинается, и запаниковала: почти семь лет не было – с того случая после свадьбы. А тут стал приходить с работы поздно и какой-то смурной, что делал – вразумительно объяснить затруднялся. Заподозрить супружескую измену Таня не могла, ибо считала его чем-то средним между сыном и собственностью: она его подобрала, выходила – можно сказать, родила заново… Он даже потолстел немного на ее готовке! А теперь подумайте: разве может вам изменить ваш сын? Или ваш дом?
Но Другую Женщину не проведешь – жаль только, что Таня ее не слушала. А с другой стороны, может, и хорошо, что не слушала: в таких случаях изменить все равно ничего нельзя – только скандалы бы пошли.
Последний день их семейной жизни начался, как обычно: Таня приготовила завтрак на троих, отправила Андрюшку в школу и даже успела постирать, пока Иван собирался. Потом они поехали в Институт и расстались в вестибюле, договорившись вечером друг друга не ждать: кто первым освободится, тот первым домой и едет (Андрюшку из школы забирала танина мама). В тот раз Таня засиделась до половины девятого: Плискин попросил церковь с Кривоколенного дорисовать, и когда пришла домой, то Андрюшка уже ложился спать – Иван накормил его приготовленным тещей ужином. Первым, что ей бросилось в глаза, был букет желтых роз на столе в гостиной (она же супружеская спальня, она же студия). «Чего это он?» – удивилась Таня и пошла говорить сыну спокойной ночи. Когда она вышла из андрюшкиной комнаты, Иван стоял, странно понурившись, у стола с розами… у Тани нехорошо защемило сердце. «Что случилось? – спросила она со страхом и указала на букет. – По какому случаю?» Иван посмотрел на нее со слезами на глазах и коротко сказал:
«Я ухожу».
Они проговорили всю ночь. Таня будто оледенела: смотрела в сторону и отвечала на вопросы только со второго раза; Иван три раза начинал плакать. Но вместе с тем оставался тверд, как скала, – она не ожидала в нем такой силы. О том, как будут расставаться, договорились так: Таня утром уходит на работу, а когда возвращается – его уже нет. Они легли спать около пяти утра, причем Иван – отдельно от нее, на полу… боялся, что она его изнасилует, что ли? Утром следующего дня Таня разбудила его, как договорились, за две минуты до своего ухода в Институт.
Этот день навсегда остался самым страшным днем ее жизни – много хуже, чем тот, когда отменилась выставка. Ко всему прочему, от недосыпа она чувствовала себя ужасно физически: года ее были не те – по ночам отношения выяснять. И все время в подсознании теплилась сумасшедшая надежда: приходит она домой, а Иван на диване сидит: в последний момент решил-таки остаться. Как Таня себя за глупость ни ругала, а все ж в глубине души надеялась. И точно: входит вечером в квартиру, и первое, что видит, – единственные ивановы теплые ботинки посреди прихожей. У Тани перехватило дыхание и закружилась голова… а тут, как на зло, телефон звонит. Слабой рукой она сняла трубку (аппарат висел на стене в прихожей) и услыхала голос мужа: «Танюш, я у тебя ботинки забыл, – сказал Иван извиняющимся тоном. – Надо же, глупость какая, в тапочках в такси сел». – «Я принесу их завтра в Институт», – четко, как лейтенант на рапорте, ответила Таня и повесила трубку. «Видно, торопился очень, – весело объяснила она выглянувшей из кухни маме (пришедшей, как обычно, присмотреть за внуком после школы). – Так торопился, что даже без ботинок убежал!» И засмеялась… громче, громче, еще громче… пока смех не перешел в рыдания. С ней случилась вторая в ее жизни истерика – прямо на глазах у мамы и прибежавшего на крики Андрюшки.
Они проработали с Иваном в одном Институте до самой таниной смерти – встречаясь в столовой, в очереди за зарплатой, на профсоюзном собрании и просто в коридорах. Хуже того, его новая подруга тоже работала в Институте; равно, как и ее бывший муж. Таня было собралась мужа этого закадрить (и тем самым замкнуть круг), однако передумала: он ей, во-первых, не нравился; а во-вторых, уже обзавелся новой подругой – таниной приятельницей Зобицкой.
Эти совпадения придали всему событию спасительный для Тани комический оттенок.
***
"А что потом было, помнишь? Потом у тебя завелся Игорек, свободный художник, – на два года. А параллельно с ним – странный тип Гоша, возникавший спонтанно каждые два месяца и оставлявший на хранение атташе-кейс с шифром.
Причем, как только Игорек в пьяном виде под машину попал, так тут же и Гоша исчез и больше не появлялся – за его атташе-кейсом потом из милиции приходили, помнишь? Затем какие-то еще возникали, кратковременные – кто на год, кто на полгода… А последним был физик Женька: ворвался в твою жизнь, словно смерч, влюбил в себя чуть ли не насильно, а потом смотался в Австралию – с женой и деточками. И все твои мужчины тебя не любили, а использовали: Давид брал у тебя молодость, Иван – здоровье, Игорек – уют, а для Гоши – ты просто работала камерой хранения…
А что, по-твоему, у меня брал Женька – молодость? здоровье?… Чушь! Он меня на год моложе был, да и здоровей – скорее уж я его душевным здоровьем пользовалась… Нет, Женька хоть в Австралию и уехал, а меня любил! Он просто детей не мог бросить.
Да, не любил он тебя, а ценил – за то, что ты красивее и ярче оставившей его любовницы. Он тебя использовал в качестве лекарства для своего самолюбия!
Лжешь, лжешь, ЛЖЕШЬ!!!"
Вздрогнув, Таня открыла глаза и рывком села на овечьей шкуре. В голове царила полная и окончательная ясность: она знала ответы на все свои вопросы.
(Насторожившийся дом прислушивался к ее дыханию тысячей невидимых ушей.
Невозмутимые стенные часы прокалывали темноту остриями светящихся стрелок.) Таня встала, неторопливо прошла в свою комнату и сбросила халат на пол. Порывшись в комоде, одела трусики, лифчик, колготки и комбинацию – все с иголочки новое и подобранное в тон (отложила для встречи Малыша после Госпиталя). Потом распахнула шкаф и стала перебирать свой гардероб: не то… не то… не то… вот это. Она выбрала длинное бархатное платье с необычной завязкой у пояса – точную копию того, в котором впервые встретила Малыша. Теперь причесаться… косметика… кольца… серьги… бусы… Через полчаса Таня была во всеоружии, даже шрам – и тот исчез с ее лица без следа. Надев туфли на высоком каблуке, она спустилась в гараж, села в машину и завела мотор. Так, ничего не забыла? Вроде бы ничего… ну, с Богом! Она посмотрела на часы (без десяти шесть), отпустила тормоз и выехала на улицу. Пустой, как морская ракушка, дом равнодушно смотрел ей вслед слепыми глазницами окон.
Негустая предутренняя темнота обнимала Город. Дождя не было. Черные лужи на сером асфальте источали к небу белые спирали тумана. Таня свернула в пустынную улицу, ведущую в центр.
«Куда это ты собралась?»
Постепенно улица сузилась – Таня въехала в Сити. (Небоскребы, витрины шикарных магазинов, кафе… а вот крошечный сквер, в котором так уютно бывало, сидя под навесом, выпить чашечку горячего шоколада. Черные стволы деревьев переплелись сонмами безлистных веток. Молчаливая скамейка безмятежно блестела каплями росы.) Поблуждав в лабиринте узких улиц, Таня выехала на мост через Городскую Бухту. Рассекаемое молоко тумана вихрилось позади автомобиля десятками маленьких смерчей. Удивленные светофоры разноцветно глазели по сторонам.
«Я тебя спрашиваю, куда ты едешь?»
Промчавшись по пустынному мосту, Таня свернула на шоссе вдоль океана.
«Скоро увидишь».
Дорога начала подниматься в гору, и она утопила педаль акселератора поглубже. (Управлять машиной в туфлях на каблуке было неудобно.) На левой стороне улицы теснились коттеджи, на правой – раскинулся парк, позади которого угадывался океан.
«Я требую, чтобы ты сказала, куда едешь!»
Не обращая внимания на крики Другой Женщины внутри головы, Таня еще раз проверила логику своего решения:
Жить одной, без Малыша, она не в состоянии.
И идти с ним на Четвертый Ярус тоже невозможно.
Ну да, все правильно… Она отпустила акселератор и переставила ногу на тормоз – автомобиль плавно остановился.
Перевалив через холм, шоссе спускалось здесь под уклон, потом, метров через триста, резко сворачивало влево – парк на правой стороне остался позади.
Таня вылезла из машины, подошла к краю дороги и посмотрела вниз: нагромождение мокрых валунов уходило по наклонной плоскости к далекой белой линии прибоя, дальше ворочалось серое месиво холодного океана. Уже почти рассвело. Дождя не было, но воздух насыщала влага. Негромко рычал мотор автомобиля. С океана доносился еле слышный рев разбивавшихся о скалы волн.
Пора.
Таня тщательно одернула платье, села в машину и, глядя в зеркало заднего обзора, поправила прическу. Потом перевела ручку передач в положение «Drive» – автомобиль тронулся с места. Ремень безопасности остался непристегнут.
«Что ты собираешься делать? Подожди!»
Утопив педаль акселератора до пола, Таня послала машину вперед – быстрее… быстрее… быстрее… Уличные фонари и столбы с дорожными знаками с ревом пролетали мимо, влажный холодный воздух хлестал в открытое окно – ну, давай… сейчас! Разбив на куски невысокий кирпичный парапет, машина вылетела с дороги, описала крутую дугу и врезалась носом в камни. Раздался глухой удар и скрежет сминаемого металла, Таню с силой ударило лицом о рулевое колесо (надувной мешок-амортизатор почему-то не сработал). Сознания она не потеряла – просто было очень больно… а машина, грузно подпрыгнув, перевернулась в воздухе и покатилась вниз по склону.
За две с половиной секунды, прожитые в катившемся вниз автомобиле, Таня откуда-то поняла, что ее решение правильно. Оставалось лишь немного подождать – и она вновь увидит своего Малыша.
5. Галлюцинации
– Вставайте, Франц. Надо ехать.
Открыв глаза, он не сразу понял, где находится, ибо все вокруг изменилось до неузнаваемости. Пол стал грязно-серым, стены – прорезаны извилистыми трещинами, часть листьев в вазе засохла, часть сгнила… да и не ваза то была, а какой-то уродливый сосуд из странного пористого пластика. Даже краска на тумбочке, и та облупилась, свисая длинными неопрятными клочьями. А холод? Почему стало так холодно? А откуда взялся этот отвратительный запах?…
Привстав на локте, Франц потряс головой – и картинка перед его глазами переменилась, как в калейдоскопе: трещины на стенах затянулись, тумбочка заблестела свежей краской, запах исчез, ваза плавно изменила форму и опять стала хрустальной… Что за бред? Он еще раз потряс головой – и предметы стали меняться непрерывно, не останавливаясь ни на секунду…
– Я здесь, – голос раздавался с другой стороны, от двери. – Вставайте, пора ехать.
Франц медленно перевернулся на правый бок и увидал плавно менявшегося человека в плавно менявшемся дверном проеме. А-а, Фриц… Будто услыхав его мысли, лицо человека на мгновение зафиксировало свои черты: карие выразительные глаза, небольшие усы, очки в черной выгнутой оправе. Но тут же все поплыло опять – лицо, фигура, стены, запахи, пол…
– Подождите, Фриц, я сейчас, – с трудом выговорил Франц. – Галлюцинации, понимаете, замучили… – он поразился нелепости своих слов.
– Это из-за отсутствия лекарств, – голос Следователя непрерывно менял громкость, высоту и тембр. – Ничего, на Четвертом Ярусе возобновите курс – и все будет в порядке.
– А Таня? Тани здесь нет?
Галлюцинации начались у Франца вчера ночью, сразу после того, как Таня легла к нему в постель. Сначала это было слабое дрожание отдельных предметов и легкие изменения цветов, потом появился неприятный сладковатый запах.
Лекарства!… ему не дали вечером лекарств! У Тани оказались с собой ее витамины, однако принимать первые попавшиеся таблетки вместо нужных Францу показалось глупым. «Когда я прижимаюсь к тебе, малыш, мне легче, – сказал он. – Даже рана в груди не болит», – и Таня прильнула к нему всем телом.
А потом они уснули.
А потом она, видимо, ушла.
Франц почувствовал резкую боль под ложечкой: уш-ла.
– Почему здесь должна быть Таня? – несмотря на постоянные изменения тембра голоса, было слышно, что Фриц удивлен. – Она же не собиралась вас провожать.
– Неважно, – Франц неуверенно сел на кровати и спустил ноги на плавно менявший температуру пол. – Вы принесли одежду?
– Разложена на стуле… прямо перед вами. Оденетесь сами?
– Сам.
– Когда кончите – позовите, я жду в коридоре возле двери.
– Хорошо, – Франц протянул руку и нащупал сложенную на стуле одежду. – Я сейчас.
Цвета, запахи, расстояния и температуры непрерывно менялись; временные промежутки теряли протяженность сразу же по их прошествии. Франц не мог сказать, сколько минут он надевал рубашку, как долго провозился с ремнем брюк, сколько времени ушло на поиски ботинок. Завязав шнурки, он в последний раз окинул взглядом комнату и на косоугольном параллелепипеде тумбочки заметил белое пятно.
Что это? Путешествие вокруг кровати заняло икс минут – на ощупь пятно оказалось сложенным вчетверо листком бумаги, точнее сказать было невозможно… Наверное, Таня оставила записку перед тем, как уйти – не хотела его будить. Он поднес листок к носу и изо всех сил попытался сфокусировать взгляд на неразборчивом узоре извивавшихся слов… нет, бесполезно. Франц сунул записку в нагрудный карман рубашки и, спотыкаясь, направился к двери. «Фриц!» – громко позвал он.
Поддерживаемый Следователем под локоть, Франц спустился по лестнице, пересек вестибюль и сел в машину. Когда они, наконец, тронулись, ему стало лучше: холодный ветер бил сквозь открытое окно в лицо, и картинка на время зафиксировалась. Франц немного воспрянул духом, однако, приглядевшись, обнаружил, что окружавший дорогу лес состоит не из деревьев, а из огромных, покосившихся в разные стороны, каменных крестов. И тут же его ощущения заплясали опять: кресты трансформировались в столбы, потом – в извилистые веревки, червями уползавшие вверх, в пустоту. От ветра запахло гнилью и разложением, облака на небе поплыли черными пузатыми дирижаблями.
– Как себя чувствуете? Лучше не стало?
– Нет.
Они въехали в Город, и пляска ощущений у Франца опять прекратилась. Но, Господи, на что этот Город был похож!…
Лужи жидкой грязи покрывали узкие немощеные улицы, колеи в проезжей части были настолько глубоки, что машина иногда царапала брюхом землю; тротуаров не имелось. Дважды Франц замечал на обочине раздувшиеся трупы каких-то странных животных, похожих на огромных бесхвостых кошек – грязная бурая шерсть их торчала слипшимися клочьями. Дома выглядели ужасно: иногда – одноэтажные полуразвалившиеся халупы, иногда – занимавшие целый квартал многоквартирные чудовища из уродливого красного кирпича. Мертвые окна царапали глаза зазубринами разбитых стекол, ни одного человека во дворах видно не было. Кое-где, как бы заменяя скверы и парки, вдоль улиц тянулись пустыри, заваленные горами зловонного мусора и гниющих отбросов. «Если это все галлюцинации, – подумал Франц, – то почему они не меняются?» Он в ужасе посмотрел на Фрица: черты лица Следователя плавно сложились в птичий клюв, а потом, побыв мгновение нормальным человеческим лицом, перетекли во что-то невообразимо-многоцветное. «Слава Богу, я все еще галлюцинирую…» – подумал Франц и усмехнулся кажущейся нелогичности этой фразы.
Машина остановилась. «Здесь», – сказал Фриц.
Почти не нуждаясь в посторонней помощи, Франц прошел за Следователем сквозь покосившуюся калитку, оскальзываясь в глиняной грязи, пересек двор; дул пронизывающе сырой ветер. Они взошли на крыльцо (полуоткрытая дверь повисла на одной петле), прошагали через анфиладу пустых комнат со скрипучими деревянными полами и запахом гнили, стали спускаться по уходившей штопором вниз металлической лестнице. Фриц не произносил ни слова и, кажется, торопился; происходившее напоминало старинный кинофильм: движение чуть ускоренно и нет звука. Франц поспевал за Следователем с большим трудом – ныла рана в груди и одолевала слабость. Галлюцинации, однако, идти не мешали: все вокруг, кроме лица и фигуры Фрица, стояло на месте. Они спустились по лестнице и оказались в длинном узком коридоре с земляными стенами и дощатым потолком, подпертым прогнившими деревянными столбами. Следователь торопливо шагал вперед.
«Подождите, – окликнул его Франц, – мне трудно идти». – «Хорошо, – бросил через плечо Фриц, сбавляя шаг. – Кстати, можете задать какие-нибудь интересующие вас вопросы – нам идти еще минуты две». Вопросы? Франц усмехнулся – а ну как спросить Следователя, почему лицо его так похоже на морду мертвой обезьяны…
«Могу ли я сейчас передумать и остаться здесь?» – «Да». – «А потом опять передумать – и отправиться на Четвертый Ярус?» – «Нет». – «Почему?» – «Долго объяснять, – отвечал Фриц, – а мы уже почти пришли. Есть ли у вас короткие вопросы?» – «Нет». С потолка туннеля капала вода, на земляных стенах блестели какие-то потеки. «Ну, тогда я вам кое-что скажу, – со странной усмешкой произнес Следователь. – Помните, мы с вами обсуждали разные теории? Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. И если эта теория справедлива, мой друг, то вам придется очень плохо в конце концов». – «Почему?»
– удивился Франц. Коридор кончился, и они оказались в маленьком помещении с легко узнаваемым входом в Лифт в дальней стене. «Потому, что вы слишком любопытны». Фриц хлопнул в ладоши, и двери кабины медленно разошлись. «Ну и что?» – спросил Франц, заходя внутрь. «Попомните мои слова – желание понять все заведет вас в тупик!» – сказал ему в спину Следователь. Франц обернулся, чтобы ответить, и – в этот самый миг – лицо Фрица перестало менять свои черты и застыло.
Франц содрогнулся от ужаса и отвращения: синеватые язвы обильно покрывали одутловатые щеки Следователя, на правом глазу темнело бельмо, ярко-красные мокрые губы перекосила отталкивающая усмешка. Разница между прежним Фрицем и нынешним была такая же, как между Дорианом Грэем и его портретом.
Что же тогда галлюцинация – то, что Франц видит сейчас, или то, что он видел раньше?
И, будто отвечая на его (незаданный) вопрос, Следователь разлепил губы и медленно, с придыханием произнес:
– Однако сегодня, Франц, любопытство оказало вам услугу – увело отсюда…
Вы ведь, наконец, поняли про нас все?
Он еще раз хлопнул в ладоши – двери Лифта стали затворяться. Франц стоял ни жив, ни мертв, прижавшись к задней стене кабины, как вдруг… ТАНЯ! ТАНЯ ОСТАЛАСЬ ЗДЕСЬ!
Он шагнул вперед. Двери закрылись только наполовину, времени выскочить оставалось предостаточно.
И… натолкнулся на взгляд Следователя: «Остаешься с нами?» – как бы спрашивали его глаза. Франц на мгновение задержался на месте.
А потом бросился вперед… но лишь ударился грудью о закрывшиеся двери…
Что же он наделал?!… Как теперь быть?… Стой!…
Лифт поехал вверх.
Ничего не сознавая, Франц стал биться о стены (тяжелые удары резонировали в крошечной кабине)… как вдруг острая боль пронизала грудь. Дыхание у него перехватило, ноги подкосились – он упал на пол. Подсунув руку под свитер, он схватился за то место, где была рана… и вдруг нащупал в нагрудном кармане рубашки сложенный в несколько раз листок бумаги. Что это? Трясущимися пальцами Франц вытащил листок и некоторое время держал перед глазами, не в силах понять написанного. Танин почерк! Откуда?… Почему в кармане? А-а, это – записка, найденная на тумбочке…
Большие угловатые буквы шли через весь листок. Одна фраза:
Б У Д Ь С Ч А С Т Л И В!
И подпись: Т В О Я Я.
Лифт остановился.
С трудом поднявшись на ноги, Франц вышел наружу и оказался в широком светлом помещении с прозрачными стенами. Прямо перед выходом из Лифта располагалась стойка с большим стеклянным экраном и мигающими разноцветными словами: «Добро пожаловать в Дом 21/17/4!» И внизу, маленькими буквами: «Ваше жилище расположено на 6-ом этаже».








