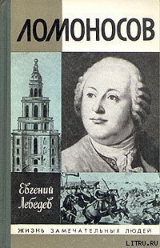
Текст книги "Ломоносов"
Автор книги: Евгений Лебедев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 54 страниц)
Это внедрение в русскую историю было, как и все у Ломоносова, основательным, энергичным, самозабвенным и продолжительным (по существу, до конца жизни).
И. И. Шувалов, знавший о новой страсти Ломоносова, «ободрил» его. 4 января 1753 года Ломоносов писал ему: «Коль великим счастием я себе почесть могу, ежели моею возможною способностию древность российского народа и славные дела наших государей свету откроются, то весьма чувствую». Шувалов известил императрицу о намерении Ломоносова. В марте того же года (когда Ломоносов, как мы помним, помчался вслед за двором в Москву просить о привилегии на стекольную фабрику) Елизавета, помимо того, что пожаловала ему Усть-Рудицу, «на куртаге Ломоносову через камергера Шувалова изволила объявить, в бытность его в Москве, что ея величество охотно желала бы видеть Российскую историю, написанную его штилем. Сие приняв он с благодарением и возвратясь в Санкт-Петербург, стал с рачением собирать к тому нужные материалы».
В августе 1764 года Ломоносов писал, что он трудился «в собрании и сочинении Российской истории около двенадцати лет». В исходе третьего года работы (1754), как явствует из ломоносовского отчета президенту, он уже перешел от «собрания» к «сочинению». «В истории: сочинен опыт истории словенского народа до Рурика. Дедикация. Вступление. Глава 1, о старобытных жителях в России; глава 2, о величестве и поколениях словенского народа; глава 3, о древности словенского народа, всего 8 листов». В 1758 году работа над «Древней Российской историей от начала Российского народа до кончины Великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года» была завершена.
Ломоносов не собирался ограничиваться этим рубежом. В конце 1750-х годов, как мы помним, он трудился над поэмой «Петр Великий», исторический материал которой охватывает не только XVII век, но имеет «выходы» и в века предшествующие. Кроме того, в 1757 году Ломоносов, по поручению И. И. Шувалова, делал примечания на рукопись первых восьми глав «Истории Российской империи при Петре Великом» Вольтера, а также составил в качестве подготовительного материала для Вольтера «Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи», которое французский писатель практически без изменения использовал в IV и V главах своей «Истории». Точно так же и ломоносовские примечания почти все были учтены Вольтером. Однако ж Ломоносов был не в состоянии изменить в основе вольтеровскую концепцию русской истории, в которой все зиждилось на глубоко неверном постулате о беспросветном варварстве в России до Петра I, вообще на непонимании внутренней логики всего ее предшествующего культурно-исторического развития. (Интересно, что канцлер Бестужев категорически был против кандидатуры Вольтера как историка Петра I.) Так что одной из важных внешних задач ломоносовской «Древней Российской истории» следует назвать установку на то, чтобы «выправить ошибки иностранных писателей, слишком мало осведомленных и только списывающих друг у друга».
9 сентября 1758 года К. Г. Разумовский подписал указ о печатании «Древней Российской истории» в Академической типографии «для пользы публики без всякого укоснения» (иначе и быть не могло: книга писалась по заказу самой императрицы). Однако весной 1759 года, когда уже было готово три печатных листа первой части, Ломоносов забирает рукопись из типографии. Причина была чисто техническая: он решил, что для читателей будет удобнее, если подстрочные «примечания и изъяснения под текстом» вынести в конец книги. Полностью «Российская история» увидела свет уже после смерти Ломоносова.
Книга состояла из вступления и двух частей: I. «О России прежде Рурика», П. «От начала княжения Рурикова до кончины Ярослава Первого». Наибольшую научную ценность для потомков представляют собою вступление и первая часть, в то время как вторая – это всего лишь рассказ о княжении Рюрика, Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Яро-полка, Владимира, Святополка и Ярослава Мудрого. Впрочем, это только сейчас вторая часть воспринимается «всего лишь» рассказом. Для своего времени Ломоносов проделал огромную работу по извлечению непротиворечивых данных о названных князьях из Повести временных лет, апокрифического сказания о начале Новгорода, Никоновской летописи, Степенной книги, византийских, польских и скандинавских источников, а также из В. Н. Татищева. Кроме того, рассказ этот был написан небывало внятным, энергичным и благозвучным языком.
Общий взгляд Ломоносова на задачи исторической науки и начало собственно русской истории изложен во вступлении и первой части. Он формировался в борьбе с норманистами и норманизмом. Миллеру, например, идеальный историк виделся так: «Он должен казаться без отечества, без веры, без государя». С гражданской точки зрения, столь двусмысленно выраженная мысль о необходимости для историка быть бесстрастным, конечно же, не могла не возмутить Ломоносова. Если отвлечься от экстравагантной формы ее изложения, сама по себе она очевидна и вряд ли может вызвать возражения. Ломоносов не меньше Миллера был озабочен мыслью об объективности историографии. На свой манер ту же мысль спустя семьдесят лет выразит Н. М. Карамзин в конце девятого тома «Истории Государства Российского»: «История злопамятнее народа». А чуть позже Пушкин устами Пимена провозгласит этическое правило, общее и для летописцев и для историографов, предписывающее составлять «правдивые сказанья», «не мудрствуя лукаво». Но ни Карамзин, ни Пушкин с его одним из самых задушевных героев не «казались без отечества, без веры, без государя». В высказываниях Миллера цеховая кичливость ученого, нацеленного на эпатаж неучей патриотов, по существу, обесценивала рациональное зерно, содержавшееся в нем. Ведь вот пушкинский Пимен (идеальный образ бесстрастного историка, удалившегося от мира и неподвластного мирскому закону) плод своего «труда, завещанного от Бога», мыслит себе не обособленно от мира, а в связи с миром – как высокое и бескорыстное поучение:
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд, усердный, безымянный,
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.
Ломоносов видел в истории прежде всего великую соединяющую духовную силу и в соответствии с этим определял ее первейшую задачу: «Велико есть дело смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу и, пренеся минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долготою времени разделила». Но соединить эпохи значит сделать бессмертным не только «множество народа», но и каждого человека. Пока он отделен от истории, он конечен, смертен, обречен. Приобщение к истории для него – это приобщение к бессмертию.
Вторую задачу истории Ломоносов определял как воспитательную: «...она (то есть история. – Е. Л.) дает государям примеры правления, подданным повиновения, воинам мужества, судиям правосудия, младым старых разум, престарелым сугубую твердость в советах, каждому незлобивое увеселение, с несказанною пользою соединенное».
Все вступление полемично по отношению к работам Байера и Миллера. Для Ломоносова история России – это в первую очередь история русского народа, начавшаяся задолго до возникновения феодальной государственности. Столь глубокий взгляд не был доступен никому из современников Ломоносова. Кроме того, Ломоносов, помещая русскую историю, как теперь говорят, в контекст мировой истории, благородно отметает всяческую национально-престижную суету вокруг серьезных культурных проблем: «Большая одних древность не отъемлет славы у других, которых имя позже в свете распространилось. Деяния древних греков не помрачают римских, как римские не могут унизить тех, которые по долгом времени приняли начало своея славы. Начинаются народы, когда другие рассыпаются: одного разрушение дает происхождение другому. Не время, но великие дела приносят преимущество». Здесь что ни слово – упрек норманистам, считавшим варягов древнее русских и потому – развитее в культурном отношении.
«Однако, противу мнения и чаяния многих, – спорит Ломоносов, – толь довольно предки наши оставили на память, что, применись к летописателям других народов, на своих жаловаться не найдем причины. Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели». Ломоносов убежден, что иностранцы, если только они станут на объективную точку зрения (к чему и приглашает вступление), «инако рассуждать принуждены будут, снесши своих и наших предков и сличив происхождение, поступки, обычаи и склонности народов между собою».
Ломоносов тут же, во вступлении, показывает пример такого «инакорассуждения» на основе сопоставления различных эпох и народов. Отмечая «некоторое общее подобие в порядке деяний российских с римскими» (например, в ранней истории Рима: «владение первых королей, соответствующее числом лет и государей самодержавству первых самовластных великих князей российских»), он предлагает далее такое вот «уравнение», в котором указываются и различия и которое увенчивается государственно-полезным выводом: «...гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные городы некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом едино-начальство кесарей представляю согласным самодержавству государей московских. Одно примечаю несходство, что Римское государство гражданским владением возвысилось, само-державством пришло в упадок. Напротив того, разномысленною вольностию Россия едва не дошла до крайнего разрушения; самодержавством как сначала усилилась, так и после несчастливых времен умножилась, укрепилась, прославилась... Едино сие рассуждение довольно являет, коль полезные к сохранению целости государств правила из примеров, историею преданных, изыскать можно». Этим рассуждением Ломоносов не только обосновывал целесообразность единой прочной власти, но еще и приучал современников к широкому взгляду на русскую и мировую историю, что было ново и благодетельно для развивающихся русских умов. Он как бы говорил: каждый народ движется по своему пути, и даже если он проходит некоторые стадии, общие с другим народом или народами, это внешнее сходство должно лишь резче и решительнее подчеркнуть глубокую самобытность его. В мире людей, как в мире природы, все существует «в дивной разности».
Вся первая часть «Древней российской истории» развивает эти фундаментальные мысли вступления.
Полемизируя с Байером и Миллером и воссоздавая древнейшую историю славянства, Ломоносов исходит из очевидной для него и недоступной или нежелательной для норманистов мысли о невозможности существования (даже в самом далеком прошлом) этнически чистых народов: «...ни о едином языке утвердить невозможно, чтобы он с начала стоял сам собою без всякого примешения. Большую часть оных видим военными неспокойствами, переселениями и странствованиями в таком между собою сплетении, что рассмотреть почти невозможно, коему народу дать вящее преимущество».
Широко привлекая свидетельства античных историков, Ломоносов убедительно доказывает «дальную древность славенского народа». Он пишет о том, что еще во времена могущества римлян славяне, жившие в бассейне Дуная, воевали с ними, о том, что и во времена упадка Римской империи военные отряды славян входили в состав германских племен, наступавших на ее границы. Но гораздо больше урона славяне причинили Восточной Римской империи – Византии: «В начале шестого столетия по Христе славенское имя весьма прославилось; и могущество сего народа не токмо во Фракии, в Македонии, в Истрии и в Далмации было страшно, но и к разрушению Римской империи способствовало весьма много».
Ломоносов приводит свидетельство о славянах «того же веку писателя» Прокопия Кесарийского, автора «Готской войны», где повествуется о схватках византийцев со славянскими и антскими войсками при императоре Юстиниане. «Сии народы, славяне и анты, – гласит это место в переводе Ломоносова, – не подлежат единодержавной власти, но издревле живут под общенародным повелительством. Пользу и вред все обще приемлют... Единого бога, творца грому и всего мира господа исповедуют. Ему приносят волов и другие жертвы. Судьбины не признавают и не приписывают ей никаких действий в роде человеческом... Когда на бой выходят, многие идут пеши со щитами и копьями; лат не носят. Иные, не имея на плечах одеяния, в одних штанах бьются с неприятелем. Обоих язык один – странный. Нижé видом тела разнствуют, ибо все ростом высоки и членами безмерно крепки, цветом нижé весьма белы, нижé волосом желты, ни очень черны, но все русоваты. Жизнь содержат... сухою и простою пищею и... весьма нечисто ходят, натурою незлобны, нелукавы и в простоте много нравами сходны с гуннами».
Это упоминание византийца о славянах, наряду со свидетельством Иорнанда (Иордана), латинского автора «того же» VI века н. э., является неопровержимым доводом в пользу ломоносовской идеи не только о «дальней древности славенского народа», но и о «дальней древности» его государственности, ибо отсутствие «единодержавной власти» еще не означает отсутствия какой бы то ни было власти. Указание же на то, что славяне «издревле живут под общенародным повелительством», свидетельствует о стихийно демократической форме правления, принятой славянами. Иными словами, как минимум за триста лет до Рюрика у славян существовала своя государственность. Если же принять во внимание слово «издревле» (а поступать иначе нет оснований – Прокопия Кесарийского нельзя подозревать в пристрастии к славянам), то начало славянской государственности должно отодвинуть в глубь времен еще на несколько веков.
На основе широкого привлечения текстов античных историков (Геродот, Птолемей, Корнелий Непот, Катон, Плиний, Страбон, Тацит, Тит Ливии) и западноевропейских авторов XII–XVIII веков (Гельмгольд, Саксон Грамматик, Арнольд Любекский, Стурлусон, Кромер, Муратори и др.), а также скрупулезного прочтения русских летописей Ломоносов утверждает: «Славяне жили обыкновенно семьями рассеянно, общих государей и городы редко имели, и для того древняя наша история до Рурика порядочным преемничеством владетелей и делами их не украшена, как у соседов наших, самодержавною властию управляющихся видим. Шведы и датчане, несмотря что у них грамота едва ли не позже нашего стала быть в употреблении, первых своих королей прежде Рождества Христова начинают, описывая их домашние дела и походы». Иными словами, история западноевропейских народов потому кажется древнее, что у них раньше появились единодержавные правители. Славяне же, управлявшиеся «общенародным повелительством», до Рюрика, естественно, не могли представить векам ни одного княжеского имени. Иначе говоря, князей не было, но история – была.
Столь страстно доказывая древность славян вообще и русского народа в частности, Ломоносов, однако ж, принимает на вооружение далеко не весь, казалось бы, бесспорно «выигрышный» материал, содержащийся в источниках. Он, например, весьма сдержанно относится к некоторым легендарным преданиям писателей допетровской Руси. Возможно, ломоносовская оценка их была бы резче, если б не то существенное обстоятельство, что они были поддержаны авторитетом церкви. Ломоносову приходилось маневрировать: «Мосоха, внука Ноева, прародителем славенского народа ни положить, ни отрещи не нахожу основания. Для того оставляю всякому на волю собственное мнение, опасаясь, дабы Священного писания не употребить во лжесвидетельство, к чему и светских писателей приводить не намерен».
Патриотизм Ломоносова не застит ему света искомой истины. Он остужает горячие головы тех из соотечественников, для кого всякое лыко годится в строку, лишь бы доказать древность и исключительность русского народа: «О грамоте, данной от Александра Великого славенскому народу, повествование хотя невероятно кажется и нам к особливой похвале служить не может, однако здесь об ней тем упоминаю, которые не знают, что, кроме наших новгородцев, и чехи оною похваляются». Точно так же скептичен он и по отношению к преданию, согласно которому Рюрик происходил от римского императора Августа (Октавиана): «...многие римляне переселились к россам на варяжские береги. Из них, по великой вероятности, были сродники коего-нибудь римского кесаря, которые все общим именем Августы, сиречь величественные или самодержцы, назывались. Таким образом, Рурик мог быть коего-нибудь Августа, сиречь римского императора сродник. Вероятности отрешись не могу; достоверности не вижу».
Как видим, Ломоносов, закладывая основы отечественной историографии, самое серьезное внимание уделял критическому анализу источников. Это был ответ русского ученого на упрек норманистов нашим историкам в ненаучном подходе к летописям. Кроме того, это был еще один (наряду с бесспорными доказательствами древности славянских племен) удар по исходным позициям норманизма вообще. То же самое можно сказать и о рассуждениях Ломоносова относительно происхождения слова «Русь». Норманисты его считали скандинавским. Ломоносов же считал, что это слово, с одной стороны, могло быть южнорусского происхождения (что впоследствии подтвердилось), с другой стороны, было принесено варягами-россами, которые, в отличие от варягов-скандинавов, жили в Пруссии. Такое двойственное решение подсказывала летопись, из чтения которой можно вывести, что существовала как северная, так и южная Русь. Вопрос о происхождении слова «Русь» и сейчас еще не получил окончательного ответа. Советская историческая наука (Б. Д. Греков, М. А. Алпатов и другие) склонна следовать здесь за Ломоносовым. Но с одной существенной оговоркой, которая касается «варягов-россов».
Опираясь на средневековые русские источники и свидетельства польских историков Мартина Кромера (1512–1589) и Матвея Претория (1635–1707), Ломоносов пришел к выводу, что, кроме скандинавских варягов, были еще и варяги-россы, которые «с древними пруссами произошли от одного поколения» (и поколение это было славянским), что, следовательно, Рюрик и его братья были славянами, ибо новгородцы, утверждал он, пригласили княжить не скандинавских варягов, а именно варягов-россов из южной Прибалтики. Таким образом, противоречивость летописца, отмеченная Байером и Миллером (враждебные взаимоотношения русских с варягами и мирное их призвание в Новгород), устранялась как бы сама собою (потому и пригласили мирно, что были с варягами-россами единоплеменниками). Сила ломоносовской убежденности в этом пункте была настолько велика, что его, как уже говорилось, принял даже Миллер. Однако именно в этом пункте Ломоносов оказался не прав. Были в «Древней Российской истории» и другие частные неточности, которые, впрочем, не затмевают огромного научного значения этого труда.
Ломоносов первый в русской историографии описал многовековую древнейшую историю славян, в основе своей не отмененную и по сей день. Он показал также большую роль славянских племен в разрушении Римской империи, следовательно, – в переходе Европы от античности к средневековью: «...нет сомнения, что в войнах готских, вандальских и лонгобардских великое сообщество и участие геройских дел приписывать должно славянам. Показывает помянутый Прокопий соединение их с лонгобардами, гепедами и готами... От великого множества славян, бывших с прочими северными народами в походах к Риму и Царюграду, произошло, что некоторые писатели готов, вандалов и лонгобардов за славян почитают...» Здесь Ломоносов объективно вступал в противоборство со всей позднейшей реакционной историографией XIX–XX веков, возлагавшей лавры победителей Рима на одних германцев, которые посредством этого завоевания якобы влили свою молодую и бодрую кровь в скудеющие жилы «старушки» Европы.
Кроме того, начиная со вступления и на протяжении всей книги, Ломоносов описывал и осмыслял русскую историю как важное звено мирового исторического процесса. Причем делал это, опираясь на такой широкий и многообразный круг источников, который не был доступен в 1750-е годы ни одному из его современников (даже Миллер в ту пору не мог сравниться с ним в этом отношении).
Печатание «Древней Российской истории», как мы помним, затянулось. Одновременно с заботами по наиудобнейшему для читателей ее изданию Ломоносов был поглощен новыми историографическими замыслами.
В 1760 году вышел в свет его «Краткий Российский летописец с родословием». Книга состояла из трех разделов. Первый – «Показание Российской древности, сокращенное из сочиняющейся пространной истории», – представлял собою резюме первой части «Древней Российской истории». Второй раздел не имел особого названия; в нем в хронологической последовательности перечислялись князья и цари от Рюрика до Петра I с указанием главных событий правления каждого из них. Третий, генеалогический, раздел назывался «Родословие Российских государей мужеского и женского полу и брачные союзы с иностранными государями».
В работе над «Кратким Российским летописцем» Ломоносову помогал библиотекарь Академии наук Андрей Иванович Богданов (1693–1766), который был автором второго раздела. Впрочем, Ломоносов основательно отредактировал богдановский текст, приноравливая его к своему стилю.
Популярность этой небольшой книги (шесть листов) превзошла все ожидания. С июня 1760 года по апрель 1761 года вышло три ее издания небывалым доселе общим тиражом более шести тысяч экземпляров. Но и этого оказалось мало. Люди переписывали ее от руки (некоторые списки дошли до нашего времени). Россия, пережив в начале века бурный период ломки старого жизненного уклада и нигилистического отношения к прошлому, затосковала по своей истории. «Краткий Российский летописец» с интересом был встречен и на Западе: в 1765 году в Лейпциге он вышел в переводе на немецкий, а два года спустя в Лондоне появился его английский перевод.
Спустя три года после выхода «Краткого Российского летописца» мать Павла Петровича Екатерина II, всерьез изучавшая прошлое доставшейся ей в управление страны, указала Ломоносову через президента Академии художеств И. И. Бецкого составить сюжеты для живописных картин из русской истории, которыми намеревалась «украсить при дворе некоторые комнаты». Ломоносов, как теперь говорят, был «в материале» и тут же написал требуемый текст. Но он, сам художник, понимал, как много значат детали в искусстве, и поэтому обратился к вице-канцлеру А. М. Голицыну с просьбой о разрешении поработать в архивах на предмет отыскания некоторых важных исторических подробностей: «Ваше сиятельство всепокорнейше просить принимаю смелость о учинении мне милостивого вспоможения о произведении некоторого дела, служащего к чести российских предков... Немалый здесь нахожу недостаток в изображении старинного нашего платья, разных чинов. Сведение о сем сыскать едва ли где лучше можно, как в Архиве Коллегии иностранных дел. Особливо ж есть в оной описание коронации и других церемоний государя царя Михаила Федоровича с личными изображениями на паргаменте. Сообщением сего можете, милостивый государь, подать мне великое вспомоществование».
К письму Ломоносов приложил составленное им описание сюжетов под названием «Идеи живописных картин из Российской истории». Картины (числом двадцать пять) должны были охватить историю России от Олега до Смутного времени. Письмо к А. М. Голицыну показывает, что Ломоносов собирался завершить будущую галерею картиной венчания Романовых на царство. Под его пером обрели зримые очертания основные события допетровской истории. Вот «Олег князь приступает к Царюграду сухим путем на парусах», а вот уже он, «угрызен от змея, умирает»... Вот Ольга мстит древлянам, огнем истребляя их город Искоростень за смерть Игоря... Святослав сражается с печенегами на днепровских порогах – окруженный печенежскими трупами, сам «уже раненный», на волосок от смерти... Мстислав борется с Редедей... Мономах принимает корону византийских императоров... А вот и «победа Александра Невского над немцами ливонскими на Чудском озере»... Вот Иван III бросает наземь ордынскую грамоту... Вот «приведение новгородцев под самодержавство»: вечевой колокол «летит сброшен с колокольни», «Марфе-посаднице руки назад вяжут», «новгородцы, коих к Москве отвозят, прощаются с своими ближними»... Вот смерть Гришки Отрепьева («погибель Расстригина»), которого «многими ранами уязвленного и окровавленного за ногу веревкою тянут», а Шуйский «уверяет народ с Красного крыльца, что оный Дмитрий был ложный...». Вот на нижегородской пристани старик купец «Козма Минич» пробуждает в народе «охоту к освобождению отечества от разорения»...
Три великих события, по мысли Ломоносова, определили историческое развитие допетровской России: принятие христианства, свержение татаро-монгольского ига, отпор польскому нашествию 1612 года (и как результат – начало династии Романовых).
Картина «Основание христианства в России» представлялась Ломоносову как большое эпическое полотно: «Великий князь Владимир (при нем супруга Анна, греческая царевна, сыновья от прежних жен, некоторые греки, с царевною приехавшие) повелевает сокрушать идолов, почему иных рассекают, иных жгут, иных с гор киевских бросают в воду и плавающих с шестами погружают или от берегу отпихивают, камнями бросают, камни к ним привязывают... На Почайной речке, на берегу, стоит первый митрополит Киевский Михаил со всем собором, иных сам погружая, иных – нижнее духовенство. Иные, забредши в воду, сами погружаются обоего пола и всякого возраста люди, матери со младенцами и пр. Иные, выходя из воды, принимают от священников кресты на шею и благословение, помазуются миром, одеваются. На горе начинают строить церковь Десятинную, ставят кресты на места сверженных идолов».
Монументально-героической виделась Ломоносову картина «Начало сражения с Мамаем»: «С обеих сторон стоят полки: с правой российские, с левой татарские. В форгрунде великий князь Димитрий Иванович, все готовятся к бою. Посередке татарин Челубей, ростом как Голиаф, сражается с Пересветом, чернцом-схимником. Оба друг друга пронзили копьями. Сражение начинается в войске».
Смутное время трактуется Ломоносовым трагедийно. Образы отдельных героев показаны в связи с грандиозным образом судьбы народа, переживающего роковые минуты. Так изображаются Расстрига, Василий Шуйский и Козьма Минин. Так изображен и князь Дмитрий Михайлович Пожарский: «...бьется с поляками, разоряющими Москву, и уже раненного жестоко велел себя кверху поднять и своих ободряет против неприятеля». Но наибольшего трагизма достигает образ Гермогена, томящегося в варшавском застенке. Народ здесь не показан, но его историческая судьба, по существу, является главной темой картины: «Гермоген, патриарх Московский, посажен в тюрьме и, уже умирая голодом и жаждою, не согласуется с принуждающими поляками, чтобы возвести на царство польского королевича Владислава, но проклятием оное отрицает и от Михаила Салтыкова, который нож на него занес, крестом обороняется».
Как видим, общая концепция истории допетровской Руси (и не только «до великого князя Московского Ивана Васильевича», как сообщал Ломоносов в Академическую канцелярию в феврале 1763 года, а вплоть до первой половины XVII века) уже забрезжила в его сознании. К этому времени Ломоносову были ясны, наряду с государственно-патриотическими, и высокие гуманистические уроки музы истории Клио. Если как патриот и гражданин Ломоносов был восхищен зрелищем геройских дел, то как гуманист он приходил в содрогание от того же зрелица:
О смертные, на что вы смертию спешите?
Что прежде времени вы друг друга губите?
Или ко гробу нет кроме войны путей?
Везде нас тянет рок насильством злых когтей!..
Коль многи обстоят болезни и беды,
Которым, человек, всегда подвержен ты!
Кроме что немощи, печали внутрь терзают,
Извне коль многие напасти окружают:
Потопы, буря, мор, отравы, вредный гад,
Трясение земли, свирепы звери, глад,
Падение домов, и жрущие пожары,
И град, и молнии гремящие удары,
Болота, лед, пески, земля, вода и лес
Войну с тобой ведут, и высота небес.
Еще ли ты войной, еще ль не утомился
И сам против себя вовек вооружился?
Эти стихи – из второй песни поэмы «Петр Великий». Они написаны человеком, который уже в течение десяти лет был погружен в русскую и мировую историю и прекрасно знал, что история любого народа – это непрекращающиеся войны. Вот почему так патетически звучит вслед за этими вопросами обращение к прошлому на предмет отыскания смысла в этой бесконечной батальной сцене, именуемой историей:
Открой мне бывшие, о древность, времена!
Ты разности вещей и чудных дел полна.
Тебе их бытие известно все единой:
Что приращению оружия причиной?
С натурой сродна ты, а мне натура – мать:
В тебе я знания и в оной тщусь искать.
Далее возникает величественный, но не вполне различимый за сумраком веков образ самой Клио, изрекающей поэту, какою должна быть древность в его писаниях. Простота и нагота – вот атрибуты истинной истории. Она чуждается «тщания», вообще искательства и потому – «не ясна», загадочна для людей:
Уже далече зрю в курении и мраке
Нагого тела вид, не явственный в призраке,
Простерлась в облака великая глава,
И ударяют в слух прерывные слова:
«Так должно древности простой быть и не ясной,
С народов наготой, с нетщанием согласной».








