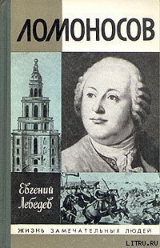
Текст книги "Ломоносов"
Автор книги: Евгений Лебедев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 54 страниц)
Никто не уповай вовеки
На тщетну власть Князей земных;
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них.
В целом собрание сочинений Ломоносова 1751 года стало первым опытом создания книги стихотворений, морально-политический пафос которой характеризуется противоборством добра и зла, света и тьмы как в душе отдельного человека, так и в культурно-общественной сфере. В этой книге впервые в русской поэзии в общих чертах сформировался образ поэта-пророка, точнее, глашатая высоких истин, долженствующих переделать человека на разумных основаниях, сотворить мир новых культурных (духовных и материальных) ценностей.
Период 1741–1751 годов и в жизни самого Ломоносова был отмечен напряженным и плодотворным противоборством как внутренним, так и внешним. В науке это было противоборство с устоявшимися предрассудками. Закончилось оно ослепительной победой – открытием «всеобщего закона природы». В сфере языка – созданием «Риторики», книги, определившей общие закономерности нашего мышления, «пристойного» выражения мыслей и чувств, организации нашего словаря и синтаксиса. В поэзии – выходом первой книги собрания сочинений, в которой поэтически непосредственно отразилось все, что волновало на протяжении целого десятилетия «сию душу, исполненную страстей», как писал о Ломоносове Пушкин.
Наконец, и в служебно-организационной сфере, преодолев в себе стихию анархического протеста, он выходит победителем: становится сначала адъюнктом, а потом профессором, добивается учреждения Химической лаборатории. Кроме того, 4 марта 1751 года Академическая канцелярия получила из Сената указ о «пожаловании» Ломоносова в коллежские советники с жалованьем 1200 рублей в год. Это означало, что Ломоносов стал дворянином, – событие исключительной важности для сына черносошного крестьянина. Ведь академические должности и звания не давали никаких сословных привилегий. Теперь свое личное достоинство честолюбивый Ломоносов мог охранять, опираясь на поддержку закона.
Таким образом, во всех отношениях десятилетие 1741–1751 годов завершалось удачно для Ломоносова. Были заложены основы главных направлений научной и поэтической деятельности, а также будущих государственных начинаний Ломоносова (чин коллежского советника и с этой точки зрения был как нельзя более кстати).
Место под фундамент было расчищено. Фундамент был заложен. Предстояло возводить само здание.
Часть третья
«Единодушный легион доводов»
1751–1761
Глава I
Я выпросил ему деревушку в 40 душ за Ораниенбаумом, но как засел он там, так и пропал...
И. И. Шувалов
1
По сравнению с Анной Иоанновной и Екатериной II Елизавете Петровне везло на фаворитов в том смысле, что они были равнодушны к политике. В отличие от герцога Курляндского Эрнеста-Иоганна Бирона или светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического граф Алексей Григорьевич Разумовский не был властолюбив: обвенчавшись с императрицей, он окружил себя певчими и рожечниками и вел жизнь пристойную, по придворным понятиям, даже скромную (князь М. М. Щербатов, как мы помним, был очень мягок в характеристике А. Г. Разумовского). Младший брат фаворита, Кирила Григорьевич, хоть и получил президентское кресло в Академии и гетманскую булаву, тоже не ознаменовал свою деятельность сколько-нибудь значительным политическим поступком (о чем с добродушной иронией говорится в упоминавшихся выше «Записках» княгини Е. Р. Дашковой).
Новый фаворит Елизаветы – Иван Иванович Шувалов (1727–1797) – к политике тоже не стремился. За него это делала его родня.
Фамилия Шуваловых принадлежала к мелкому костромскому дворянству. Вряд ли они заняли бы то выдающееся положение в России середины XVIII века, если бы не женитьба Петра Ивановича Шувалова (двоюродного брата ломоносовского покровителя) на Мавре Егоровне Шепелевой – женщине сварливой, злобной и уродливой, которая вдобавок была старше его. Удачным же этот брак считался потому, что Мавра Егоровна была статс-дамою, весьма близкой к императрице (Елизавета, боявшаяся заговорщиков, окружила себя многочисленным женским штатом, в обязанности которого входило развлекать ее во время бессонницы). Будучи при всех своих недостатках женщиной неглупой, Мавра Егоровна имела довольно сильное и устойчивое влияние на императрицу в вопросах житейских. Муж ее быстро выдвинулся в число самых крупных деятелей при дворе. Чтобы укрепить свое положение, Петр Шувалов решил использовать молодость и красоту Ивана. Мавра Егоровна не преминула обратить внимание сорокалетней Елизаветы на двадцатидвухлетнего юношу. Через три месяца (в октябре 1749 года) И. И. Шувалов был уже произведен в камергеры. «Попал в случай», как тогда говорили.
Его увлекали науки, поэзия, художества и вообще все изящное. Да и сам он был изящен. Женщины из придворного круга украшали своих собачек ленточками светлых тонов, так любимых им. Фридрих II говорил о нем: «Помпадур мужского рода». В такой оценке доля правды перемешана с долею пристрастия. Не закрывая глаза на его истинное положение при дворе, должно отметить, что «кавалер и камергер» видел смысл своего существования не в одних удовольствиях роскоши. Он не был чужд и удовольствий ума.
Здесь-то как раз и пролегает психологическая граница, которая одновременно смежает и разделяет Шувалова и Ломоносова. Меценат много читал (Екатерина II говорила впоследствии, что всегда его видела с книгой в руках). Он брал уроки стихосложения у Ломоносова, наблюдал его научные опыты. Он подолгу жил за границей, особенно любил Италию. Он переписывался с Вольтером. И во всем этом находил удовольствие. Для Ломоносова же наука, поэзия, искусство были делом и условием всей его жизни.
Есть большой искус представить отношения Ломоносова с покровителем таким образом, что ученый-де находился «под пятою вельможи». Это было бы глубоко неверно. Сословную дистанцию между ними, безусловно, надо учитывать. Но Ломоносов был старше Шувалова на шестнадцать лет, стоял неизмеримо выше в культурном отношении и, конечно же, оказывал на молодого фаворита Елизаветы, тянувшегося к наукам и искусствам, весьма сильное и – о чем обычно забывают – благотворное влияние. Ведь только благодаря Ломоносову любовник императрицы, не занимавший никакого официального государственного поста, превратился фактически в министра просвещения тогдашней России. Ломоносов пробудил в Шувалове, насколько возможно, гражданское чувство. Все многочисленные письма Ломоносова к нему буквально пересыпаны настойчивыми напоминаниями о благе России, о необходимости постоянно служить этой великой цели, использовать любую возможность для «приращения наук» и т. д.
Все это были послания наставника к ученику. Причем к ученику не безнадежному. Ведь Шувалов откликнулся на многое из того, чему его учил Ломоносов, дал ход его начинаниям, поддержал его в борьбе с Шумахером и другими «неприятельми наук российских». Нельзя забывать и о том, что Шувалов мог вообще не помогать Ломоносову в этих предприятиях. И если Ломоносов сумел пробудить в Шувалове стремление ко всему, что выходило за круг его личных интересов, значит, что-то такое «дремало» и в самом вельможе.
Их личные отношения определялись еще и тем, что Шувалов был баловнем судьбы, а Ломоносов ее избранником. Баловень мог многое себе позволить: например, быть запросто с избранником. Сохранился рассказ племянницы Ломоносова о частых посещениях Шуваловым ломоносовского дома на Мойке: «Дай бог царство небесное этому доброму боярину!.. Мы так привыкли к его звездам и лентам, к его раззолоченной карете и шестерке вороных, что, бывало, и не боимся, как подъедет он к крыльцу, и только укажешь ему, где сидит Михайло Васильевич, – а гайдуков своих оставлял он у приворотни».
Избранник не имел права (причем не социального, но именно морального права) отвечать баловню в том же роде. Подчеркнем: тот факт, что Ломоносов, со своей стороны, сохранял дистанцию в отношениях с Шуваловым, обусловлен не «мужицким» происхождением его. Во-первых, в нем было высоко развито понятие о чести и достоинстве, а во-вторых, интересы России, живым воплощением которых он выступал, в равной мере не позволяли ему ударяться в амикошонство. Со стороны Ломоносова слишком много было поставлено па карту: судьбы русской словесности, науки, народного образования.
Но если баловень заходил в своей вседозволенности слишком далеко, если он, «как бы резвяся и играя» в своей досужей веселости, ставил под угрозу личное достоинство и святые понятия, орудием которых выступал избранник, – последний разговаривал с баловнем (нет, не на равных!) с той высоты, на которую подняла его судьба. Пушкин верно заметил: «Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостию и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей».
Начало знакомства Ломоносова с Шуваловым относится к 1750 году. Уже в августе этого года 39-летний Ломоносов пишет дружеское стихотворное послание своему 23-летнему меценату, исполненное почтительной простоты, умеренной непосредственности и непринужденности, какого-то характерного изящества даже. Читая это послание, нельзя забывать, что оно первое в своем роде, что именно с него начинается богатейшая традиция этого жанра в русской поэзии, долженствующая получить свое высшее воплощение в творчестве Пушкина и его круга:
Прекрасны летни дни, сияя на исходе,
Богатство с красотой обильно сыплют в мир;
Надежда радостью кончается в народе;
Натура смертным всем открыла общий пир;
Созрелые плоды древа отягощают
И кажут солнечным румянец свой лучам!
И руку жадную пригожством привлекают:
Что снят своей рукой, тот слаще плод устам...
Чертоги светлые, блистание металлов
Оставив, на поля спешит Елисавет;
Ты следуешь за ней, любезный мой Шувалов,
Туда, где ей Цейлон и в севере цветет,
Где хитрость мастерства, преодолев природу,
Осенним дням дает весны прекрасный вид
И принуждает вверх скакать высоко воду,
Хотя ей тягость вниз и жидкость течь велит.
Толь многи радости, толь разные утехи
Не могут от тебя Парнасских гор закрыть.
Тебе приятны коль Российских муз успехи,
То можно из твоей любви к ним заключить.
Ты, будучи в местах, где нежность обитает,
Как взглянешь на поля, как взглянешь на плоды,
Воспомяни, что мой покоя дух не знает,
Воспомяни мое раченье и труды:
Меж стен и при огне лишь только обращаюсь;
Отрада вся, когда о лете я пишу;
О лете я пишу, а им не наслаждаюсь
И радости в одном мечтании ищу.
Однако лето мне с весною возвратится,
Я оных красотой и в зиму наслаждусь,
Когда мой дух твоим пригожством ободрится,
Которое взнести я на Парнас потщусь.
Так приветствовал Ломоносов Шувалова, направлявшегося с Елизаветой на отдых в Царское Село. В этом стихотворении рядом с отвлеченными картинами «натуры» на исходе лета щедро разбросаны совершенно конкретные указания на царскосельскую оранжерею («Цейлон в севере»), на пристрастие императрицы к фонтанам, в изобилии устроенным «хитростью мастерства» в ее летней резиденции, на благосклонное отношение Шувалова к наукам и искусствам. Но главное здесь – упоминание Ломоносова о собственных «раченье и трудах» в Химической лаборатории («меж стен и при огне»). Именно в эту пору он начал грандиозную по размаху и в высшей степени впечатляющую по результатам работу, в процессе которой его разносторонний и одновременно сосредоточенный в себе гений одержал ослепительный ряд выдающихся творческих побед.
В марте 1750 года Ломоносов направил в Канцелярию «репорт» следующего содержания: «По учиненным мною опытам в Химической лаборатории нашлось немалое число таких стекол, которые в мусию (то есть в мозаику. – Е. Л.) годятся, а для лучшего оных виду должно их оточить и с одной стороны вышлифовать. Того ради Канцелярию Академии наук прошу оные приказать точить и шлифовать и в Лабораторию отдавать, чтобы я мог оных целый комплект предложить опой Канцелярии».
Это первый документ, касающийся работ Ломоносова по мозаичному и вообще стекольному делу. В 1746 году граф М. И. Воронцов привез из Рима образцы итальянской мозаики. Ломоносов заинтересовался ими и как человек с тонким эстетическим вкусом, и как ученый-химик, и как технолог, и в определенной мере как предприниматель. Явилось желание воспроизвести эти образцы. Однако итальянцы строго хранили секрет изготовления смальт (непрозрачных разноцветных стекол). На Руси технология их производства была давно забыта (Ломоносов в эту пору неоднократно вспоминал о «киевской мусии», которую он видел в соборах Киева во время своего паломничества в тамошнюю академию в 1734 году). После открытия Химической лаборатории в 1748 году Ломоносов твердо решил разработать свою собственную технологию изготовления цветного стекла и в течение трех лет все свое свободное время отдавал напряженнейшей работе по отысканию наиболее эффективного и практичного способа окраски стекол. Более 4000 опытов поставил он, прежде чем добился наконец успеха. Ему, например, удалось найти свой метод получения рубинового стекла, окрашенного соединениями золота (до Ломоносова золотые рубины умели делать древние ассирийцы, еще при царе Ашшурбанипале, да один немецкий химик XVII века, скончавшийся в 1703 году, однако и после них не осталось никаких рецептов; на Западе только в 40-е годы XIX века вновь начали производить золотые рубины).
Но одною лишь химией дело не ограничилось.
Ломоносов создает художественную мастерскую по изготовлению мозаичных картин. Он ведет длительные хлопоты по устройству отечественной фабрики цветного стекла, о которых уже говорилось. Но и это еще не все. Параллельно со стекольным производством и созданием мозаик Ломоносов занимается разработкой некоторых важнейших проблем оптики: как в сугубо научном (теория света и цвета), так и в прикладном плане (изготовление оптических инструментов).
Ломоносов построил более десятка принципиально новых оптических приборов, среди которых наиболее оригинальной была его знаменитая «ночезрительная труба», законченная в 1756 году, но отвергнутая Академией (что, впрочем, не помешало академикам по достоинству оценить аналогичную ломоносовской трубу, полученную из Англии в 1759 году), а также его телескоп с новым отражателем, показанный им академикам в мае 1762 года. Идею своего телескопа, полемическую по отношению к принципу, лежавшему в основе самого эффективного на ту пору телескопа Грегори – Ньютона, Ломоносов сформулировал в «Химических и оптических записках» (1762–1763): «Новоизобретенная мною катадиоптрическая зрительная труба тем должна быть превосходнее невтонианской и грегорианской, что 1) работы меньше, для того что малого зеркала ненадобно; а потом 2) и дешевле, 3) не загораживает большого зеркала и свету не умаляет, 4) не так легко может испортиться, как вышенаписанные, а особливо в дороге, 5) не тупеют и не нуждаются в малом зеркале (коего нет и ненадобно) лучи солнечные, и тем ясность и чистота умножаются, 6) новая белая композиция в зеркале к приумножению света способна». Лишь более четверти века спустя идея Ломоносова будет использована (независимо от него) выдающимся английским астрономом Гершелем в его телескопе-рефлекторе. В сущности, она учитывается при создании астрономических труб этого типа в по сей день. Академик С. И. Вавилов, многие годы отдавший изучению оптических трудов Ломоносова, дал им следующую итоговую оценку: «...по объему и оригинальности своей оптико-строительной деятельности Ломоносов был... одним из самых передовых оптиков своего времени и безусловно первым русским творческим опто-механиком».
Параллельно с практической оптикой Ломоносов усиленно занимается и оптической теорией. Здесь вопросом вопросов для всех европейских ученых была проблема происхождения света. Поиски ее решения определялись противоборством двух точек зрения: теории истечения, предложенной Гассенди и детально разработанной Ньютоном, и волновой теории, философски обоснованной Декартом и физически утвержденной Гюйгенсом. Ломоносов так же, как и его «добрый гений» Эйлер, выступил, в сущности, адептом волновой теории. 1 июля 1756 года он произнес в торжественном публичном собрании Академии наук «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее». Излагая свою теорию, Ломоносов вступил в противоречие с очевидными, экспериментально доказанными фактами. Он, например, вопреки Ньютону, показавшему части спектра, на которые распадается белый цвет, считал, что белое состоит лишь из трех элементарных цветов: красного, желтого и голубого. При этом ломоносовская аргументация носила скорее риторический, чем научный характер: «Живописцы употребляют цветы главные, прочие через смешение составляют: то в натуре ли положить можем большее число родов эфирной материи для цветов, нежели она требует и всегда к своим действиями простых и коротких путей ищет». Как оратор Ломоносов здесь безупречен: зачем природе семь элементарных цветов, когда даже человек обходится тремя? И потом: не сам ли Ньютон писал, что «природа проста и не роскошествует излишним количеством причин»? С. И. Вавилов замечал по этому поводу: «Ясно, конечно, что Ломоносов смешал физические характеристики элементарных цветов, найденные Ньютоном (различное преломление и различную длину волны света), с их физиологическими характеристиками». Причем Ломоносов до конца жизни защищал свою ошибочную точку зрения. Но наряду с нею в «Слове» была высказана очень перспективная догадка о резонансе между светом и веществом. Кроме того, Ломоносов всерьез размышлял над электрической природой света (предвосхищая мысли Фарадея по этому поводу) и ставил перед собой, например, такие экспериментальные задачи: «Отведать в фокусе зажигательного стекла или зеркала электрической силы»; «Будет ли луч иначе преломляться в наэлектризованной воде или наэлектризованном стекле».
Но, повторяем, наиболее впечатляющим образом гений Ломоносова в рассматриваемое десятилетие проявился в работах, так или иначе связанных с цветным стеклом. Открыв секрет окраски стекол, Ломоносов рассудил за благо поставить свое изобретение на широкую практическую ногу. Памятуя о разрешении 1723 года, подписанном рукою Петра I, «всякого чина людем в России... фабрики и манифактуры заводить и распространять», Ломоносов в октябре 1752 года обратился в Сенат с прошением, в котором говорилось: «Во уповании на такое высочайшее обнадеживание желаю я, нижайший, к пользе и славе Российской империи завесть фабрику делания изобретенных мною разноцветных стекол и из них бисеру, пронизок и стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов, чего еще поныне в России не делают, но привозят из-за моря великое количество ценою на многие тысячи».
С помощью Шувалова Ломоносову удалось получить просимое разрешение. 17 декабря 1752 года Мануфактур-контора решила выдать Ломоносову на устройство фабрики беспроцентную ссуду 4000 рублей со сроком погашения в пять лет. Из них 500 рублей он получил сразу же, а остальные ему выдавались по мере наличия свободных денежных средств в конторе.
Ломоносов, когда какая-нибудь идея овладевала им, служил ей самозабвенно и артистически. Так было, когда он двенадцати лет с особой «ломкостию» в голосе читал односельчанам книги, когда он, уже девятнадцатилетний, со слезами на глазах умолял караванного приказчика взять его с собою «посмотреть Москвы», когда, обманом завербованный в рейтары, всем видом своим показывал послушание, но уже знал, что совершит побег из везельской крепости, что «послушание» необходимая часть подготовки к побегу. Так было и на сей раз. Сохранилось правдоподобное предание о том, что Ломоносов в пору его увлечения стекольным делом носил камзол со стеклянными пуговицами, намеренно вызывая удивление окружающих. Его убежденность в великих пользах стекла, недооцененных людьми, материализовалась многоразлично. В конце 1752 года он написал дидактическую поэму «Письмо о пользе Стекла», в которой доказывал, что
Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже Минералов,
Приманчивым лучом блистающих в глаза.
Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса.
И хотя значение этой поэмы нельзя свести только лишь к талантливой рекламе стекольного дела (в своем месте разговор о «Письме» еще предстоит), игнорировать рачительно-хозяйственный подход бывшего помора ко всем своим начинаниям было бы глубоко неверно. Его активность по устройству фабрики цветных стекол служит ярким подтверждением его энергичной предприимчивости.








