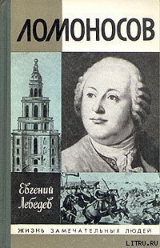
Текст книги "Ломоносов"
Автор книги: Евгений Лебедев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 54 страниц)
ПИСЬМО О ПОЛЬЗЕ СТЕКЛА
К ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬНОМУ ГОСПОДИНУ ГЕНЕРАЛУ-ПОРУТЧИКУ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАММЕРГЕРУ, МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КУРАТОРУ И ОРДЕНА БЕЛАГО ОРЛА, СВЯТАГО АЛЕКСАНДРА И СВЯТЫЯ АННЫ КАВАЛЕРУ
ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ШУВАЛОВУ,
ПИСАННОЕ В 1752 ГОДУ.
Обычно самый факт появления «Письма о пользе Стекла» связывают с хлопотами Ломоносова по устройству Усть-Рудицкой фабрики цветных стекол. Эта связь несомненна, и отрицать ее было бы просто наивно. Однако, на наш взгляд, неправомерно и преувеличение ее роли для создания поэмы. Ведь при таком подходе, вольно или невольно, значение «Письма» сводится лишь к талантливой пропаганде стекольного дела, а вся его сложнейшая мировоззренческая проблематика, высокий гуманистический пафос оказываются логически не связанными с темой.
Обратимся к тексту.
Поначалу разговор идет о стекле, с которым каждый имеет дело в повседневной практике – то есть о стекле в предметном значении этого слова и о качествах, присущих ему как реалии. Такое стекло «знают» все – и пренебрегают им. Стекло как факт реального мира активно привлекает к себе лишь поэта: с парнасской высоты оно представилось ему не меньшей ценностью, чем золото или драгоценные камни. Неоднократные «спуски» с Парнаса утвердили автора в его предположении. Но среди людей популярна другая точка зрения на Стекло, с которой он никак не может согласиться. (Стекло у него как герой поэмы – везде с прописной буквы.)
Вот завязка той драмы идей, которой предстоит развернуться в дальнейшем. Здесь элементы будущего образа даны отдельно один от другого: стекло как предмет и два противоположных мнения о нем, отражающие его двойственную природу, покамест не составляют художественного единства. Но уже на этом, по преимуществу понятийном, уровне произведения со всей очевидностью проявляется его основное, с точки зрения самодвижения художественной идеи, противоречие. Причем оно сразу же выступает как необходимо диалектическое. Ломоносов не ставит перед миром вопрос на «ребро»: Стекло вместо золота! Его точка зрения не нуждается в этом, ибо она – истина и, как таковая, включает в себя и «неправое» мнение в качестве обязательного момента своего собственного становления. Иными словами, те, новые, неизвестные людям качества Стекла, которые открылись ему, он не отрывает от уже известных – но рассматривает Стекло как совокупность старого и нового. Мир не однозначен, каждая вещь в нем сложна и многогранна, чревата множеством проявлений. С этой точки зрения в нем одинаково «правы» и золото и стекло: «не права» лишь людская односторонность. Природа преподает человеку азы гуманности. Пренебрегать стеклом – попросту аморально.
Однако для того чтобы эта истина стала активом читателя, ее надо показать так, чтобы он «открыл» ее сам. Как выдающийся оратор, Ломоносов прекрасно знал, что, если автор не сумеет создать у своей аудитории иллюзию импровизации, не привлечет ее к сотворчеству, его произведение просто не состоится как явление искусства. Поэтому не случайно Ломоносов вводит предысторию образа в текст поэмы. Это интеллектуальная «разминка» для читателя, который активно вовлечен в творческую работу; поэма как бы рождается у него на глазах:
Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже Минералов,
Приманчивым лучом блистающих в глаза:
Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса.
Не редко я для той с Парнасских гор спускаюсь;
И ныне от нея на верьх их возвращаюсь.
Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, не злату, но Стеклу.
Ломоносов четко обозначил рубеж, за которым начинается собственно-поэтический мир его поэмы. Он развивается по своим непривычным законам. Здесь действуют свои, необычные представления о материальных и духовных ценностях. Здесь свой отсчет времени: чтобы измерить его, нужны особые часы, на циферблате которых были бы отложены не минуты, но тысячелетия, – часы, которе могли бы идти и против часовой стрелки, когда это потребуется. Стекло здесь – не только одно из соединений кремния, но и «дар божественный», средоточие всех мировых связей.
«Я возвращаюсь на Парнас» – это сигнал читателю напрячь всю силу «совображения, которая есть душевное дарование с одною вещию, в уме представленною, купно воображать другие, как-нибудь с нею сопряженные». Только при таком условии и возможен дальнейший разговор, иначе мир, в который входит читатель, может показаться непонятным для его обыденного сознания. Ведь «купно» со Стеклом в его предметном значении здесь приходится «совобразить» и другие вещи, лишь в данном контексте «сопряженные» с ним: прочность истинного счастья, несокрушимую жизненную стойкость, перед которой бессильна даже самая грозная стихия – огонь:
Не должно тленности примером тое быть,
Чего и сильный огнь не может разрушить,
Других вещей земных конечный разделитель.
Стекло им рождено; огонь – его родитель.
С точки зрения житейской логики эти строки (так же, как и предшествующие им) полны несообразностей, натяжек. Обыденное сознание наивно полагает, что предмет, о котором идет речь, принципиально не может вызвать подобных ассоциаций. Читатель еще не подозревает, что как раз с этой его установкой на окончательную неоспоримость его суждения и ведется борьба. При этом Ломоносов прекрасно понимает, что близкий предел читательской «философии» положен ограниченным, несвободным представлением о самом предмете, который и становится ареной борьбы, местом, где сталкиваются два мнения. Это очень важное качество ломоносовского художественного мышления. Здесь Ломоносов глубоко оригинален: во главу угла ставится не логическая дискредитация чужой точки зрения на какое-либо явление реального мира, но изображение его.
У Ломоносова физическая стихия сразу же оказывается человечески опредмеченной:
Стекло им рождено; огонь – его родитель.
Мы присутствуем при сотворении художественного мира поэмы. Стекло вступает в новую систему связей. Художественное подтверждение «родительских прав» огня дается в своеобразной космогонии произведения.
Говоря в данном случае о ломоносовской «космогонии», мы не имеем в виду намекнуть таким образом на зависимость поэмы Ломоносова от произведений Гесиода, Ксенофана, Парменида, Эмпедокла. Дело обстоит гораздо сложнее. «Письмо» – настолько емкий аккумулятор исторически предшествовавших стилей, что при желании в нем можно найти стилевые отголоски не только дидактического эпоса греков, но и римской дидактической поэзии (Лукреций, Вергилий), сатирической поэзии средневековья (Клавдиан), героической поэзии Ренессанса (Камоэнс) и т. д. «Письмо» – первая русская поэма нового времени. Так же, как человек еще до появления на свет в кратчайший срок переживает всю историю Земли, – новая русская поэзия при своем зарождении вбирает в себя тысячелетний опыт мировой литературы.
Рационалистический миф Ломоносова о рождении Стекла (ст. 15–36) показывает, какую роль он отводил огню в своем произведении. О чем же говорит этот миф?
Вопрос, как и когда был создан мир, то есть вопрос о существовании чего-либо и кого-либо до мира, не стоит перед Ломоносовым. Мир всегда и везде заполнен «натурой». В ее лоне вечно противоборствуют два враждебных начала: огонь и вода. Борьба идет за овладение природой. Одна из этих сущностных сил – огонь – проявляет себя в мощном волевом акте:
С натурой некогда он произвесть хотя
Достойное себя и оныя дитя,
Во мрачной глубине, под тягостью земною,
Где вечно он живет и борется с водою,
Все силы собрал вдруг и хляби затворил,
В которы Океан на брань к нему входил.
Напрягся мышцами и рамена подвинул
И тяготу земли превыше облак вскинул.
Огонь выступает как рациональное начало мира: он целеустремленно активен (порывается ввысь, «собирает силы», «напрягается», «подвигает», «вскидывает» – потому что «хочет произвесть»), он почти различим («мышцы», «рамена») и все это – в противовес иррациональному Океану, который аморфен (известно только, что он – вода) и анархичен («борется», «выходит на брань» – и только).
Союз огня с натурой (которая сама по себе пассивна) – это единство, обретаемое в смертельной борьбе. Чтобы понять дальнейшее развитие внутреннего мира поэмы, очень важно уяснить, что Стекло появляется на свет как результат мировой катастрофы:
Внезапно черный дым навел густую тень,
И в ночь ужасную переменился день.
Не баснотворного здесь ради Геркулеса
Две ночи сложены в едину от Зевеса;
Но Этна правде сей свидетель вечный нам,
Которая дала путь чудным сим родам.
Из ней разженная река текла в пучину,
И свет, отчаясь, мнил, что зрит свою судьбину!
Здесь мы, вдобавок ко всему, видим в Ломоносове гениального стилизатора: восприятие космоса как живого организма (о чем свидетельствует почти физиологически точное описание «чудных сих родов») очень близко к античной традиции (мифы, Гесиод). О подражании здесь не может быть и речи, ибо концептуально Ломоносов намеренно отмежевывается от старой мифологии («Не баснотворного здесь ради Геркулеса...»).
Рожденное в страшных муках, на пределе созидательных возможностей натуры и огня, когда весь мир находится на волосок от гибели, – Стекло выступает как проявление мировой сущности, которая, по Ломоносову, есть не что иное, как вечная борьба разумных и неразумных сил.
Стекло внутренне противоречиво. С одной стороны, Стекло – это отраженная улыбка природы: натура улыбается самой себе, своей счастливой судьбе вечно обретать начало в конце. Она передает Стеклу свое родовое свойство – пассивность. Поэтому Стекло нелицеприятно, равнодушно по отношению ко всему, что не есть оно само. (Пренебречь этим – значит заказать себе путь к пониманию ломоносовской концепции человека, ибо здесь дано обоснование коренной этической проблемы произведения – проблемы свободного выбора, которая именно в связи с появлением Стекла и встает перед людьми. Но об этом – ниже.)
С другой стороны, «дитя» наследует и по «отцовской» линии. «Абсолютное беспокойство» огня живет в Стекле на протяжении всей поэмы. Многочисленные видоизменения Стекла, казалось бы, приводят к тематической неразберихе. Стеклянная посуда, изделия из фарфора, мозаика, применение Стекла в устройстве оранжерей, различные виды украшений, порабощение индейцев, изготовление очков, борьба ученых с невеждами и лицемерами, крупные достижения в оптике (телескоп, микроскоп), использование Стекла в метеорологии и, наконец, опыты по изучению атмосферного электричества – все это связывается вместе каким-то непонятным («чрезъестественным», как сказал бы Ломоносов) образом. Между тем если не забывать об «огненной» природе Стекла, то в этой тематической разноголосице обнаруживается глубокое единство. Многообразная жизнь Стекла в материальной среде есть не что иное, как явленная борьба огня с его вечными противниками: водою, мраком, холодом, небытием.
Применение Стекла в медицине означает торжество «здравия и жизни» над смертью.
Фарфоровая посуда – это знак победы огня над водою (так же как огонь в свое время
Все силы собрал вдруг и хляби затворил,
В которы Океан на брань к нему входил...
Стекло
...вход жидких тел от скважин отвращает).
Его неподверженность тлену и разрушению доказывают
...Финифти, Мозаики,
Которы ввек хранят геройских бодрость лиц,
Приятность нежную и красоту девиц:
Чрез множество веков себе подобны зрятся
И ветхой древности грызенья не боятся.
Применение Стекла в устройстве оранжерей приводит к победе огня над «несносным хладом»:
Зимою за стеклом цветы хранятся живы.
Даже использование Стекла как украшений (бисер) осмысляется Ломоносовым в пределах оппозиции: тепло (то есть огонь) – холод. Обращаясь к «сельским нимфам», он пишет:
Но чем вы краситесь в другие времена,
Когда, лишась цветов, поля у нас бледнеют
Или снегами вдруг глубокими белеют,
Без оных чтобы вам в нарядах помогло,
Когда бы бисеру вам не дало Стекло?
Что касается темы порабощения индейцев испанскими колонизаторами, то здесь Стекло выступает как антитеза небытию; жители Америки, отдавая предпочтение стеклянным украшениям, тем самым выражают свой, пускай пассивный, но – протест против смерти:
...гонят от своих бедам причину глаз.
Изготовление очков – это очередная победа огня над мраком, применение Стекла в метеорологии (барометр) – победа огня над Океаном (человек получает возможность «плавать по морю безбедно и спокойно»).
В основе той части поэмы, где повествуется о борьбе науки с невежеством, – все та же идея огня, с той лишь существенной разницей, что здесь разговор идет не о какой-либо частной победе огня, но со всей очевидностью проявляется неоспоримый факт его универсального господства во Вселенной. До сих пор мы имели дело с огнем, который живет «во мрачной глубине, под тягостью земною». Стекло явилось в мир как порыв (и прорыв) его ввысь, на поверхность Земли. Теперь через детище земного огня устанавливается связь с огнем небесным. Отнюдь не случайно эта часть поэмы открывается образом Прометея, и глубоко закономерна (именно с точки зрения внутренней логики) просветительская модернизация античного мифа. Ведь в ломоносовской версии вот что важно:
Не огнь ли он Стеклом умел сводить с небес?..
Во всемирной истории, которую пишет Ломоносов, «сведение небесного огня на Землю становится событием эпохального значения. Смыкаются нижняя и верхняя сферы мира: Вселенная предстает «огненной» целостностью. Осмысление огня как бесконечности делает неизбежным прославление гелиоцентрической системы и сопряженной с ней идеи множества миров. В том, что именно Стекло подтверждает эту истину, – художественное оправдение былых усилий и упований огня «произвесть» потомство, достойное себя и натуры. Дитя сторицей воздает отцу, указывая всем и вся на его центральное положение в «истинной Системе» мира. Из глубин Земли на просторы Вселенной – таков путь огня в поэме.
Рассмотрим теперь этическую проблематику «Письма». Главный вопрос здесь: в каких отношениях прослеженная эволюция Стекла в материальной среде находится к человеческой истории поэмы? Правильно ответить на этот вопрос можно, лишь уяснив, с чего начинается в ломоносовском произведении человеческая история.
В момент катастрофы, в результате которой рождается Стекло, масса людей – это масса «смертных», находящихся в полной зависимости от природных сущностных сил. Сама по себе борьба этих сил способна породить у «смертных» только страх («И свет, отчаясь, мнил, что зрит свою судьбину!»), но ее конкретный результат (то есть Стекло) вызывает иную реакцию – удивление:
Увидев, смертные, о, как ему дивились!
Подобное тому сыскать искусством тщились.
В состязании с природой люди «превысили» ее «своим раченьем». Только после этого масса «смертных» объединяется в родовое понятие «человек» (тоже «смертный», но превышающий мастерством природу).
Это место – философский узел поэмы. Стекло как воплощение победы огня над неразумным началом мира находит себе культурное соответствие в Стекле, сделанном руками людей в соревновании с природой. Создавая Стекло (то есть повторяя победу огня), люди выступают как союзники рационального мирового начала. Созданное ими Стекло, оставаясь частью природы, вбирает в себя и нечто человеческое, а именно: духовное качество. Оно поворачивается к миру сразу двумя сторонами – и материальной и духовной:
Из чистого Стекла мы пьем вино и пиво
И видим в нем пример бесхитростных сердец...
Стекло в напитках нам не может скрыть примесу;
И чиста совесть рвет притворств гнилу завесу.
Выше уже говорилось о том, как важно не упускать из виду пассивную сущность Стекла. От людей зависит сделать его активным элементом культуры.
Если подходить к Стеклу утилитарно, с точки зрения практической выгоды, то оно по сравнению, например, с золотом или серебром ничего не стоит. Но история знает примеры, когда предприимчивые люди за «стекляшки» выменивали у иных «примитивных» народов и серебро и золото.
В Америке живут, мы чаем, простаки,
Что там драгой металл из сребреной реки
Дают европскому купечеству охотно
И бисеру берут количество несчетно...
Следовательно, при известном стечении обстоятельств Стекло может стать материальной ценностью, равной «драгому металлу»? Да, если рассуждать меркантильно. Однако ж в поэтическом мире Ломоносова такая логика не подходит. Вот как он оценивает поведение индейцев:
Но тем, я думаю, они разумна нас...
В мире Ломоносова вещь становится ценностью лишь тогда, когда она одухотворена и способна одухотворять окружающее. Здесь нет «стекляшек». Есть Стекло, которое одновременно – и непритязательное украшение, и «чиста совесть», и «пример бесхитростных сердец», которое несет с собою в мир не «ломкость лживого счастья», а прочность истинного. Вот почему американские «простаки», по Ломоносову, совершают более выгодную сделку, чем пронырливое «европское купечество».
Что же касается моральных «привесков» к злату и серебру, то они показаны Ломоносовым в следующей, почти осязаемо жуткой картине, предваряемой скорбным возгласом:
О коль ужасно зло! на то ли человек
В незнаемых морях имел опасный бег,
На то ли, разрушив естественны пределы,
На утлом дереве обшел кругом свет целый,
За тем ли он сошел на красны берега,
Чтоб там себя явить свирепого врага?
По тягостном труде, снесенном на пучине,
Где предал он себя на произвол судьбине,
Едва на твердый путь от бурь избыть успел,
Военной бурей он внезапно зашумел.
Уже горят царей там древние жилища;
Венцы врагам корысть, и плоть их вранам пища
И кости предков их из золотых гробов
Чрез стены подают к смердящим трупам в ров!
С перстнями руки прочь и головы с убранством
Секут несытые и златом и тиранством.
Иных, свирепствуя в средину гонят гор
Драгой металл изрыть из преглубоких нор.
Смятение и страх, оковы, глад и раны,
Что наложили им в работе их тираны,
Препятствовали им подземну хлябь крепить,
Чтобы тягота над ней могла недвижна быть.
Обрушилась гора: лежат в ней погребенны
Бесчастные! или поистине блаженны,
Что вдруг избегли все бесчеловечных рук,
Работы тяжкия, ругательства и мук!
Утилитарный подход к Стеклу есть зло, потому что означает утилитарный подход к культурным ценностям вообще, а это, по Ломоносову, недопустимо. Не случайно завоеватель изображается Ломоносовым как варвар, разрушающий древнюю культуру. Утилитаризм несет дисгармонию и разрушение не только в мир человека, но и в мир природы. Здесь вся природа возвращается в Хаос, в буквальном смысле слова «теряет голову»: мировой разум (то есть огонь) разрушает культурные формы («Уже горят царей там древние жилища...»), становясь фактическим союзником иррациональных сил; люди поступают наравне с животными (как вороны набрасываются на трупы); горы обрушиваются в глубину; живые завидуют мертвым; невинность и варварство равно погибают – вот итоги, которые подводит этой оргии разрушения Океан, выступающий в финале всей картины:
Оставив Кастиллан невинность так попранну,
С богатством в отчество спешит по Океану,
Надеясь оным вдруг Европу всю купить.
Но златом волн морских не можно утолить.
Подобный их сердцам борей, подняв пучину,
Навел их животу и варварству кончину,
Погрязли в глубине с сокровищем своим,
На пищу преданы чудовищам морским.
То бури, то враги толь часто их терзали,
Что редко до брегов желанных достигали,
О коль великий вред! от зла рождалось зло!
Ломоносов доводит до логического конца ограниченное представление обыденного сознания о пользе. С точки зрения Ломоносова вещь принципиально перестает быть полезной, если она служит только одному человеку. Такая вещь теряет свою ценность не только для общества, но и для самого владельца:
...златом волн морских не можно утолить.
Польза только тогда есть польза, когда она – польза для всех и каждого. Всякие поиски пользы только для себя неизбежно приводят к отысканию ее противоположности:
О коль великий вред!..
В свете сказанного выявляется и глубокое понимание Ломоносовым проблемы зла. Злом он считает несвободу в двух ее главных разновидностях. Для него несвобода духовная является обязательной, неизбежной спутницей социальной несвободы. Кастиллан (то есть кастилец, испанский завоеватель), не будучи в состоянии выработать собственного свободного суждения о пользе, необходимо должен поступать как деспот и по отношению к другим, то есть быть вредным для них. Сам раб, он делает рабами и других. От одной разновидности зла происходит другая:
О коль великий вред! От зла рождалось зло!
Виной толиких бед бывало ли Стекло?
Поразительно это внезапное появление Стекла! Ведь в разбираемом отрывке оно присутствовало, но негативно. И вот теперь оно предстает перед людьми в тот момент, когда бунт темных, иррациональных сил грозит уничтожить художественный космос поэмы. Композиционно это появление Стекла соотнесено с его рождением и так же, как прежде, связано с мировой катастрофой. Если результатом былой катастрофы стало рождение Стекла, а также выход «смертных» из естественного состояния, то теперь для людей вопрос стоит об овладении миром, а для Стекла – о возрождении в качестве универсального средства познания (орудие овладения).
Опять-таки не случайно Ломоносов вводит далее краткий пассаж о «зрении» и об «очках». Читателю, если он плохо «видит», необходимо усилить «зрение ослабленных очей»; ибо
Померкшее того не представляет чувство,
Что кажет в тонкостях натура и искусство.
Ломоносов как бы намекает, что вещи, которые он собирается показать, сможет увидеть только человек с зорким взглядом.
История восхождения человека по ступеням познания возвращает нас в глубокую древность – все к той же «мифологической» эпохе, когда «из недр земных родясь, произошло», «любезное дитя, прекрасное Стекло». (Просто удивительна эта последовательность Ломоносова: он настойчиво «предлагает» искать «пружину действия» произведения в одном и том же месте.) Прометей, по Ломоносову, первым из людей именно посредством Стекла овладел небесным огнем. Ему же первому из людей страдания за этот подвиг были отпущены полной мерой. Вся последующая история овладения огнем – история борьбы со «свирепыми невеждами».
В ломоносовской трактовке человека, подвижническая деятельность титанов духа Прометея, Христа, Аристарха Самосского, Коперника – представляет вот какой интерес. Их предельное одиночество и мученическая судьба – это, по Ломоносову, вторичный момент. Они не могут не находиться в подобном положении, ибо они – духовно свободные люди, живущие среди рабов. Больше того, они сами идут на муки, так как в них любовь к истине преобладает над всеми остальными чувствами. При ближайшем рассмотрении истина оказывается гуманной в самой своей основе. Она состоит в признании и познании единства законов природы, что в конечном счете ведет к господству человечества во Вселенной:
В благословенный наш и просвещенный век
Чего не мог дойти по оным человек?
В свете этого качества истины, во всей их деятельности активное начало берет верх. Они не пассивные мученики, но борцы. Их борьба с врагами истины за людей, за их духовное освобождение, уже сама по себе есть истина. Борьба есть универсальный способ существования мира.
От страха перед земным огнем (незнанием) – к овладению «огненной» Вселенной (знание): такова нравственная и познавательная перспектива, которая открывается перед Человеком поэмы.
Ближайшая земная задача, вытекающая из этого всеобъемлющего вывода – эмпирическое постижение природы небесного огня, эффективное овладение им. И здесь залогом успеха – открытое Стеклом «огненное» единство мира:
...та же сила туч гремящих мрак наводит,
Котора от Стекла движением исходит...
...зная правила, изысканны Стеклом,
Мы можем отвратить от храмин наших гром...
Единство оных сил доказано стократно...
Художественная идея, получив последний мощный толчок изнутри, стремительно движется дальше и приближается вплотную к своему «порогу», за которым предмет поэмы подлежит освоению уже иными, не литературными средствами.
...с Парнасских гор схожу,
На время Ко Стеклу весь труд свой приложу.
Посредством образа Стекла он восстанавливает перед современниками страшную картину многовекового надругательства над истиной и ее сторонниками – надругательства, от которого в конечном счете страдает все человечество. Ломоносов защищает и прославляет Стекло как пример благотворного отношения людей к миру и друг к другу, как конкретное проявление общечеловеческой пользы. Освобождая истину из-под гнета «свирепых невежд», он освобождает человечество. Подчеркнем: не только мысль о практическом применении Стекла в хозяйстве, не только мысль о возможностях, открываемых Стеклом перед наукой, лежит в основе поэмы (все это актуально для «Письма», но не исчерпывает его содержания). Глубокая гуманистическая идея духовного освобождения всего человечества – вот нравственная ось, вокруг которой вращается внутренний мир произведения, а если точнее – его миры. Эта идея по всем законам поэтической небесной механики вносит упорядоченность в их движение, не дает произведению распасться на отдельные части.








