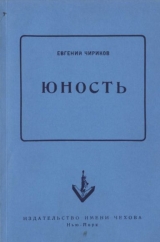
Текст книги "Юность"
Автор книги: Евгений Чириков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– Инструкция… Какая инструкция?.. Гм!.. Смешное слово…
– Вам всё смешно… Погодите, не пришлось бы поплакать… Безобразие!
– Да, скверно… Окно не виновато… Идите!.. Не буду… Извините великодушно…
– Извините… Нет уж, пускай смотритель как знает, а я извинять не имею права…
– Ну, наплевать… Уходите с Богом!
Надзиратель крикнул стражника, тот привел Флегонта. Убрали все стекла, очистили рамы, испробовали крепость решетки, отобрали всё твердое и острое, даже ручку с пером, и ушли… Смешно: они боятся, как бы я не покончил с собой… Нашли дурака!.. Я жить хочу, страстно, ненасытно хочу жить, а они…
После сильного нервного возбуждения наступил полный упадок сил. Я с трудом таскал по камере ноги и не мог сжать пальцев в кулак. Растерянная улыбка не сходила с моего лица, дергались губы и веко левого глаза. Пробовал говорить с собою и удивлялся своему голосу: слабый, глухой, не мой голос… Смешно и странно слышать… Валялся в кровати и думал, почему это не звонят в колокола. Словно я разбил не стекла окна, а все колокола в городе. Посмотрел в окно и тут только увидел, что уже стемнело. Как это так незаметно подкралась ночь, такая тихая и ласковая, кроткая и печальная ночь?.. Где-то играет оркестр духовой военной музыки… То тихо, почти не слыхать, то громко, совсем близко. Не поймешь, где. Может быть, в том саду, где мы впервые увидали и полюбили друг друга. Да, конечно там: когда ветер с той стороны затреплет на голове волосы, музыка заиграет громко, всем хором инструментов, а когда ветерок затихает – слышны только басы, барабан, кларнеты. Что там играют такое знакомое-знакомое, от чего щемит сердце? Вальс, грустный вальс. Где и когда я слышал? Почему радостно и тоскливо от этого вальса?..
– Тра-ра-рам, та-та, тарам-та-та-та…
Ах, да!.. Вспомнил: это тот самый вальс, под который я мучился ревностью на вечеринке, глядя на танцующую с распорядителем гордую Зою… Какой милый, родной вальс!..
– Тарам-та-та, та-та, тарам-та-та-а-та-та, та-аа-а-та…
Боже, как это было давно!.. Кажется, что с тех пор прошло больше года, а ведь это было всего четыре месяца тому назад… Сколько утекло воды за эти четыре месяца… Опустил голову на руки и, в приятном полузабытье, слушаю то рождающиеся, то умирающие звуки военного оркестра. Грезится что-то далекое, милое, прошлое, успокаивающее, баюкающее душу лаской… Вот заиграли опять… Что-то заунывное и задушевное… «Лучинушку!»
– Лучи-на, моя лучи-и-нушка да березо-о-овая, ах, что же ты…
Хочется плакать от непонятной грусти о чем-то потерянном. О чем? Не знаю. Не всё ли равно, о чем!.. Холодный ветерок льется на голову, на спину, на руки… Немного холодно, но хорошо. Точно купаешься в Волге в жаркий летний день… Ах, как хорошо на Волге в жаркий летний день! Солнце припекает, как огнем, песок на берегу – горячий, словно нагретый в печке, а вода прохладная. Полежишь голый на горячем песке, а потом – кувырк в воду: сперва дух захватит от резкой перемены, а потом ничего… Только покрякиваешь от удовольствия… А потом прозябнешь, вылезешь и бух в горячий песок, как в печку! И теперь мне то жарко, то холодно, словно купаюсь в Волге и в ее песках. Что это: музыка, или только кажется?.. Нет, музыка смолкла, это в ушах осталось впечатление от музыки и от колокольного трезвона… Как странно: словно вылетевшие из оркестра обрывки музыки всё еще летают над спящим городом и не находят себе пристанища… А всё-таки холодно. Дрожь в теле. А в висках точно бьют стеклянными молоточками; похоже на часы.
Неужели уже светает? Да, вон там бледнеет и зеленеет небо, потухают звезды. На городской башне мелодично бьют часы. Сколько? Три… неужели я пролежал на руках за столом с десяти до трех?.. Озяб, – надо лечь и хорошенько укрыться, с головой. Можно сверху – шубой…
– Ну-ка, милая шуба, выручай: кажется, схватил лихорадку…
Я улегся, не раздеваясь, укрылся одеялом и шубой, поджал ноги и застучал, как голодный волк, зубами…
– Брр!.. Холодно. Ужасно холодно! Надо – с головой… И жарко, и холодно.
Странно: в ушах всё еще звучит грустный вальс…
– Трам-та-та-та, та-тааа… Зоя, идем танцовать вальс!.. Идем, милая!..
…Удивительно: даже ночью не перестают трезвонить в колокола…
Душно и жарко. На кой чорт вы накрыли меня шубой!.. Черти полосатые!.. К чорту шубу!.. Жара смертельная, а они меня еще шубой… Не имеете права. Я потребую прокурора…
– Мама, не вели им покрывать меня шубой… Жарко…
– Тарам-та-та, та-та, тарам-та-та-там-та-ааа…
XXXIV
– Вставайте! Собирайте вещи!..
– Куда? Не хочу… Я хочу спать… Убирайтесь от меня.
– Вас матушка в конторе ждут…
– Мама?.. Ах, да… Мама!.. Я сейчас… У меня ужасно болит голова…
– Собирайте вещи… Флегонт! Собери им вещи…
– Зачем вещи? Это мои вещи…
– На волю, на поруки вас к матушке… Поздравляю…
– На волю?.. Ну, что ж…
– А вы поскорее!.. Это можно бросить?
– Что это?
– Орех в сахаре…
– Нет, нет!.. Отдайте его… Это моя тайна…
– Вещи, ваше благородие, готовы.
– Неси в контору… Пожалуйте! Сюда, сюда!.. Что с вами?..
– Очень болит голова… Сегодня очень холодно?
– Нет, тепло…
– Странно. Вы говорите, на волю?..
– Да. Сюда, в контору…
– Мама!
– Геня! Ты – свободен… Я так рада, милый!.. Скорее уедем из этого проклятого дома… Что с тобой?.. Ты в жару…
– У меня лихорадка, мама…
– Да на тебе нет лица!.. Что с тобой здесь сделали!..
– Ничего, мама… Погоди, я что-то хотел спросить тебя…. Забыл. Очень важное что-то… Ах, да!.. Не вноси покуда денег Калерии…
– Да ты что, голубчик, бредишь, что ли?.. Я внесла уже и поэтому только тебя выпускают на волю…
– Я сперва должен видеть Калерию…
– Калерию? Вот тебе раз!.. Калерия за границей. Зачем тебе понадобилась Калерия?..
– Не знаю, мама… Ничего не знаю… Делайте как хотите. Мне ужасно хочется спать, мама…
– Ты болен… Ах, Господи!.. Что же это такое…
– Вещи, сударыня, на извозчике…
– Ну, уйдем скорее!.. Застегнись хорошенько!..
– Распишитесь в получении сына.
Мы уселись на извозчика и поехали. Звонко трещала пролетка, покачивалась на рессорах, и катилась всё вперед, а я сидел, прислонясь к матери, с закрытыми глазами, и мне казалось, что мы едем назад… Я раскрывал глаза и изумленно смотрел на необычайное зрелище шумливого, торопящегося города… Смотрел, но не испытывал никакой радости, а только одно изумление.
– Ах, мама, как мне хочется спать!.. Скоро ли мы приедем и куда ты везешь меня?
– На пароход.
– Разве уже ходят пароходы?
– Да, сегодня – первый пароход… У тебя лихорадка…
– Ничего… Как приедем на пароход, я лягу в каюте спать и просплю до самой Самары… Ах, как хочется, мама, спать!..
– Надо бы к доктору, да опоздаем на пароход. – Не надо. Пройдет, мама… Заедем на телеграф: я дам телеграмму Зое, – она приедет в Симбирск… и там мы обвенчаемся…
– Решили отложить до осени: твоя невеста должна сперва хорошенько поправиться, да и ты сам… Жених!.. Краше в гроб кладут…
– Кто решил?.. Как смели решать без нас?
– Мы с отцом твоей невесты решили…
– Не ваше дело!.. Стой, извозчик! Я – сию минуту, только дам телеграмму…
– Застегнись! Ах, какое мученье!.. Загорелось жениться…
«Христос Воскресе, Зоя. Я свободен, выезжай Симбирск. Геннадий».
– Готово! Едем!..
– Полковник сказал, что ваше дело кончится к осени… и тебя могут посадить еще месяцев на семь досиживать…
– Ну!
– Ну… А ты – жениться…
– А я – жениться… До осени еще пять месяцев… Оставь, мама, эти разговоры, у меня и так болит голова…
– И телеграмма не успеет дойти. Вечером мы будем в Симбирске, а…
– В Симбирске мы останемся и подождем… Я должен видеть Зою…
– Успеешь…
– Нет, не успею… Дайте, наконец, нам свободу и возможность распорядиться самими собой… Довольно с нас одной тюрьмы…
– Застегнитесь же, ради Бога, на все пуговицы!
– Не желаю. Мне жарко.
– Уступили за две тысячи… – Не понимаю…
– Торговалась с полковником, как на базаре. Две тысячи внесла, а третью надо послать Калерии…
– Ах, да… Калерии… Не говори мне ничего про Калерию…
– Она теперь не такая… Она исправилась…
– Не мое дело…
– Она опять сошлась с мужем… У ней – ребенок родился…
– Какое мне дело! Пускай родился… Мне это вовсе не интересно.
– Ухаживал, чуть с ума не сходил, а теперь не интересно…
– Никогда не напоминай мне об этом.
– Эх, ты!.. Неблагодарные вы… Она приняла в тебе такое участие, а ты… Три тысячи не бараний рог… Не всякий согласился бы…
– Перестань, ради Бога!.. Иначе я соскочу с извозчика и… вернусь в тюрьму…
– Конечно, она легкомысленная женшина, а всё-таки добрая и отзывчивая.
– Тпру!..
– Матрос! Прими вещи…
– Какой пароход?
– «Гоголь».
Гудят свистки пароходов, развеваются на мачтах флаги, клубится из труб черный дым, скрипят сходни, поют грузчики, волоча по сходням что-то тяжелое:
«Аа-ах, ней-дет, да-вот пойдет!
Аа-ах, ней-дет, да-вот пойдет!»
А там, за пароходами, блестит свободная, широко разлившаяся река, а вдали синеют еще голые горы с пятнами ярко-белого снега в ложбинах и оврагах. Клочки порванной зимней одежды гор… Поплескивает тяжелая мутная еще вода в борт парохода и звенит, словно пароход – стеклянный. Пассажиры нарядные, словно вместе с пароходом их всех заново отремонтировали и выкрасили в яркие цвета. Говор, крики, пение грузчиков, грохот от бросаемых в люк товаров, французский лепет дам на балконе и русская ругань на палубе…
Стою на пароходе, смотрю на широкий простор водяной равнины, на синеватый контур далеких гор и потихоньку бунчу:
«Выдь на Волгу! Чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется…»
А в душу радостной волной льется свобода и хочется, простерши вперед руки, закричать:
– Здравствуй, матушка Волга, родимая река!.. Привет тебе, раздольная!..
– Я опять свободен, и любим я, матушка-Волга!!.
Кричать неудобно. Я снял шляпу и широким жестом руки махнул сверкающим на солнце водяным равнинам.
Хорошо! А озноб опять начинает ломать кости. Холодно, хочется потягиваться, погреться около горячей трубы… Вот как только отвалит пароход от пристани, пойду в каюту, лягу под шубу, закроюсь с головой и, поджав ноги, буду спать, спать, спать…
Загудел и задрожал пароход, шевельнулись колеса и зашумела внизу вода.
– Отдай носовую!
– Есть!
Поплыла мимо конторка с провожающими, замелькали в воздухе платки и зонтики, задвигались баржи, пароходы, мачты, показалась Казань с белым кремлем, с золотыми куполами собора, с красной высокой башней Сумбеки…
– Прощай, Казань!..
– Застегнись ты, ради Бога!..
– Иду, мама… У меня опять лихорадка…
– Иди пить чай…
– Нет, ты пей, а я лягу и буду спать, долго буду спать… До самого Симбирска… Спать и спать… больше мне ничего не надо…
– Ты кашляешь…
– Ничего… пройдет… Не беспокойся, старенькая… Я пойду… Что ты смотришь так беспокойно?
XXXV
…Какой жаркий день. Словно в жарко-натопленной печке. Зачем вы меня закрываете? Не надо. Вот я полежу еще на горячем песке и буду снова купаться… Ты, мама, не бойся, я не утону. Я отлично плаваю по-саженному… Пустите же, не держите меня!..
…Я требую выставить рамы: вы не имеете права закрывать форточку. На улице весна, а вы скрываете от меня и говорите, что – зима. На прогулку я не пойду и обедать не буду. Не хочу я пить! Чего вы суете мне в рот? Убирайтесь от меня! Зачем вы кладете камень на голову? Не имеете никакого права…
…Мама, кто это в белом? Прокурор? Доктор… Не верь, он притворяется доктором. Скажи, что это – не я… Тише, опрокинешь лодку! Гребите, братцы, ровнее. Касьянов! Запевай «Вниз по матушке по Волге!»..
…Ах, Зоя… ты совсем не умеешь перестукиваться. Ну, я слушаю… Не понимаю. Зачем тебе подвенечное платье? Оставь нас, мама!.. Это не твое дело. Ну, вот и перевернулись… Я весь мокрый… С ног до головы…
– Это хорошо.
Кто это говорит, что «хорошо»… Дурак какой!.. Дурак, брат, ты, Касьянов. Что вы со мной делаете?..
– Ничего, ничего… Оборотите хорошенько голову. Дайте ему ложку портвейну…
Вкусное вино… Налей, Касьянов, как следует… Оно горячее… Смешно…
– Калерия!.. У тебя горячие глаза… Как угли, раскаленные черным огнем. Уйди!.. Не люблю… Не жми мне руку… Не садись ко мне на кровать!.. Ах, это ты, мама… Я хочу спать. Разбуди, когда будем подходить к Симбирску… Ночь или день?..
– Ночь… уже девятая ночь…
– Когда же Симбирск?.. Я еще успею уснуть?.. О чем ты всё вздыхаешь? Мне очень хорошо… Я скоро выздоровлю…
Раскрываю глаза, смотрю на потолок, обвожу взором стены и удивляюсь. Незнакомая комната, белая с голубым; раскрытое окно, большое, светлое окно; в окно смотрит голубое небо, видны верхушки зеленых берез… Поют птицы за окном и кудахчет курица… Странно! Что такое со мной случилось? Где я и как сюда попал? Серое, не мое одеяло… И ноги точно не мои: длинные-длинные. Где-то медленно выбивают маятником часы…
– Ты проснулся…
– Мама!.. мама!.. Ты…
– Не говори, доктор не велел разговаривать…
Доктор?.. Да, да, да… Вспомнил: ведь я болен, в больнице…
– Славу Богу!.. Слава Богу!..
– Мама… Где мы?.. в Симбирске?
– Да.
– Приехала Зоя?..
– Не говори же… Спи больше.
– Я не хочу спать… Скажи про Зою!..
– Она здесь, в Симбирске.
– Позови ее ко мне…
– Доктор не велит…
– А я хочу…
– Ты плачешь… Ах, ты, Господи!.. Вредно волноваться, а ты…
– Пришли ко мне Зою!
– Ну, спросим доктора: он велел подождать. Может быть, разрешит.
– Попроси его… Ей-Богу, я скорей выздоровлю!.. Даю вам слово…
– Вот наказание!.. Я пожалуюсь, если будешь разговаривать…
Я уткнулся в подушку и тихо плакал, как обиженный маленький мальчик. И чувствовал я себя как маленький мальчик: сердился на маму и хотел назло ей умереть. А когда растворилась дверь и гулко прозвучал строгий голос доктора, обходящего всех больных в сопровождении фельдшерицы, я испугался и притих, притворился спящим и боялся, что мать будет на меня жаловаться доктору.
– Ну-с, молодой человек, как наши дела?..
– Капризничает он…
– Оставь, мама!
– Требует невесту…
– Эге!.. вон он чего захотел. Это хороший признак. Ну-ка, жених, сядьте, я послушаю… Температура?
– 36,7.
– Отлично. Повернитесь, жених, спиной!.. Вот так.
– Время ли теперь думать о женитьбе…
– Да-с, придется еще полежать… А пожалуй и того… на юге пожить… Дышите глубже! Еще!.. Хорошо, в общем хорошо. А жениться всё-таки рано. Это, молодой человек, всегда успеется.
– Я прошу, доктор, не жениться, а только дать мне свидание с невестой.
– Денька через три-четыре… и то при одном условии… на приличном расстоянии… Смотреть друг на друга можно, а приближаться – никоим образом…
– Через два дня… А раньше?
– Я сказал, не через два, а через три-четыре. А впрочем, завтра увидим. Главное – не волноваться…
– Если не пустите, я буду волноваться гораздо больше, доктор. Нельзя ли завтра!.. Ну, хотя послезавтра!.. Мы не видались целую вечность.
Утро вечера мудренее… Завтра увидим, а не увидим, так посмотрим.
Доктор пошел прочь, мать – за ним. О чем-то они тихо разговаривали в дверях, а я лежал и улыбался во весь рот: скоро увижу, наконец, мою Зойку, мою прекрасную любимую Зойку… Какая она стала?.. Господи, как я счастлив!
– Мама, что сказал доктор? Можно завтра? да?
– Можно завтра… А потом советует пожить в Крыму до осени…
– Ура… О чем же ты грустишь и вздыхаешь?.. Всё идет прекрасно…
– В Крым надо… Напрасно я отправила тысячу назад, Калерии…
– Мы обвенчаемся и вместе поедем в Крым… Господи, как это великолепно!..
– Лежи, не вскакивай на постели! Нельзя.
– А какой теперь месяц?
– Завтра – первое мая…
– Неужели – май? Не может быть!
– Май. Лежи же, Христа ради…
– Лежу, лежу… Всё лежи да лежи… Надоело уж…
– Скажи – слава Богу, что жив остался… Думали не встанешь совсем.
– Глупо, значит думали… Зоя где остановилась?
– Молчи!
– Не замолчу. Скажи, где!
– У родных.
– Приходила она сюда?
– Каждый день заходит. И сегодня прибегала уж…
– Милая… милая… Она боялась, что я умру…
– Вместе ревели в приемной… Она ничего девушка, нравится мне…
– Вот видишь!.. А ты… Она удивительная… такой больше нет на свете!..
– Перестанешь ты болтать, или мне к доктору итти и пожаловаться?
– Молчу, молчу, мама… А смеяться можно… Это не вредно, а напротив…
– Потихоньку смейся…
Лежу и смеюсь. Не знаю, чему смеюсь… Всё смешно: и рука у меня смешная, и ноги очень длинные, как у покойника, и прическа у мамы смешная… И фельдшерица курносая – нельзя смотреть на нее без смеха…
– Ну, будет уж!.. Посмеялся и довольно…
– Это невозможно… Ей-Богу!.. Уморительно!.. А какой сегодня день?
– Ей-Богу, я сейчас пойду к доктору…
– Молчу, молчу, мамочка… Ябеда ты какая… сутяга!..
– Кушайте!
– Опять – манная каша!.. С первого дня началась эта каша…
– Не капризничай!
– Когда же дадут курицу?
– На обед.
А всё-таки вкусная каша, душистая. А посреди – лужица из растопившегося желтого масла. Даже слюнки потекли.
– А ложку!.. Забыли ложку!..
– Извините, сейчас подам…
Смешная, курносая… Похожа немного на Веру Игнатович. Где-то теперь Вера и Касьянов?.. Живо съел кашу, выскоблил дочиста тарелку, а есть всё хочется.
– Вот вам молоко.
– Весьма и очень, сестрица милосердная, признателен…
– Я не сестра, а фельдшерица…
– Ну, всё равно.
– Всё равно, да не одно.
Поел, попросил зеркало и стал смотреть на себя: худущий, глаза ввалились… Ба, усы как выросли! Не ожидал.
– Мама, посмотри, как у меня выросли усы… Можно закрутить…
– Еще бы: жених!
– Не затворяй окна!
– Не дует?
– Нисколько. Должно быть, там сад. Как весело распевают птицы…
– Молчи и слушай.
Симбирск… Я в Симбирске. Как-то чувствуется другой город. Я очень люблю Симбирск. Он на высоких зеленых горах, тихий такой, ленивый, очень похож на старосветского помещика. А главное, – это – Зоин город, и теперь в этом городе Зоя. Это чувствуется, что она теперь в этом городе. Ах, скорей, скорей, беги, время, и приближай меня к Зое! Я так соскучился по ней, так соскучился, что готов соскочить с кровати и помчаться разыскивать ее. Как вспомню, что завтра или послезавтра увижу Зою, обольется сердце кровью и хочется хохотать во всё горло, хохотать, хохотать и болтать ногами… Воображаю, как в эту дверь войдет девушка в белом платье и вскрикнет от радости… Лучше, если бы в этот момент мы были одни…
– Мама, когда придет Зоя, ты нас оставишь не надолго одних?
– Надо спросить доктора…
– У тебя – всё доктор!.. Шагу не ступишь без доктора. Неужели ты не понимаешь, что…
– Пожалуйста, доктор велел издали.
– Нам надо поговорить о многом наедине.
– Скажите пожалуйста!..
– Красива она? Правда?
– Худущая, как и ты…
– А какие у ней чудные волосы!
– Что-то уж больно много их… Свои ли у ней волосы?
– Ну, вечно с подозрениями… Ничему хорошему не желаете верить.
– Теперь так фокусничают девицы, что не узнаешь.
– У ней толстые косы, золотые…
– А ты взвешивал?
– Да, взвешивал.
– Теперь она в прическе.
– В прическе!..
– Целая копна на голове.
Зоя в прическе!.. Это смешно, ужасно смешно… Интересно, как она выглядит в прическе. Милая!.. Целая копна волос…
– Узлом, мама?
– Чего узлом?
– Да волосы-то!.. Бестолковая какая…
– Узлом, узлом… Теперь у всех узлом.
– Это очень красиво!
– А мне не нравится…
– Ты ничего не понимаешь.
– У меня были волосы до колен.
– Мало ли что было… А теперь вылезли.
– С вами вылезут… Погоди вот, женитесь, пойдут дети, – и твоя Зоя начнет… и зубы станут болеть, и волосы вылезать…
– У нас не скоро будут дети. Мы… понимаешь, мы решили лет пять жить, как… ну, понимаешь… как брат с сестрой. Дети мешают общественной деятельности…
– А ну вас… не болтай пустяков!
– Потрудитесь вставить термометр?
– Опять термометр?
– Да, пора уж…
– Надоел ваш термометр…
– Ставь, ставь!..
Поставил под мышку термометр, лежу, смотрю в потолок и рисую себе Зою в прическе… Гм!.. смешно…
– Сколько?
– 37,2.
– Ну, вот, оболтался… Повысилась…
– Больше не буду… Это пустяки…
Я притих. Убедился, что болтать вредно, и стал бояться, как бы повышение температуры не отдалило нашего свидания с Зоей. Сделался кротким и послушным. Опять стал смотреться в зеркало, находил, что худоба меня не испортила, а совсем напротив, еще более сделала похожим на какого-то писателя. Гм!.. «Что ни говори, а в моей физиономии есть что-то писательское»… Так и уснул с зеркальцем в руке.
XXXVI
Ликуйте, земля и небо: сегодня ко мне придет Зоя!..
– Сколько времени, мама?
– Десять било.
– Давно?
– Только сейчас пробило. Неужели не слыхал?
– Странно: не слыхал. А может-быть одиннадцать?
– Десять. Рано спустил ноги: устанешь. Она приедет в одиннадцать.
– Еще час. Целый час!
Не знаю, что делать. Разрешили смотреть в старой «Ниве» картинки, да надоели эти картинки. Рассматриваю в пятый раз. Буду разгадывать ребусы. Устают руки держать тяжелую книгу: этой книгой можно убить читателя. Трясутся еще от слабости руки… Устаешь… Пожалуй, лучше пока полежать.
– Мама, возьми эту пудовую книгу.
– Вот видишь! Говорила тебе, – рано сел.
Лежу во всем чистом, волосы рассыпались по подушке, одеяло лежит ровно и красиво; руки наверху, на одеяле, белые, с длинными кистями. Слушаю, как стукают в коридоре стенные часы, как за окном поют птицы, как свистят на Волге пароходы, как время от времени трещат где-то близко извозчичьи пролетки. Пугают эти пролетки: всё кажется, что кто-то подъехал к больнице, что этот «кто-то» – Зоя; вздрогнешь, сядешь в кровати и насторожишься. А сердце застучит громко и неровно.
– Ты что?
– Погоди, кто-то подъехал… Нет, показалось…
– Да ведь мимо не проедет. Чего же так беспокоиться!
Уф, даже в жар бросило…
– Мама, дай мне чистый носовой платок!.. И гребенку.
Какая, однако, шевелюра выросла. Хорошо, если бы волосы вились большими волнами, как у Калер… Ну ее к лешему! Покраснел, отбросил зеркало… Святотатством казалось самое произнесение этого имени… Словно грязнил чем-то свой светлый праздник…
– Мама, теперь уже не христосуются?
– Вот тебе раз! Шесть недель христосуются. Что ты, татарин, что ли?
– Забыл. Едет, едет… Она, мама… Зоя!.. Чувствую, чувствую…
– Да погоди…
Мама идет к окну. Протяжно бьют где-то часы одиннадцать.
– Одиннадцать!.. Она!..
– Да, она… Пойду встретить…
Мать вышла из палаты. Что делать?.. Лечь или сидеть?.. Господи, что это со мной! То жарко, палит лицо огонь, то холодно, так холодно, что стучат зубы… Забыл сегодня почистить зубы… Опять звонят в ушах стеклянными молоточками. Лучше лечь… Нет сил сидеть и ждать… Лег лицом к двери и жду в огне и трепете. Идут! Идут!..
– Можно? – прозвучал за дверью голос и ударил меня прямо в сердце.
– Можно, можно… Зоя!
Распахнулась дверь, и на пороге приостановилась стройная, высокая девушка, вся в белом, в пастушеской соломенной шляпе с загнутой голубенькой вуалеткой, с синими васильками и бело-желтыми ромашками, под шляпой тяжелая груда золотых волос, в одной руке перчатки и кружевной зонтик, в другой – куст белой сирени… Словно сама весна в ослепительном сиянии вошла с цветами родных полей и садов.
– Зоя! – прошептал я упавшим, не своим голосом, сел в постели и протянул к девушке руки.
Вспыхнуло розами милое лицо, схватилась милая рука за грудь, опрокинулась голова…
– Иди же, голубка!..
Рванулась от двери, упала на колени около постели и, спрятав свою голову у меня на груди, стала смеяться и плакать…
– Да погоди же, дай мне посмотреть на тебя…
Я хотел откинуть ее голову, а она не давалась и продолжала плакать. Я вытащил колючую булавку, сбросил шляпу с васильками и потонул губами в мягком, душистом и щекочущем золоте волос… А куст белой сирени валялся на полу и источал одуряющий аромат…
– Милый, милый… Я уже думала, что никогда… никогда больше не увижу!..
Кто-то сердито покашлял у двери. Зоя поднялась на ноги и, отскочив к окну, отвернулась и застыла в неподвижности.
– Ах, это ты, мама…
– Я… Сирень-то что бросила?.. В воду ее надо…
Пошла искать посуду для сирени.
– Зоя!.. Она ушла… Да погляди же на меня!..
– Стыдно… Знаешь, папа уже согласился… А было раньше хуже тюрьмы… Я тебя ужасно люблю… Но доктор говорит, что тебе нельзя скоро жениться..
– Повернись же ко мне, Христа ради!.. Христос воскресе!.. Ты, мама?
– Я.
– Убеди Зою, что теперь еще христосуются!..
– Поди, сама знает. Не татарка…
– Вот слышишь, Зоя!.. Христос Воскресе!..
Обернулась, вся пунцовая подошла ко мне, наклонилась, опустила глаза:
– Ну, воистину воскресе!..
И чуть-чуть коснулась губами моих губ. И снова отвернулась.
– Если ты не будешь на меня смотреть, я рассержусь… Слышишь?
Улыбнулась, вскинула на меня глаза и села на стул у постели. Я пожирал ее глазами… Похудела, но стала еще прекраснее. Прямо изумительная, поразительная красота!.. Неужели она, эта самая девушка, будет скоро моей женой? Невероятно!..
– Посмотри же на меня!
– Я, Зоя, немного устал… Извини, я немного полежу…
– Конечно, голубчик!.. Меня не стесняйся, а то… не буду…
– Ну, чего не буду? Любить?..
Громко засмеялась, ударила белой шелковой перчаткой по руке и сказала, блеснув синими глазами:
– Ходить не буду, а не «любить»…
– А любить будешь?
Кинула взор на мать и, обернувшись ко мне, кивнула глазами… Ах, как передать это мимолетное движение прекрасных глаз? Нельзя передать: нет таких слов у человека. Вот если бы в черную ночь с черными ползущими тучами вдруг на одно только мгновение раскрылся кусочек синего неба и в это окошечко на одно же мгновение выглянуло всё солнце!.. Нет, не то… Солнце не пряталось: оно сидело рядом на стуле, и не было никаких туч, а было всё синее, и белое, и золотое… Только белое, синее и золотое.
– Ты похудела…
– И… подурнела…
– Ты? Какая ложь!.. Ты прекраснее всех ангелов на небе.
– Вот уж это, господа, грех… Ангелов-то уж не надо трогать…
– Ты, мама, смешная… Ей-Богу, ты смешная!..
– Нет, я сильно подурнела, Геня…
– Неправда!.. На вот волшебное зеркальце и спроси: «я ль на свете всех белей, всех румяней и умней?…». И оно тебе скажет, что – ты!.. Ах, Зойка… Съел бы я тебя!..
Мать расхохоталась и сказала:
– Еще долго, брат, на диэте просидишь… Не рассчитывай!.. Вон доктор идет…
– Ну-с… Счастливы? Только не так близко… Температура?
– 37,2.
– Желудок?..
Мы с Зоей отвернулись друг от друга. Чорт бы его взял, этого доктора, с глупыми, неуместными вопросами!..
– Всё, решительно всё хорошо… Ничего не надо, нигде не болит… Я совершенно здоров… И очень счастлив!..
– А всё-таки продолжительное волнение преждевременно. Сколько времени продолжается ваше счастье, то-есть свидание?
– Я только сейчас пришла. Ровно в одиннадцать.
– А сейчас, барышня, уже полчаса двенадцатого…
– Как так?.. Не может этого быть!.. Я только сейчас…
– Сейчас… В часу шестьдесят минут. Для первого знакомства достаточно…
– Ну, доктор!..
– До-ктор!..
– Не могу-с. Сегодня надо было всего десять минут, а завтра… Впрочем, завтра неприемный день. Придете послезавтра. А теперь прощайтесь!
Мы грустно переглянулись и стали в два голоса упрашивать, чтобы и завтра нам разрешили повидаться…
– Хоть на десять минут!
– Нет, на двадцать. Христа ради!..
– Гм… Откуда вы сирени достали?.. Так рано…
Зоя подразнила:
– Разрешите мне завтра придти с сиренью… для вас!
– Ах, вы!.. Что с вами сделаешь?.. Ну уж несите взятку, так и быть.
– Мерси, доктор!
– А теперь пора… А то и завтра нельзя…
– Ухожу, ухожу… Моментально ухожу… Надеваю уже шляпку.
Доктор поклонился и ушел. Зоя растерянно ходила по комнате.
– Куда же я дела булавку от шляпы?.. Потерялась… Ты не видал, Геня?
– Булавку?.. Нет, не видал…
– Эх, вы… и булавки все растеряли…
Обе, и мама и Зоя, ищут булавку. Ах, Зойка, какая она хитренькая!.. Выбрала момент, когда мама нас не видит, быстро скользнула к кровати, наклонилась, поцеловала меня и, поднявшись с булавкой в руке, сказала радостным голоском:
– Мерси, не трудитесь. Я нашла…
А сама пунцовая и не смотрит на меня. Какая хитренькая… Вот не думал!.. Умница! Люблю. Безумно люблю!
– Как идет к тебе эта шляпа!
– Разве?
– Нарядная ты… модница…
– Для тебя!.. Всё только для тебя… Боюсь, что разлюбишь…
Пожала руку матери, послала мне воздушный поцелуй и выпорхнула, сверкнув белой легкой тенью, в дверях.
– Зойка!..
Не слыхала. Ушла моя весна. А в комнате всё еще витает ее белый призрак. Пахнет ландышем и сиренью. Пахнет ее золотыми волосами, ее легким платьем. Всё еще звучит в ушах ее голос, стоит ее радостное, улыбающееся лицо… Эх, вот счастье: на моей постели ее василек от шляпки!.. Синенький!.. Миленький!.. Вот я тебя поцелую и положу к себе под подушку…
– Мама! Посмотри: она потеряла василек со шляпки…
– Ничего не бережете… Девушка будто ничего себе…
– Ничего себе… Сама Красота, а вы… много вы понимаете!..
– Довольно ласковая со старшими… А полковник в Казани мне наговорил на нее… Я уж так испугалась за тебя…
– Совершенно зря пугаетесь… Радоваться за меня должны, а не пугаться.
– Слава Богу!.. Только жениться-то доктор велит повременить.
– А ты рада этому!
Я почувствовал усталость, лег и вытянул ноги. Закрыл глаза и вспоминал, как всё это было: как она вошла, не хотела на меня смотреть, потом бросилась на колени перед кроватью… Синеглазая… Золотоволосая… Люблю! Больше жизни люблю тебя, Зойка! Теперь уж до завтра. Завтра надо поговорить обо всем. Сегодня не успели… Не скоро это «завтра»…
Гудит пароход на Волге. Когда-нибудь мы с Зойкой будем ехать на пароходе, вдвоем только в каюте. Ах, как я счастлив, я самый счастливый человек на свете…
Я прикрылся одеялом, перекрестился и прошептал:
– Благодарю, Господи…
– Ты что там колдуешь?
– Какое, мама, счастье жить на свете!.. Спасибо, что родила ты меня…
– Не стоит благодарности…
– Как не стоит. Что ты!..
Я отбросил одеяло и стал хохотать. Мать – тоже.
– Ну, подойди, мамочка, я поцелую тебя…
Мать подошла. Я стал ласкать ее голову, поцеловал в щеку. Отвыкла старенькая от теплой ласки: расплакалась…
– Вот тебе раз! О чем?..
– Спасибо тебе, Геничка… Ты такой ласковый… Бог пошлет тебе много-много счастья!..
– Да, мама, много-много… И я буду делиться им с тобою…
– Нет, зачем… У тебя своя жизнь… Только не забывай… И за то спасибо…
– Благословляешь нас с Зоей?..
– Да, конечно… Вы такие добрые, милые, молодые ребятки…
– Спасибо, мамочка!.. Спасибо! А теперь я немного усну… Устал что-то.
– Поспи. Много волновался.
Я замолк и долго слышал, как мать ходила на цыпочках, оберегая мой покой. Потом сладко и крепко заснул…
XXXVII
Каждый день я с жадным нетерпением жду, когда часы в больничном коридоре начнут бить одиннадцать. Зоя удивительно аккуратна: как только пробьет одиннадцатый удар, я сажусь к окну и устремляю свой взор на дорожку меж берез, ведущую к воротам больницы. Вот уже подкатили дрожки… Идет… идет моя белая пастушка с васильками и ромашками на шляпе. И всегда в руках цветы. Идет торопливым шагом и нетерпеливо смотрит на окна. Увидим друг друга и оба, улыбаясь, киваем головами… Еще минута, и в коридоре проворно стучат чьи-то каблучки… Чьи? Конечно ее, моей нетерпеливой пастушки!..
– Здравствуй!







