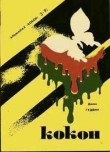Текст книги "Кокон"
Автор книги: Евгений Немец
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
– Павел, ты уже знаешь? – спросила Алёна после моего стандартного: «Грек у аппарата».
– Что?
– Твоя ученица – Наташа Плеханова. Её изнасиловали и чуть не убили. Она в реанимации.
Вот что мне сказала Алёна по телефону.
Урок уже начался, но я не торопился. Мне казалось, что мои ноги одеревенели, да и звук шагов в пустых коридорах напоминал удары биты в барабан. Я говорил себе: она мне никто, мне плевать, мне, чёрт возьми, плевать, что там с ней стряслось! Я не хочу в это лезть, я не обязан во всем этом вариться! На кой хрен мне чужие проблемы!.. и видел Наташу перед собой, с распахнутыми удивленными и немного испуганными глазками, прижимающую к груди томик Орлова; несчастную наивную девочку, в лиловой кофточке и с двумя хвостиками на затылке, но такую милую и приятную взгляду…
В классе стояла гробовая тишина, двадцать восемь пар глаз моих подопечных из 11-го «Б» смотрели на меня; подростки были придавлены тяжестью жестокой реальности, и ждали от меня… чего? Защиты? Твердой руки? Уверенности, что с ними не произойдет тоже, что произошло с их одноклассницей?.. Чего, черт возьми, они от меня хотели, что я мог им дать?! Как я мог всех их защитить, уберечь?! Несчастная девочка не успела вылупиться из яйца детства, как безумный кровожадный мир порвал её на куски. Точь-в-точь, как на картине того ненормального художника Антона Грувича – капля-девушка-эмбрион отрывается от пуповины первоприродной защищенности и с ужасом несётся в реальность, понимая, что это дорога в один конец. Люди лелеют свою индивидуальность, надеясь, что она – залог их безопасности, – иллюзия, абсолютная в своей слепоте и глупости. Мы – икра, которую бессистемно мечет время; мы еще не вылупились, а нас уже поджидают голодные хищники и стихии, разве что вероятность выжить у людей чуть больше, чем у мальков.
Я подошел к столу, оперся на него руками, минуту стоял неподвижно и смотрел в раскрытый журнал, зачем-то пытаясь прочесть список учеников, затем поднял глаза, обвел молодежь взглядом, на пустующем месте Наташи задержался.
Почему эти ублюдки выбирают самых беззащитных? Почему они выбирают самых ранимых?.. Меня начало колотить. Мне хотелось найти этих отморозков, и переломать им все кости, отрезать яйца и затолкать им в глотки, а потом содрать с лиц кожу. Я ненавидел их, за то, что они сделали, и я ненавидел мир, который заставлял меня так ненавидеть.
Надо было что-то сказать. Я ещё раз обвел учеников взглядом, заглядывая каждому из них в глаза, остановился на Антоне Горевском, тот сосредоточенно рассматривал свои ногти.
– Смехуёчки закончились, детки. Добро пожаловать в грёбаную взрослую жизнь, куда вы так отчаянно рвались, – сказал я и не узнал собственный голос, он стал каким-то хриплым и треснутым. Затем, все ещё пристально глядя на Антона, мрачно добавил. – Мне нужны имена. Мне нужны имена этих ублюдков. У вас есть друзья и знакомые в других школах, старшие братья и сестры, кто-то что-то слышал или видел, кто-то что-то знает. Это ваш экзамен во взрослую жизнь.
Больше я им ничего не сказал, развернулся и поплелся к выходу. Уже на крыльце лицея мобильный запиликал сигналом вызова, на автомате я включил связь.
– Павел, зайди ко мне после урока, – это была Инна Марковна.
– Нет. Я иду в больницу. Да и вообще – я увольняюсь.
Директриса что-то ещё пыталась сказать, но я разорвал соединение, а следом выключил телефон.
В столе справок больницы я узнал, где находится реанимация, и каково состояние пациентки Плехановой. Врачи делали, что могли но… но этого оказалось недостаточно, – девочка впала в кому. Не знаю, зачем мне это было нужно, но я испытывал потребность взглянуть на неё. Что бы я там увидел? Неподвижное тело, упакованное в плотный кокон бинтов, синюшные опухшие губы, иссиня-черные круги вокруг глаз, куча датчиков, проводов и трубочек, подключенных к аппарату поддержки жизнедеятельности, – жуткое доказательство хрупкости человеческого тела.
Я не выношу больниц. Там всегда слишком много людской слабости и горя, отчаянья и безнадеги. Помноженные на удушливый запах медикаментов, этот адский коктейль действует на меня угнетающе, – достаточно пятнадцати минут, чтобы под его воздействием я впал в депрессию. И, тем не менее, я взял пропуск, купил бахилы и одноразовый халат, и отправился на третий этаж.
У двери в реанимацию сидел крепкий парень в форме сержанта ППС, и внимательно за мной наблюдал. На вид ему было лет двадцать пять. Черты его лица выказывали напряжение, словно он готов был броситься на меня с кулаками в любую минуту. Я миновал его и вошёл в длинный коридор реанимации, с множеством палат, двери в которые отсутствовали.
– Что вы тут делаете? – довольно грубо обратился ко мне мужчина лет тридцати, выглянув из ближайшей палаты. – Сюда посторонним нельзя.
– Вы врач?
– Да.
– Мне надо увидеть Наташу Плеханову.
– А… Бедная девочка. Кто вы ей? Отец? – он подошел ближе.
– Почти. Я – её учитель.
– Послушайте, уважаемый, сюда и родных то не пускают!..
– Нет, это вы послушайте! – я пристально посмотрел ему в глаза. – Дайте мне всего пару секунд. Я хочу видеть, что эти ублюдки с ней сделали.
Я говорил не громко, но, наверное, достаточно мрачно, потому что доктор колебался всего мгновение, затем просто кивнул на третью палату слева, куда я тут же и направился.
Палата походила на отсек космического корабля. Яркий неоновый свет, сотни мигающих и пикающих индикаторов, шуршание мехов аппарата искусственной вентиляции. Наташа выглядела точь-в-точь так, как я и предполагал. Даже хуже. Бинт на правой брови и левой скуле пропитался мазью, и лоснился, словно там были гнойные фурункулы; если грудная клетка девочки и вздымалась, то я не мог этого заметить, и казалось, что Наташа на самом деле мертва, мало того, – её нет вообще, а вместо неё положили восковый манекен, какой-то нелепый и жуткий реквизит из мрачного триллера про маньяка-убийцу. Я почувствовал, что ещё немного, и сам впаду в кому; поспешно вышел в коридор. Закрыв за собой дверь реанимации, оглянулся на сержанта, караулившего у входа, спросил:
– Тебя что, поставили её охранять?
– Вы кто? – проигнорировав мой вопрос, довольно жестко спросил он.
– Дед Пихто! Чего ты напрягся? Я – её учитель.
Несколько секунд парень взвешивал услышанное, затем сказал уже спокойно:
– Вы – Павел Грек? Наташка рассказывала про вас. Вы ей компьютер подогнали, и книги давали читать разные… Нет, я не на посту. Она… Наташа – соседка, на одной лестничной площадке живем, двери напротив. Я утром после дежурства сразу сюда, маму её, Веру Семеновну, сменил, она сутки без сна тут сидела, Наташу же ещё вчера утром нашли…
Вчера утром… Вчера было воскресенье, в лицее никто не мог обнаружить пропажи такой прилежной ученицы. Кроме матери, разумеется… Значит, все случилось в субботу вечером.
– Не знал, что у неё есть парень, – сказал я. Неделю назад такая новость вызвала бы во мне интерес, теперь она казалось совершенно незначимой.
– Да нет… – отозвался сержант с грустью. – Просто, выросли вместе. Она мне как сестра. С детства её защищал, ну… и вообще, присматривал.
– Да… вся беда в том, что когда ты действительно оказался нужен, тебя рядом не оказалось.
Ну за чем я это сказал? В чем виноват был этот юноша? Это только в голливудских сказках герой всегда появляется в последнюю минуту, чтобы спасти свою принцессу. В реальной жизни принцессу ждёт изнасилование, а то и смерть, потому что «герой нашего времени» занят. Занят работой, или семьей, или одиночеством, когда он прячется в своей квартире, глуша в одно лицо алкоголь, успокоенный непробиваемой логикой, что то, чего он не видит – не существует. Да, современный герой способен на подвиг и благородство, но он настолько упакован в броню благоразумия, что не знает, где своё благородство применить. Как бы там ни было, всё это было не важно. Вот этот парень, который готов был перегрызть глотки тем подонкам, – он безнадежно опоздал. И это изменит его, потому что это как раз то событие, которое формирует кокон – первый камень в Китайскую стену ксенофобии.
– Проклятые ублюдки! Подонки, отморозки! – рычал сержант, спрятав лицо в ладонях. – Я найду их! Я порежу их на лоскуты!..
Мне нечего было ему сказать, потому что и сам я испытывал примерно то же самое. Я положил ладонь ему на плечо и почувствовал, как его тело дрожит, – он и самом деле готов был порвать ублюдков на куски.
– Как тебя зовут? – спросил я только для того, чтобы что-то сказать.
– Сергей…
– Ещё увидимся, Серёжа, – заверил я его и побрел к лифту, не представляя, куда мне идти, неверное – домой.
На следующий день я на работу не пошёл, и на послезавтра тоже. Я вообще решил с преподаванием завязать. Хватит уже, наигрались. Телефон я не включал, а на звонки в дверь реагировал только Ларион, я же не помышлял никому открывать. Все, чем я был занят, это – своей собакой, выгуливал её, кормил, а все остальное время сидел на кухне с бутылкой коньяка и предавался депрессии. Я чувствовал себя героем романа Кафки, эдаким господином Г., которому отчаянно требуется попасть в Замок, попасть в который невозможно. Окружавшая меня реальность стояла вокруг Китайской стеной, и не было никакой возможности эту стену разрушить или преодолеть, чтобы вырваться в другую жизнь, – ту, где нет насилия, глупости и боли.
На третий день, возвращаясь с ночной прогулки с Ларионом, я заметил в почтовом ящике белоснежный конверт, избавленный от каких-либо марок, или даже надписей, и потому, очень не похожий на счета за квартиру или телефон. Я извлек его, и, зайдя в квартиру, вскрыл. На девственно чистом листе бумаги формата А4 было напечатано лазерным принтером имена и фамилии двух мужчин, совершенно мне не известных. Я таращился на этот лист минут пять прежде, чем до меня дошел смысл этого послания. На следующее утро, часов в семь, я отправился в дом Натальи Плехановой, но не к её матери, а в квартиру напротив.
На дверной звонок я давил несколько минут, наконец, дверь открылась, и моему взору предстал Сергей, одетый только в спортивные штаны. Выглядел он злым и раздраженным, как тысяча чертей, к тому же от него слегка попахивало перегаром. Он долго рассматривал меня, очевидно, пытаясь понять, кто я такой и что мне тут нужно.
– Вы, – не то спросил, не констатировал он.
– Ты ещё хочешь порезать ублюдков на лоскуты? – спросил я, и потому как он задохнулся, понял, что – да, его желание мести не улетучилось.
Я протянул ему лист бумаги, Сергей развернул его и долгую минуту молча рассматривал, затем поднял на меня глаза – в них пылал огонь.
– Я стар уже для преследования, – сказал я ему. – Но если найдешь ублюдков, дай знать, я поучаствую.
Он кивнул, свернул лист вчетверо, спрятал в кармане штанов.
– Только без проколов, – добавил я. – Убедись на сто процентов, что это они.
– Не беспокойтесь, – ответил он уверенно, – все будет чётко.
Я протянул ему клочок бумаги с номером моего мобильного, развернулся и пошел домой.
Правильно я поступаю или нет, меня не интересовало. Наташа могла и не очнуться, кома – это лотерея с высоким процентом проигрыша, а правосудию требуются факты, улики, свидетели, – слишком много составляющих, слишком сложное уравнение, чтобы результатом однозначно стал обвинительный приговор. А ублюдки были виновны, и должны были понести суровую кару. Как не крути, а правосудие и справедливость – это не одно и то же.
Но Сергей мне не позвонил. Возможно, он не хотел, чтобы в столь щепетильном деле принимал участие мало знакомый ему человек. Я ждал до пятницы, затем понял, что звонка не будет, и все что мне оставалось – покупать газеты и читать колонку криминальной хроники. И уже в воскресной газете я нашел заметку о двадцати трех летнем парне, бросившемся под поезд. Его имя стояло первым в списке, который я передал Сергею. Приложил ли мой знакомый сержант ППС к этому руки, или отморозок, захлебнувшийся ужасом содеянного, сам покончил с собой, мне было без разницы, – ублюдок получил по заслугам, и я не сомневался, что вскоре подобная участь настигнет и второго отморозка.
Удовлетворения не было, но я на него и не рассчитывал, потому что месть никогда к нему не приводит. Если по улицам города носится стая бешеных псов, их нужно локализовать и пристрелить, – это вопрос не справедливости, и тем более не этики, это вопрос самосохранения, и, как следствие – выживания вида. Мы хотим быть гуманны, а потому даём бешеным псам возможность реабилитации, тем самым превращая гуманизм в чудовищный фарс. Наш гуманизм – это иллюзия. Я не верил в него, и был твердо убежден: смертельно опасное заразное животное всегда заслуживает сиюминутной смерти.
Я долго лежал на диване, с горечью ворочая в голове все эти мысли, пока не забылся хмельной дремотой. Разбудил меня пёс, он тявкал и цокотал когтями о пол. Я открыл глаза и узрел Алёну; она сидела в кресле и спокойно дожидалась моего пробуждения, а Ларион радостно прыгал вокруг незваной гостьи.
– Что ты тут делаешь? – спросил я, переводя себя в сидячее положение, и размышляя, каким образом Алёна умудрилась просочиться сквозь запертые двери. Но затем я вспомнил, что у Михайловых всегда были запасные ключи от моей квартиры.
– Пришла узнать, живой ли, – отозвалась Алёна. – На работу не ходишь, на звонки не отвечаешь.
– Скорее живой, чем мёртвый.
– Ты плохо выглядишь. Уже все деньги пропил?
Во мне начала подниматься волна раздражения.
– Я уже взрослый, мамочка! – довольно грубо бросил я и пошел в ванную. – И вообще, уходи домой.
Умыв лицо, я взглянул на себя в зеркало. Я и в самом деле выглядел неважно. Волосы взлахмочены, куцая недельная щетина, болезненный блеск в глазах, растресканые нервные губы. Требовалось срочно выпить. Я пошел на кухню, плюхнул в стакан коньяку, сделал два глотка, но раздражение не проходило.
Алёна пришла следом, на пороге остановилась, и, скрестив на груди руки, молча меня рассматривала. Уходить, как я понял, она не собиралась.
– Марковна сказала, что ты увольняешься, – толи спросила, толи утвердила она.
– Разве она ещё не уволила меня за прогулы?
– Паша, прекрати заниматься ерундой. Ты нужен им.
– Кому «им»? Ученикам? Зачем?! Что, чёрт возьми, такого они от меня ждут?! – я с грохотом опустил стакан на стол, Алёна вздрогнула. – Они уже взрослые люди, могут позаботиться о себе самостоятельно!
– А ты можешь позаботиться о себе самостоятельно? Спрятался в своей квартире, как крот в норе, отгородился от жизни, и боишься на улицу нос высунуть! – Алёна повысила голос, её глаза сверкали.
– Да, чёрт возьми! – мое раздражение уже переросло в злость, я почти кричал. – Чтобы случайно не узнать, что твоего ученика ночью нашли с проломленным черепом, или в луже блевотины от героинового передоза, а ученицу изнасиловали и убили угашенные отморозки, или продали в турецкий бордель! Что с этим делать?! На кой хрен мне это знать, когда все равно ничего нельзя изменить?! Эта блядская жизнь все равно перемелет каждого из них, нагадит им в души и выкинет на помойку! Какого хрена ты пришла сюда, чего ты хочешь?! Чего ты лезешь в мою жизнь, мне сто лет не нужны твои проблемы и душевные муки! Мне сто лет не нужны проблемы их всех! Или ты думаешь, что ёбаная любовь и доброта спасёт мир?! Чему их учить? Христианскому смирению?! Чтобы они возлюбили своих насильников?! Или наоборот – озлобленности, чтобы они дрались до конца, перегрызали глотки своим врагам?! Ты сама что выбираешь?! Что ты будешь делать, когда какой-нибудь отморозок с ножом в руке поставит тебя на колени в темном подъезде и засунет в твой чудесный ротик свой вонючий хуй?! – я орал это перепуганной Алёне в лицо и толкал её в комнату, уже не совсем понимая, что я говорю, и что делаю. Меня накрыла волна ярости, ослепительной и всепоглощающей. Все, что накопилось во мне за последнюю неделю, теперь смрадным потоком било наружу, и я не в силах был этот фонтан заткнуть, остановить. – Так что?! Что ты будешь делать?! Прикроешь глазки, и будешь послушно сосать?! Так ведь и будет, верно?! Хорошо быть правильной, спрятавшись в кокон своего уютного мирка, а когда доходит до жестокой реальности, оказывается, что ты просто грязная сучка!..
Я сорвал с неё блузку и толкнул на кровать, сам повалился следом. Ларион в панике тявкал и метался, Алёна в ужасе закрылась руками, а я… меня колотило, меня скрючило, словно в эпилептическом припадке, мышцы во всем теле напряглись до максимума, и казалось, ещё немного и они порвутся…
Алёна хлестала меня по щекам и что-то кричала, но я не обращал на это внимание, какой-то древний дикий зверь, таившийся все тридцать шесть лет, вдруг прорвался наружу и теперь бесновался. Я сорвал с Алёны бюстгальтер, просто порвал его пополам и отшвырнул в сторону. Алёна больше не сопротивлялась, она закрыла ладонями лицо и не шевелилась, а на меня смотрели два стыдливых нежно-кофейных соска. И в этой покорности, беззащитности и ранимости было что-то такое, что подействовало на меня отрезвляюще. Я вдруг осознал, что чуть было не изнасиловал женщину, которую любил, и следом с поразительной чёткостью я вспомнил взгляд художника Антона Грувича – этого Демиурга, холодный и безучастный, как блеск на острие скальпеля, как студеная черная вода в прорубе, взгляд, видевший меня сквозь толщу грядущего с вскрытой грудной клеткой и вырванным сердцем, с глазами, переполненными слезами и отчаяньем. Безумная фантазия Грувича стала реальность, а потому – была правдой, и от ужаса этого понимания меня прошиб ледяной пот, я без сил рухнул на Алёну, зарылся лицом в её волосы и разрыдался, как сопливый ребенок.
– Господи!.. Алёна… Что?!… Что со мной творится?!…
Рыдания били меня ещё долго, а потом я вдруг ощутил Алёнины пальцы на своей спине, она гладила меня, успокаивала. Я не мог в это поверить, но это происходило, – она прощала меня.
– Это просто нервы, – тихо сказала Алёна. – Тебе дороги твои ученики, они тебе, словно дети. Всегда больно, когда с детьми случается что-то ужасное. Но надо жить дальше. И… ты сможешь, и ты им нужен.
Я ничего не ответил, просто лежал, вдыхал сладковатый аромат её тела и медленно успокаивался.
– Пойдем, – сказала Алёна, – мне нужен хороший глоток коньяка.
Я не стал возражать, мне и самому глоток коньяка не помешал бы.
Полчаса спустя, когда мы сидели с Алёной на кухне и пили кофе, дверной звонок издал осторожное «дзинь». Я пошел открывать. На пороге стояла Ира Бажанова и Антон Горевский. Выглядели они нервно, обеспокоенно.
– Привет, молодежь, – сказал я. – Как жизнь?
– Более-менее, – отозвался Антон. – Мы так, проведать. А то вас неделю уже нету.
– Можно подумать – соскучились, – я грустно улыбнулся.
– Ну да. Мы не одни, там все, – сказал Ира, и кивнула в сторону выхода.
– Вот как? Ладно, сейчас выйду.
Я обулся и вышел на улицу, Алёна спустилась следом, накинув на плечи мою куртку. Весь класс, все двадцать восемь человек, стояли перед подъездом и смотрели на меня. Только Наташи Плехановой не хватало. В их взглядах угадывалось участие, словно они пришли навестить тяжелобольного пациента; мне стало как-то неловко. В следующую секунду они окружили меня и принялись наперебой здороваться.
– Ну ёлки-палки… – вырвалось у меня. – Ладно, ладно… Все нормально. Идите лучше погуляйте в парке, погода хорошая. Завтра… завтра в школе увидимся.
– Так вы завтра придете? – переспросила Ирка.
– Приду. Куда ж я без вас. И учите информатику, бездари, завтра спрошу.
Лица моих подопечных просветлели улыбками, но они не расходились, стояли и ждали от меня чего-то. Чего? Доброго слова? Напутствия?
– И вот что, детки, заботьтесь друг о друге, потому что больше о вас заботиться некому, – сказал я им первое, что пришло в голову. – А теперь проваливайте.
Я повернулся к ним спиной и встретился взглядом с Алёной. Она пристально смотрела мне в глаза и улыбалась.
– Ты возвращаешься на работу? – уточнила она.
– Придётся. А ты домой собираешься?
– Нет. Буду тебя стеречь, чтобы ты до утра не сбежал, или не напился в усмерть.
И она осталась. А на следующий день мы вместе отправились в лицей, где нас ждала сотня малолетних преступников, отморозков, маньяков, и что хуже всего – идиотов, но – наших.