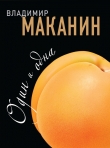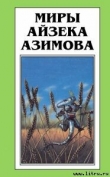Текст книги "Предвестники табора"
Автор книги: Евгений Москвин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Мишка, давай еще останемся. Ну пожалуйста! – я принялся канючить.
– Нет-нет, все. Мы уходим. Потом возможно еще вернемся, но сейчас надо домой заглянуть.
Но Олька вдруг взяла его за руку.
– Постой.
– Что?
– По поводу этих ограблений… Серж прав, один кодекс не поможет.
– Я знаю. И что ты предлагаешь?
– Ну… – Олька помялась; в том, что говорил Серж, действительно было рациональное зерно, она это понимала, а значит, сейчас и Мишку уломает.
Однако характерного волнительного стука в груди я на сей раз не почувствовал: «Мы будем расследование вести! Класс!» – нет, никакой такой эйфории или чего-либо подобного; слишком угнетающе подействовал на меня вид Сержевой бабки. Я впервые задал себе вопрос: а с чего мы вообще решили, что нас послушают, будут нам подчиняться?
– Мы могли бы… – продолжала, между тем, Олька, – если и не заниматься расследованием открыто, то хотя бы попробовать составить свою версию происходящего. Ты же говорил о завоевании авторитета, помнишь? По-моему, отличная тропка к авторитету… Послезавтра состоится общее собрание садоводов, ты в курсе?
– Да, что-то такое слышал.
– Ну вот. Ты мог бы выступить со своей кандидатурой – на председательский пост. Кому нужен Страханов!
– Вопрос, конечно, риторический.
– У тебя будет шанс – если пообещаешь раскрыть это дело. Во всеуслышание.
– Ага, вот видишь! Уже раскрыть! Ну ладно, я не возражаю… конечно, сначала лучше раскрыть, а потом уже выдвинуть кандидатуру. Но у нас времени не хватит.
– Ты должен выступить на собрании, – повторила Олька, – если даже тебя не выберут, все равно, мы сделаем серьезную заявку.
– Его и не выберут, – изрек вдруг Димка, стоявший все это время чуть поодаль.
– Почему это? – осведомился я; с раздражением, которое, вырвавшись у меня совершенно неосознанно, обнажило все мои тайные сомнения.
– Потому что он ребенок, – ответил Димка просто, – и мы все тоже дети.
Тут уж и Мишка отреагировал:
– Почему ты так говоришь?
Самый очевидный ответ был: «потому что это правда». Его, однако, не последовало. То, что Димка ответил, по сути дела, ответом вообще не являлось. И поэтому, быть может, это произвело на меня значительно более сильное впечатление.
– Я говорю то, что мне пришло в голову. Мы же только играем и все.
– Да неужели? – мигом отреагировал Мишка, – все Оль, я согласен. Послезавтра выдвигаю кандидатуру.
– Отлично.
– Пошли, Миш…
По пути домой он наставлял меня:
– Матери не вздумай говорить о наших планах. И ничего о государстве – вообще.
– Мы будем помогать Стиву в расследовании?
– Конечно.
– Ладно… – я отвернулся.
– Что такое?
– Ты же не хочешь ничего расследовать, как я понял.
(Да, конечно, Мишка с этим осторожничал – это, однако, не было объяснением моего дурного настроения; настоящую причину я скрыл).
– Это не так. Мы будем помогать ему.
– Хоть увидеть бы его для начала вживую!
– Увидишь, не волнуйся.
– Обещаешь?
– Обещаю.
Мать уже поджидала нас на крыльце; завидев Мишку, она издала короткий манерный возглас: «О!», – ее рука прочертила в воздухе дугу.
Моментально Мишка обернулся и подмигнул мне.
– Ну что, объявился, наконец?.. Мозги прекратили заезжать? – говорила она полушутя, полувсерьез, но все же еще и с презрительной ноткой, – твой отец просил передать, что завтра берет вас в лес. В шесть часов вы встаете. Так что учтите – нужно, значит, лечь спать пораньше. И вообще уже надо перестраиваться на другой режим – это я Максим тебе говорю, персонально. Осенью – это понятно, но и летом – летом тоже нужно, поэтому давай уже… такого, как вчера больше не будет. Понял?
Я опустил голову. Затем кивнул и поднялся на крыльцо.
– Эй, да вы что-то странные какие-то! Что случилось-то опять? – воскликнула вдруг мать.
– Да ничего не случилось, тетя Даша, – тотчас отозвался Мишка и, чтобы перевести разговор в другое русло, заметил вдруг, что у него нет сапог для грядущего похода в лес, и не одолжит ли она ему что-нибудь подходящее.
Известие о завтрашнем походе в лес меня, однако, не развеяло. Снова и снова всплывала передо мной одна и та же картина: Серж, подскакивая, бежит к своей бабке. И потом эти неожиданные слова Димки, которые меня больно укололи (да и не только меня, скорее всего; Мишку тоже): «Его и не выберут… потому что он ребенок. И мы все тоже дети».
Нас не выберут, потому что мы дети.
И по этой же причине мать заставит сегодня улечься в десять, не позже. Тут я еще вспомнил, как Олька говорила, что последнее время в будни ночует у себя в домике, одна. «Ничего себе ей воля, а она даже этим не пользуется – спит. Глупая! – снова пришло мне на ум, как и день назад, – сегодня четверг – значит, скорее всего, она будет в домике, одна. Повезло!..»
За ужином я напомнил Мишке о его обещании – попросить дядю Вадика о Поляне Чудес.
– Потом, – быстро отмахнулся он.
– Когда потом?
– Когда в лесу уже будем… ну хорошо – завтра утром, когда будем уходить.
– А почему ты сейчас не можешь попросить?
– Сейчас я к Ольке ухожу. Ненадолго, так что ты со мной не ходи. Надо просто заглянуть, сказать, что меня не будет завтра утром. Она же обидится, если я уйду в лес, ничего не сказав. Я ведь к ней обычно и утром захожу тоже. Помнишь?
– Рано утром ты чаще всего спишь, – заметил я скупо.
– Рано – да. А позже – позже ведь нас тоже не будет, забыл? Надо ее предупредить.
Я хотел попросить его узнать, будет ли она ночевать сегодня в своем домике, но в последний момент передумал – в конце концов, какая разница? Да если я и попрошу, он все равно ничего не узнает – забудет.
Когда он ушел, я снова почувствовал, как мною овладевает горечь: мы же только играем и все.
В результате в тот день я засыпал под такие мысли: «Ничего у нас не получится. Никогда мы не обретем власти. Эти взрослые завладели всем целиком и полностью. И ничего расследовать тоже не будем – нам просто не дадут. Но не только в них дело. Мы в собственном отношении тоже не сможем ничего изменить и переломить. Если уже плывешь по течению, то ох как тяжело, даже тяжко, что-то повернуть вспять. Оглядываешься назад, вздыхаешь и говоришь себе:
– Ну что поделаешь, придется плыть дальше. В конце концов, так проще всего.
И я сейчас так же поступаю – плыву по течению – и ничего с этим поделать не могу».
Да, так проще всего.
Это унылые воды.
Эпизод 6
ОЛЯ И ПЕРФИЛЬЕВ
Этой ночью Оля (как и предполагал Макс) действительно осталась ночевать в своем домике.
Те, кто говорят про себя, что спят очень чутко, обычно не могут пробудиться и от выстрела.
Однако, что касается Оли, она действительно частенько просыпалась, если кто-то проходил мимо по проезду, свернув с главной дороги, – наверное, потому что окно, выходившее на проезд, всегда оставалось открытым на ночь – Оля никогда не спала при закрытом окне.
Когда Перфильев в три часа ночи ступил на проезд, – сторож, разумеется, прекрасно знал уже об отъезде Лукаева, – Оля сразу же открыла глаза и инстинктивно глотнула воздух. Между тем, голову с подушки приподнимать не стала – подозревала уже, почему, скорее всего, проснулась: кто-то прошел мимо дома, по главной дороге, – и решила тотчас же поскорее снова отключиться. И все же… нет, на сей раз было что-то не так… вернее, не «не так», а просто по-другому: раньше, проснувшись, ей всегда приходилось слышать удаляющиеся шаги, но теперь никаких шагов не было.
Это и заставило ее усомниться, действительно ли она проснулась именно от чьих-то шагов, встать, в конце концов, и подойти к окну. Помешкай она еще полминуты, и Перфильев бы исчез в темноте, направившись к лукаевскому участку, а так ей все же удалось его застать: стоя в пятне света, которое отбрасывал фонарь, Перфильев осматривался по сторонам, осторожно и спокойно, неторопливо; к окну Олиного дома он стоял боком и ближе к оранжевым железным воротам, которые вели на участок Геннадия.
«Сейчас развернется и пойдет по главной дороге», – мелькнуло в голове Оли.
Но нет, Перфильев шагнул в противоположную сторону.
Оля отошла от окна и направилась к плите; во рту у нее пересохло со сна, но чайник оказался пуст, так что ей пришлось, прихватив его с собой, выйти на улицу, к большому бидону с водой, стоявшему под умывальником, возле садовой дорожки. Но прежде чем откинуть железную крышку (и услышать ее скрип и короткое дребезжание), Оля услышала какой-то другой звук, едва различимый, за спиной. Она неуверенно повернула голову; звук повторился, сначала однократно, потом целой чередой – но все так же был трудно уловим. И тем не менее Оля почему-то все больше уверялась, что источником этого звука тоже было что-то железное — и в первое мгновение у нее даже мелькнула забавная мысль: «Как это? Неужели крышка бидона может скрипеть раньше, чем я ее отворила?..»
(Да уж Мишка «научил» ее таким вот мыслям).
«Вот-те на!.. Ведь это же откуда-то позади слышится…»
Общение с Мишкой научило ее также любопытству; неудивительно, что Оля решила постараться отыскать источник странного звука. Она еще не успела связать его с Перфильевым, которого только что увидела, однако спустя две минуты, когда Оля, выйдя на проезд, различила вдалеке сгорбившуюся фигуру сторожа, у нее не осталось уже никаких сомнений.
«Что он там такое делает?»
Оля сделала еще несколько осторожных шагов вперед по проезду. Какое-то бессознательное чувство, что ей не следует выдавать своего присутствия, заставило ее ноги шагать все же ближе к канаве, проходившей перед ее участком, – там совсем не было света, – но Перфильев, возможно, не заметил бы Олю пойди она и по середине проезда – так он старательно копался в замке, висевшем на лукаевских воротах, и просвечивал фонариком скважину.
Оля смотрела на все эти манипуляции в полном недоумении, хмурилась, потом даже присела и все так и не сводила с Перфильева широко открытых глаз. В каком-то смысле, напрасно, потому что если бы она все же обернулась назад, то заметила бы довольно странную вещь: флюгер на углу ее участка был обмотан странным пестрым платком, которого там не было еще минуту назад, когда Оля проходила мимо. Платок был повязан прямо на ось, неплотно, возле железной «ромашки», делавшей при каждом легком порыве ветра неуверенные прокруты и издававшего точно такие же звуки, что и Перфильев, просовывавший в скважину всякие разные предметы.
Платок подпрыгивал и, казалось, готов был уже развязаться и вспарить, но снова «садился» на ось – точно пчела, которой инстинкт не позволяет оставить человеческую руку, перепачканную медом; она садится на помаз и отлетает, когда рука начинает просто двигаться или отгонять, но в результате, как только рука замирает, пчела снова приземляется на то же место.
И вдруг, когда флюгер сумел уже набрать приличную скорость, возле него стало образовываться странное масляное пятно, постепенно затиравшее собою окружающее пространство и действительность, – сначала оно поглотило участок дальнего леса, потом – часть одного из домов на противоположной стороне поселка; пятно все увеличивалось в размерах, и вот уже в нем замелькали первые фигуры и образы: тени каторжников, несущие на себе тени колоколов в лучах закатного солнца, великаны, шествующие непропорционально длинными ногами, двое людей, играющих в пинг-понг, – стол стоит в высокой траве, проникнутой оттенками шалфея; мужчины и женщины в белых одеяниях, сидя по кругу, перекидывают огненно-рыжий мячик…
Но этого пятна Оля не увидела бы и в том случае, если бы обернулась, – и никто бы не увидел, потому что его просто не было.
Эпизод 7
ПЛАТОК НА ФЛЮГЕРЕ
ОСТРОВ
(Рассказывает Максим Кириллов)
I
Как я уже говорил, дядя Вадик в лесу просто-таки преображался. Перемены в нем, однако, подготавливались заблаговременно: когда мать разбудила нас в шесть, завтракать, он, уже, видимо, успев перекусить, с оживлением прохаживался туда-сюда, десятки раз минуя обеденный стол, и то и дело останавливался возле окон, сиявших от ледяного солнечного света как серебряные блюда; и мелодия, которую он машинально насвистывал, тоже повторялась десятки раз – знакомый мотив, еще за пару минут до того, как я увидел дядю Вадика, повстречавший меня в нарождающейся яви…
Я словно выныривал из замедленного озера…
– Максим, вставай!
В уголке моего левого глаза прошмыгнула мать, и я почему-то понял, что кричит она мне уже третий раз.
Третий…
Мы всего лишь дети…
Как только воспоминание отразилось в мозгу, тотчас я ощутил легкий укол в грудь, а в горле стал нарождаться ком:
Не будет никакого государства…
– Забыл, что в лес идете сегодня?.. И ты тоже вставай, слышишь?
Поляна чудес…
Покуда мы завтракали, настроение дяди Вадика все повышалось, а мотив, который он напевал, становился все более узнаваем.
Я сидел, уткнувшись в тарелку; из-под мягких зерен риса выковыривал вилкой те, что лежали поглубже.
Так ни разу еще и не попробовал.
Мишка, видно почувствовав, что что-то не так, то и дело подмигивал мне, а один раз наклонился и прошептал на ухо:
– Потом, потом… чуть попозже, ладно?
Я поднял глаза; вилка застыла, и воронка, образовавшаяся в гарнире, тотчас стала затягиваться.
– Чего?
Он снова наклонился; зашептал, на сей раз горячее:
– Позже попрошу, – на мочке моего уха остался слюнной помаз.
Мне стало еще больше не по себе – хотя я и понял, о чем он говорит. О Поляне чудес. Конечно, я не забыл о ней… о каторжниках, несущих колокола, о великанах, о флагах, заворачивающихся в оборотную букву «С»… ну и что, черт возьми? Ну спросит он – дядя Вадик все равно не согласится нас отвести, в каком бы настроении он ни был.
Почему? Потому что я сам настроился на отказ – сейчас – и ничего с этим поделать не могу. Опять плыву по течению.
Унылые воды.
«Ну уж нет, так нельзя! Надо во что бы то ни стало уговорить его!»
Конечно, я «хватался за хвост ящерицы»: не выходит с государством, так хоть здесь возьму реванш; излишне говорить, что мне хотелось бы получить всю ящерицу целиком (т. е. и государство, и Поляну чудес, – теперь – не так, как когда-то в Олькином домике, когда и ящерица, и хвост были буквальны), – но целиком – нет, сейчас это невозможно; если мне и удастся схватиться за хвост, и я получу согласие дяди Вадика, ящерица неизбежно отбросит его… и все же это не значит, что реализация государства так всегда и будет оставаться недоступной. Пока хвост продолжает конвульсивно дергаться, я могу постараться перенастроить себя – благодаря одной удаче поверить и в другую, снова – снова поверить в Мишкину теорию; вроде как отрастить ящерицу из хвоста.
Конвульсии жизни… У меня будет шанс.
Итак, хвост ящерицы; опять.
(Олька говорила мне: возможно, придется потратить полжизни, а то и всю на то, чтобы поймать ящерицу за хвост).
Ну нет уж, я хочу сейчас.
«Почему бы тебе ни обратиться к дяде Вадику самолично? – мелькнула мысль. – Он ведь не любит „посредников“».
Нет. Не потому, что мне страшно – сейчас он не отругает меня, просто отмахнется, в крайнем случае, но результат вряд ли окажется положительным. Да и мать может услышать, тогда пиши – пропало.
Лучше уж поступить расчетливо – уломать Мишку; тем более, у меня теперь есть повод поддавливать – он сам только что завел разговор о Поляне чудес.
Как знать, может быть, дядя Вадик и не догадается, что за этой просьбой стою я.
Главное, сохранять осторожность – чтобы он не услышал нашего с Мишкой разговора.
Удобный момент наступил, когда мы выходили с участка, – дядя Вадик, одетый в морщинистую ватную телогрейку, тренировочные штаны, заправленные в резиновые сапоги, с фирменным посохом в руках – на самом-то деле таков стандартный вид дачника, собравшегося в лес, – да, еще не забыть про кепку, – итак, дядя Вадик шествовал чуть впереди – я схватил Мишку за руку и принялся шептать ему на ухо.
– Что, я не понял? – от неожиданности он переспросил меня в полный голос.
Я шикнул на него:
– Тише!.. – и снова принялся шептать.
– A-а… да-да, конечно, обожди только пару минут. Вот в лес войдем, тогда спрошу, – Мишка, хотя и приглушил голос, но все равно дядя Вадик мог слышать его.
Вот теперь я буду лихорадочно соображать – так это или нет! Я покраснел и надулся с досады… Черт! Неужели Мишка не мог ответить шепотом. И неужели он прямо сейчас не может попросить? Все оттягивает! К чему это?
Черт! Мишка во всем виноват, Мишка!..
Не могу, однако, сказать, что по осознании этого, я озлился на него – нет, как ни странно, ничего подобного не было. Было, однако, другое – как мне кажется, гораздо более важное: я решил, что называется, поговорить с ним начистоту.
Разумеется, в детские годы я выслушивал существенное количество наставлений – от самых разных людей, – я имею в виду жизненный опыт в купе своей с принадлежностью к тому или иному поколению; по поводу одного и того же случая, факта наставления и деда, и Мишки, и матери могли совпадать – так бывало, – а вот форма и еще интонация – те всегда различались, а то и контрастировали. И все же было нечто, от чего меня абсолютно все старались уберечь одним и тем же предостережением, одной и той же формы и интонации… я не должен смотреть на сварку дяди Геннадия. Всегда и все мне говорили это одним и тем же образом: нельзя! Ну еще иногда принимались тут же объяснять, что, мол, это очень опасно, можно зрение потерять.
Поэтому, когда дядя Вадик подходил к дому Геннадия (тот, несмотря на ранний час, уже не спал – приваривал друг к другу ребристые железные пруты; с какой целью – это для меня до сих пор загадка), и на сей раз не преминул обернуться и напомнить мне:
– Не смотри на сварку, отвернись!
И Мишка, тот, идя рядом со мной, повернул голову и проговорил это же; только прибавил еще в конце обращение: «Макс».
– …Да-да, и ты тоже отвернись, – сказал дядя Вадик, переведя взгляд на Мишку.
Этого наставления я всегда слушался – вещь для меня тоже нехарактерная, а пожалуй, и исключительная; однако на сей раз прежде, чем я успел отвернуться, сварка потухла. Геннадий снял маску и поздоровался с дядей Вадиком; затем с нами. Мать называла его «человеком неопределенного возраста»; и всегда добавляла: «Да, бывают, знаете ли, такие люди, у которых ни по лицу, ни по другим чертам невозможно определить возраст». (Такие вот высказывания были, как правило, ее самыми глубокими рассуждениями о жизни. «Я вообще очень хорошо жизнь знаю», – любила повторять мать).
Покуда дядя Вадик общался с Геннадием, Мишка принялся нашептывать мне:
– В этом человеке я, между прочим, вижу одного из своих избирателей…
– Почему?
– …когда Пашка сказал вчера, что Геннадий ему не нравится… помнишь?.. Так вот, Пашка, он просто… ну… – думаю, Мишка хотел сказать «идиот», но мой брат никогда еще ни о ком так резко не отзывался; сдержался и на сей раз, – ну, в общем, ты понимаешь… он теперь в оппозиционном течении и неудивительно. Оппозиционное течение из двоих человек – ха! А это как раз таки не их избиратель.
Я напомнил Мишке, довольно угрюмо, что вчера с Сержем и Пашкой у него были значительно более весомые противоречия, нежели какое-то там короткое замечание по поводу Геннадия.
– Да знаю я, знаю, – Мишка нетерпеливо махнул рукой, – к чему ты это, Макс? Ты что не слышал, о чем я говорил тебе? Об избирателях.
Тут я (все так же угрюмо) повторил вопрос, ответа на который так и не дождался: почему, с какой стати он решил, что Геннадий проголосует за него?
– Ну, он же хорошо относится к моему отцу.
– Ты считаешь, этого достаточно?
– Вполне.
Я внимательно смотрел на Мишку. Да, у меня создалось впечатление, что он действительно уверен в том, что говорит; я, однако, слишком долго уже – с прошлого вечера – накручивал себя одними и теми же тревожными мыслями, чтобы вот так вот запросто поддаться и позволить ему убедить себя.
– Почему бы тебе ни подойти, ни узнать у него, стал бы он голосовать за тебя, – теперь я смотрел уже под ноги; и переминался, – поагитировать, а?
– Сейчас не самое подходящее время – мы в лес идем, забыл?
– Мишка!
– Ну что такое?
– Поагитируй его!
– Ты… не знаешь разве, как проходят в нашем поселке все голосования?
– Нет. И как же?
– А очень просто: все ориентируются на своих друзей и знакомых. Соседей. Скажешь, что мы в таком случае должны агитировать тех самых, на которых ориентируются? Ничего подобного – потому что это только иллюзия лидерства. Они, в свою очередь, ориентируются на тех, кто ориентируется на них. Замкнутый круг, так сказать. Ждут, пока поднимется рука, чтобы тут же и самим поднять. В результате же все поднимают одновременно. Такова суть открытого голосования, нетайного, что тут поделать. И это нам на руку в данном случае. Понял теперь?
– Почему же ты решил, что все поднимут руки именно за тебя, а не за Страханова?
– Ты слышал, о чем вчера Олька говорила? Страханов всех достал.
– Кажется, она сказала иначе: «кому нужен Страханов», – поправил я.
– А разницы-то?.. Господи, да что с тобой такое? Ты что, потерял веру в наш успех?
Я молчал – нет, не потому, что мешкал, я же сказал уже, что твердо решил поговорить с Мишкой начистоту, т. е. выложить ему все свои тайные опасения, подозрения, недоверие – Боже, чего у меня только ни было и чем только себя ни изводишь, по кругу – от одного к другому, к третьему и снова к первому, – нет, действительно наступило время искреннего разговора… но тут он самым неожиданным образом оказался отложенным – еще на некоторое время. Дело в том, что мое внимание привлекло кое-что необычное, пожалуй, даже несуразное: я увидел, что на ось флюгера, который стоял на углу Олькиного участка, повязан странный платок, радужных оттенков, с очень тонкими блестящими вкраплениями-полосками; при внезапном порыве ветра платок подскочил, потому что был повязан неплотно, но все же удержался на флюгере.
– Эй, гляди-ка! Что это такое? – я смотрел через Мишкино плечо.
– Где?
– Вон там, у тебя за спиной. Взгляни на флюгер.
– Макс, не увиливай!
– Брось! Я говорю, смотри… что это еще такое?.. – я подошел к флюгеру и уставился на подпрыгивавший платок.
Теперь и Мишка смотрел на него.
– Откуда он тут взялся?
– А я знаю? Может, Олька оставила?
– Зачем Ольке вешать платок на флюгер?
Мишка не нашелся, что ответить; я подошел к флюгеру и попытался дотянуться, но нет, росту не хватало; я позвал Мишку:
– Иди сюда, помоги мне!
– Ты что, снять его хочешь?
– Да.
– Зачем? Не надо этого делать. Придет Олька и снимет.
– Может, он не ее.
– А чей же тогда? Прабабушкин? Вот уж вряд ли!.. Пошли.
Я, однако, уперся – как всегда; настойчиво тянул руки, прыгал, даже заступил на чужой участок (но все-таки это было ведь не чудовищное нарушение, не святотатство, ведь это Олькин участок), – но и близко не добился своего: если бы хоть кончиком пальца коснуться, – нет, какое там! Палец мельтешил на расстоянии метра ниже.
Словом, стараний бесполезнее этих и придумать было нельзя, но я только еще пуще втягивался в эти… яростные попытки?
Не так ли мы мечтаем о несбыточном, как я тогда мечтал достать этот платок?
Остановил меня только оклик дяди Вадика:
– Эй, племяш! Ты идешь? Пошли уже! – оклик все же доброжелательный, но так или иначе вогнавший меня в ступор и заставивший немедленно послушаться.
II
– Что ты к этому платку прицепился, можешь сказать? – Мишка спросил даже с укором.
– Что угодно, но только не прицепился, – заметил я машинально.
В другой раз Мишка, конечно, улыбнулся бы такой вот своей оговорке; сейчас, однако, мой брат выглядел слишком озабоченным; я оглядывал его украдкой, как вдруг даже почувствовал какую-то странную, неожиданную и, казалось, совершенно неуместную гордость – словно вогнать Мишку в тяжелые раздумья было для меня победой.
Если за завтраком я искал пути к тому, чтобы снова искренне поверить в Мишкину теорию государства (та самая вожделенная ящерица – я собирался отрастить ящерицу из хвоста), то теперь я неожиданно для себя понял, что просто хочу все выяснить – действительно ли Мишка верит в свое предприятие или нет.
Настал момент – надо говорить.
Как мог, я объяснил Мишке свое вчерашнее гнетущее впечатление – я просто принялся описывать ему то, что видел и слышал, то, что выбило меня из колеи: во-первых, Родионову, властно махающую рукой своему внуку; непререкаемый и совершенно механистический, бесчувственный жест; во-вторых, реплика Димки, внезапная, как удар, – при этом я не выражал напрямую никакого отношения к этому и не пересказывал своих эмоций, – лучше уж я воспользуюсь такими словами, чтобы Мишка сам угадал мои чувства.
Потому, наверное, я принялся говорить как можно более проникновенно, но правда-то в том, что я следовал собственной интуиции, – да, главную роль играла все же интуиция…
В результате у меня получилось – в этом я абсолютно убежден; Мишка прочувствовал, что назрел серьезный разговор; что это действительно важно для меня. Раньше ему чаще всего приходилось слышать с моей стороны или канючинье или восхищение его изобретательностью – теперь же ситуация была не просто иной – она контрастировала; и это, конечно, еще более должно было усилить впечатление от моих слов.
Мишка все больше хмурился.
– Это все? – спросил он меня, когда я остановился и сделал выдох.
– Нет, – честно признался я; очень весомо и продолжать после этого не стал.
Не только потому, что хотел дать понять: достаточно, мол, и того, что я уже сказал; сначала ответь, а потом я буду забрасывать тебя дальше – такой оттенок присутствовал, безусловно, но было, однако, и что-то еще. (А что – мне неясно до сих пор).
Это «что-то», в конечном счете, и не позволило Мишке дать один из своих привычных ответов, ранее бросавших меня едва ли не в экстаз; чуть позже он все равно сделает это (и я буду только рад, что насилу отделался), но не теперь, нет.
К черту ящерицу. Я не хочу этого.
Я был уверен, что готов услышать правду.
Но как только Мишка стал отвечать… Боже, я испугался.
– Разве я… – он смотрел на меня; лицо его озаряла улыбка, печальная и светлая, – разве я не говорил тебе, что когда-нибудь ты будешь воспринимать детство, как самую счастливую пору своей жизни?
Я ощутил холодок, крадущийся вдоль позвоночника; и холодок в животе.
– Ты не забыл?
Я молчал и смотрел на него широко открытыми глазами; не хотел ничего говорить, а вернее, мне казалось, я не могу вымолвить ни слова; но потом все же (к удивлению) услышал свой голос – короткий вопрос:
– Что?
– Видимо, нет, – все та же печальная и светлая улыбка.
– Я… – я таращил на него глаза, – ну и что?
Он посмотрел вдаль – впрочем, нет, на маячившую впереди спину своего отца; Мишкин кадык заелозил – глотание нескольких порций слюны. Я ждал и боялся – когда он снова переведет взгляд на меня – боялся продолжения, потому что все понял, – где-то спустя много лет, – а сейчас, в данный момент, лишь подспудно осознавал, что понял.
И вот, наконец, Мишка снова посмотрел на меня. Теперь у него было уже совершенно другое лицо, очень спокойное; и еще присутствовала какая-то напускная задумчивость; и ни тени улыбки.
– Знаешь, то, что Димка так сказал… я это, во-первых, прекрасно помню, во-вторых, это на меня тоже очень подействовало…
Я хотел сказать: «Да, я видел», – но почему-то все же промолчал. У меня было странное ощущение – будто мне лень произносить эти три слова; я вдруг как-то весь размяк.
– Не знаю, так ли сильно, как на тебя – думаю, что нет. Но достаточно… Но послушай, – Мишка вдруг тряхнул головой – как будто хотел стряхнуть все то, что только что говорил.
Или мне только так показалось? Я еще не понял.
В его глазах появился колючий огонек. Каков его оттенок? Нет, тоже неясно пока.
– Послушай меня. Как Димка сказал?
Я молчал.
– «Нас не выберут, потому что мы дети»? Но разве он так сказал? Какими были его слова в точности?
– Эй, Миш! – дядя Вадик обернулся, не сбавляя шага, – так почему Лукаев «верхотуру»-то сломал, я так и не понял?
Мишка засеменил вперед.
– Что ты говоришь?..
Когда же я достучусь до небес, черт возьми? – сколько раз Стив Слейт задавал себе этот вопрос по ходу фильма? Вслух – один или два, на моей памяти; но мысленно – столько же, вероятно, сколько Хадсон ускользал от него. Но так ли уж Стив Слейт жаждет арестовать Хадсона?.. Стоп, как это? Да очень просто: если Стив арестует его, тогда закончится фильм, разве нет? И разве Стив Слейт хотел бы, чтобы фильм закончился? Ведь это его жизнь.
И я, как и мой кумир, оказался тогда в подобной же ситуации. Я был так ошарашен этим Мишкиным «Помнишь, я говорил тебе о детстве, как о…»! Ну нет, это была моя жизнь; и я жаждал ее продолжения, жаждал детства, «завернутого во взрослую упаковку», – детства-игры, в которой все мы убеждены, что не играем, но вершим по-настоящему, и что мы не «всего лишь дети». Суть, истина, небеса – как угодно, – нет, я не был готов еще получить их. И разговор, который я завел, не доставлял мне уже никакого удовольствия.
Ты хочешь продолжать себя обманывать? Слушать россказни братца? – звучали в моей голове вопросы – но только подсознательно.
Да, хочу, – и тоже: я не ответил себе этого ясно, просто твердил, прокручивал в голове одну и ту же мысль: «Прекратить, прекратить, не говорить об этом больше… Прекратить, прекратить…» – и т. д…
Как бы там ни было, на какое-то время дядя Вадик спас ситуацию. (Кстати говоря, в свои восемь лет я полагал, что когда скользкий, щепетильный разговор между двумя собеседниками прерывается кем-то третьим… нет, так бывает только в фильме).
– Что ты говоришь, пап?..
Дядя Вадик не стал повторять своего вопроса; и все насвистывал.
– Да ладно, пап, не будем о грустном.
– Ну нет уж, расскажи, – дядя Вадик прекратил насвистывать, но когда он повернул голову к Мишке (который шагал теперь рядом с ним), профиль дяди Вадика по-прежнему сохранял дружелюбие.
Мне, впрочем, было все равно: эти Лукаевы, Перфильевы, которые гоняются за нами и портят нам жизнь, – все это казалось теперь таким далеким и малозначащим!
– Ну… ладно. Может, это даже повеселит тебя! Ты же помнишь, что мы играем ночью в прятки с фонариками?
– Вы шумите – ему это не нравится?
– Так он говорит.
– Ты хочешь сказать, что он просто в отместку это сделал, что ли? При чем тут твоя постройка-то?
– Последний раз мы прятались возле нее, – соврал Мишка, – Лукаев, когда топором махал, заявляет: «Я видел целых четыре рожи возле этой вашей „верхотуры“. Летали там и орали черти что. Если бы еще три рожи – ладно, но четыре – нет, это перебор». Так и сказал, представляешь?
Дядя Вадик рассмеялся, конечно; смех, однако, этот вышел каким-то чересчур громким и неестественным, но не потому, что дядя Вадик старался что-то изобразить, – нет, ни в коем случае; напротив, ему было искренне весело, я это чувствовал… А смех все же неестественный… нет, даже заболевший. Смех, обыкновенно, обозначается: «ха-ха-ха», – но в реальной-то жизни он звучит иначе; сейчас, однако, это действительно звучало так, как пишется, только «ха» этих было шесть.