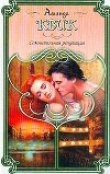Текст книги "Четвертый лист пергамента: Повести. Очерки. Рассказы. Размышления"
Автор книги: Евгений Богат
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
Повинен в… альтруизме
1Десять лет назад вышла у меня документальная книга под названием «Бескорыстие».
В ней, пытаясь рассмотреть бескорыстие не только как поступок, но и как душевное движение, я писал о том, что самым «обыкновенным» людям (а их большинство), не удивляющим мир «высокими чудачествами» и даже не отличающимся бессребреничеством, лучше, радостнее живется в атмосфере, благоприятствующей чудакам-бессребреникам, а не холодным рационалистам, не говоря уже о нехолодных стяжателях. Я рассказывал о «чудаках», строящих телескопы для народных обсерваторий, ищущих – не для себя – потерянные полотна больших художников, посылающих черенки выведенных ими новых сортов растений во все концы мира.
Книга эта при появлении не вызвала ни одного читательского отклика, она была совершенно не замечена – казалось, и не выходила.
И лишь через несколько лет я начал получать письма… Самое первое я запомнил хорошо, как и все самое первое в жизни. Автор его любопытствовал, существуют ли мои герои в действительной жизни или я их выдумал, а если не выдумал, то можно ли их увидеть или хотя бы переписываться с ними. Несколько героев книги к тому времени уже умерли, об остальных я написал ему подробно. Это позднее письмо я рассматривал как чудаковато случайное, но за ним появилось второе, где выражалось какое-то запальчивое неверие в то, что эти люди существуют на самом деле, третье, в котором и верили, и восхищались, четвертое… десятое… тридцать первое…
Наконец, я получил из одного старого университетского города извещение, что решено устроить по этой книге диспут и участие мое в нем желательно. Это показалось не менее странным, чем если бы я узнал, что задуман диспут на тему «Впадает ли Волга в Каспийское море?», или: «Едят ли лошади овес?». Я написал чистосердечно о моих сомнениях (о чем же спорить?) устроителям диспута в университет, они не поняли меня и ответили, что рассматривают «Бескорыстие» как работу острополемическую.
…Войдя в аудиторию, я увидел массу молодых лиц и лишь несколько пожилых людей. Это было новое поколение читателей.
Говорилось в тот вечер о разном, но «Бескорыстие» при этом было не поводом, а основой обсуждения. Я вдруг осознал, что повествование, написанное некогда как «безмятежно положительное», сегодня стало или почти что стало полемическим.
Первый же оратор обрушил на меня соображение, что мои герои, в сущности, люди, потерпевшие поражение в жизни. Им не удалось полностью воплотить себя творчески в любимом деле, и поэтому на склоне жизни они искали и нашли «возвышенную форму компенсации». Это даже напомнило ему ироническую ситуацию, когда супружеская пара, не имевшая никогда детей, в позднеосенний период жизни берет собаку и трепетно ее любит и холит.
«Эти люди, – закончил оратор великодушно, – хороши тем, что, потерпев поражение, они нашли человечные формы компенсации, но, – добавил, улыбнувшись, – лучше все же одерживать победы».
Я ожидал, что по законам полемики сейчас выступит оппонент… Но на трибуну поднялся и не оппонент, и не единомышленник, а человек (двадцатипятилетний аспирант), сообщивший обсуждению еще более для меня неожиданное направление. Он увидел в поведении героев книги бессознательную форму ханжества.
И усматривалось оно вот в чем. Для утоления и материальных и духовных потребностей нужны деньги. Об этом, дескать, не боялись открыто говорить даже замечательно талантливые и чистые душой люди. Мне напомнили: «Больше денег – больше жизни», – серьезно шутил Джек Лондон. А Стендаль нелицемерно и трезво вычислял солидную цифру годового дохода, которая нужна ему для полнокровной жизни. И это не мешало ему любить, порой до беспамятства, музыку, живопись и путешествия. Для путешествий они, деньги, нужны особенно, что хорошо понимал даже такой большой ребенок, как Х.-К. Андерсен. (Мне даже подумалось тогда, что оратор ряд лет собирал все высказывания великих мира сего о разнообразных материальных и духовных благах, которые дарят человеку дензнаки.)
Но было это все лишь подступами к его основной мысли. Она состояла в том, что в сегодняшней реальной действительности деньги нужны личности особенно для того, чтобы формировать себя как разносторонне развитую и гармоничную. Несмотря на обилие цитат, речь оратора дышала и искренностью, и той убедительностью, которой обладают не отвлеченные рассуждения, а живая действительность. Он с сокрушением сердца рассказывал истории о людях, которых бессребреничество до добра не довело…
В поезде, возвращаясь домой, я пытался извлечь из массы речей, порой и не имевших отношения к «Бескорыстию», ядро, в котором была бы сосредоточена вся суть. В памяти мелькали реплики: «Карьеристов эти истории, а если говорить шире – эти состояния души должны жечь, как серная кислота медь», «Вы сегодня уже на первой ступеньке лестницы возвышенно оправдываете себя…», «Чудаки украшают мир, но не созидают его…».
В чем же ядро, в чем суть? В памяти вдруг ожило малосущественное, даже, пожалуй, нелепое до шутовства выступление. «Я, – заявил, дурашливо улыбаясь, молодой оратор, – никогда не уступаю место старикам в автобусах и троллейбусах, если, – он с комической торжественностью поднял указательный палец, – не сижу в первых рядах. Тогда – пожалуйста, поднимаюсь, как ванька-встанька. Но если расположился в последних рядах, то, извините, это не ваше, а мое место… И я не без дела сижу, читаю Эйнштейна или Бора, потому что не хватает не часов, а минут… Конечно, в конце концов и уступишь, но, – закончил он с какой-то детской ужимкой, – нехотя…»
Иногда нелепое, несуразное, дурашливое открывает самую суть.
Ведь диспут-то – высветилось – посвящен был месту человека в мире, жизни, кто-то уже сегодня, лишь ступив на подножку автобуса, искал, облюбовывал, делил места. А при этом самый идеальный вариант – это когда и в первых рядах, и в непервых, «законных», ничего никому не нужно уступать.
Уступающие опасны, они – соблазн и укор, нарушающие некий удобный «порядок»…
Тут уместно подумать об одной загадочной особенности бескорыстия: возмущать покой, вызывать полемическое, а то и откровенно недоброе отношение.
Почему? Кому оно мешает? Чьим интересам наносит урон? Ведь не отнимает же, а дарит! Дарит…
А может быть, одновременно и дарит, и отнимает? Дарит людям, открытым для добра, испытывающим потребность в делании его, а отнимает у того, кто и сам хочет не дарить, а отнимать, занимая при этом видное или завидное (как ему кажется) место в жизни. Бескорыстие устанавливает непреемлемую для подобных людей систему оценок.
Конечно, если некая чудаковатая личность творит добро в тиши и безвестности, к этому можно отнестись небрежно-иронически – в данной закулисной роли она никому не мешает. Раздражающая сила бескорыстия (раздражающая для тех, кому оно чуждо) растет по мере того, как оно само становится силой в общественном сознании, когда о нем пишут, говорят, восхищаются. Загадочная особенность бескорыстия – возмущать при невинной, «безвредной» сути чей-то покой – имеет отношение к одной естественной особенности человеческого существа – потребности в уважении и самоуважении. Для этого вырабатывается собственная система оценок, ставящая иногда все с ног на голову.
Лично мне не удалось ни разу встретить человека, пусть даже и самого плохого, который не сумел бы убедить себя, а иногда и окружающих в том, что он хороший. Переубедить его отвлеченными рассуждениями о добре и зле невозможно. Но когда возникает реальная фигура, открыто не приемлющая его собственную «шкалу», – вот тогда он начинает яриться…
2Недавно я написал несколько очерков о сегодняшних (конца 70-х – начала 80-х годов) чудаках-бессребрениках.
Написал, опубликовал и – не скрою – в минуты малодушия об этом не раз пожалел. Были, были, конечно, добрые, чудесные письма читателей с выражением восхищения моими героями и наилучших пожеланий им. Но были и иные, насыщенные ядом, исполненные неверия…
Неверия во что? В то, что люди, о которых я рассказал, не выдуманы, а существуют реально? Нет, в это верили. Неверия в то, что они совершили нечто хорошее? Нет, и этому верили, пожалуй… Но – и вот тут и была боль и обида (не за себя, конечно) – верили самому действию, но подвергали сомнению чистоту и высоту мотивов действия.
Я понял, что именно в этом, то есть в мотивах, человек наиболее уязвим, даже беззащитен. Действия очевидны и неоспоримы: если кто-то дарит коллекцию картин небольшому городу и в нем открывают музей; если кто-то однажды в вечерний час испытывает боль от сознания, что забыл хороших людей, которые были в его жизни, и пишет во все концы письма, чтобы их найти; если кто-то собирает большую библиотеку, чтобы дети в небольшом городе больше читали и вырастали хорошими людьми, – это как действие сомнению не подвергается. Но можно усомниться в мотивах: с чистой ли душой дарил; действительно ли была боль или любование собой; для детей или лишь для себя самого собирал библиотеку? И перед этими сомнениями человек беззащитен, потому что мотивы – в нем самом, и нет для них абсолютно неопровержимой системы доказательств. Это не теорема и тем более не аксиома. Можно лишь верить или не верить.
Известное изречение «подвергай все сомнению» универсально, наверное, в области мысли, но не в области чувств. Подвергая сомнению мотивы «высоких действий», мы отбиваем у окружающих охоту совершать нечто подобное.
А пока я читал и перечитывал письма, в самой жизни рождались ситуации, разыгрывались истории, имевшие отношение к интересовавшей меня теме.
После появления очерка «Меняю библиотеку на „Жигули“» молодежь одного из цехов Волжского автозавода, чтобы библиотека перешла не в частные руки, а государству, решила работать в выходные дни и в неурочные часы, дабы накопить сумму, достаточную для покупки «Жигулей» молодой чете, которая жаждет обменять на автомобиль богатую библиотеку с уникальными изданиями.
Те, о ком я писал в очерке, обменные дела успели закончить, но из новых объявлений я узнал о двух обладателях библиотек, желающих того же самого. Позвонил им, рассказал о письме из Тольятти и… не вызвал ни малейшего энтузиазма. Это был, разумеется, с моей стороны эксперимент в чистом виде, ибо мне не было известно, стоят ли их библиотеки социально наивного, но все же трогательного бескорыстия молодых волжских автозаводцев. Было интересно: заинтересует или не заинтересует? Не заинтересовало… Мне объяснили, что надо долго ждать, пока заработают деньги, пока получат разрешение не реальное осуществление странноватого мероприятия, да то да се, а машины нужны немедленно. Но угадывался за этим – в иронических недомолвках, в лукаво восторженном одобрении «патриотического порыва» – иной, более существенный для них момент. Обладатели библиотек не хотели шума вокруг собственной затеи: их больше устраивала тихая обменно-рыночная операция.
Наряду с письмами я получал и денежные переводы – это когда публиковал очерки о людях, попавших в беду. Деньги посылали шахтеры, пенсионеры, работники совхозов, писатели… Посылали на мое имя, а я уже передавал дальше. Получая, думал: вот странно – в нашей этике понятие «филантропия» замордовано до полусмерти, ярлыков на нем больше, чем на чемодане, совершившем кругосветное путешествие, самое жесткое определение – «буржуазная», самое мягкое – «сентиментальная». Но разве не филантропия – послать эти деньги? Конечно, можно назвать это и альтруизмом…
Альтруизму посчастливилось больше; когда-то с ним вдохновенно боролся литературный критик В. Ермилов (о чем убедительно рассказано в вышедшей совсем недавно книге Г. Медынского «Ступени жизни»), потом критики обличать его стали реже и реже, а последние два десятилетия и вовсе не обличают.
Не обличают, потому что жизнь оказалась могущественнее догм. В нас отпечаталось то, что наживало человечество тысячелетиями. И может быть, самое неистребимое, невытравимое в этом многовековом опыте – потребность в делании добра.
Но вернемся к денежным переводам. Казалось бы, радоваться надо было им. Я бы и радовался в полную силу, если бы не один перевод, полученный в самом начале с сопроводительным текстом: «Пожалуйста, не пишите обо мне и даже лучше не рассказывайте, боюсь, узнают в нашем городе».
Это что-то новое. Добро, которое хочет оставаться неизвестным, безымянным, дорого вдвойне, но ведь тут желание тайны вызвано, по-видимому, страхом. Страхом перед чем? Через несколько месяцев он объяснил мне: «Живу в маленьком городе, где все у всех на виду, и, если бы узнали, что я послал незнакомому человеку эту сумму, начались бы пересуды о том, почему я не истратил эти деньги на ковер или шкаф. И не рехнулся ли я, поэтому лучше не надо». – «Неужели никто не поверил бы, что вы, ну… от чистого сердца, потому что иначе не могли?» – «А разве его, сердце, – невесело усмехнулся мой собеседник, – возьмешь в ладони, чтобы показать – чистое или нет?»
И опять я подумал, что самая высокая и человечная вера – вера в мотивы действий, которые невидимы, скрыты. Утрата этой веры – может быть, самый тревожный симптом для характеристики внутреннего мира человека.
И тут подвернулась одна история…
Старая женщина, педагог, учившая английскому языку несколько поколений студентов в солиднейшем языковом вузе, выйдя на пенсию, когда ей было уже за семьдесят, загрустила, что теперь никому не нужна, и развесила объявления: «Педагог с пятидесятилетним стажем дает уроки английского языка детям и взрослым. Бесплатно».
Совестно ей было на старости лет войти в меркантильную корпорацию репетиторов, да и в деньгах не нуждалась, помогали хорошо устроенные дети, была максимальная пенсия.
Старая женщина положила у телефона чистые листы бумаги и хорошо отточенные карандаши, чтобы записывать все необходимые данные, и стала ожидать «наплыва». Ей не позвонил ни один человек.
Неужели никому в большом городе не нужны ее уроки, ее опыт?! Телефон молчал.
Тогда она сама позвонила более молодым коллегам, которые, как ей было известно, посвятили себя репетиторству, чтобы узнать, как обстоят дела у них. Те ответили, что от желающих нет отбоя. «Почему же у меня никто не хочет учиться?» – «Не может быть, – отвечали ей, – быть не может». – «Вот я дала объявление…» Наконец, самый дотошный из собеседников заинтересовался полным текстом объявления и, заикаясь от неловкости, пояснил, что в нем есть «нечто лишнее». Не надо было писать: «бесплатно».
То, что хорошо, стоит денег. И чем дороже, тем лучше. Нарасхват идут самые дорогие репетиторы, в их силу особенно верят.
«Нет, нет, тут не то, не то, – отмахнулась досадливо старая идеалистка. – Наверное, людям совестно беспокоить меня, потому что я стара, устала…»
Она не допускала самого «естественного» объяснения: в ее бескорыстие не поверили.
Вот строки из письма, – полученного в дни, когда работал над этой статьей: «…в твое бескорыстие не верят, потому что не хотят быть в высоком смысле обязанными тебе. Недавно я оказала немолодой, как и я, женщине, чепуховую услугу – перепечатала ее документы, а она несет мне через час корзину ягод. Я было обиделась, а потом подумала: наверное, это легче для нее. Помнить, чувства иметь – дело душевно хлопотное, а тут отдал вещь – и конец».
3И все же – верь в него или не верь – оно существует.
Оно существует. Не успеешь в нем усомниться, как жизнь одарит новым сюжетом.
В селе Ходарков Житомирской области живет Владимир Патрушев, человек двадцати шести лет, тяжко больной, обреченный почти на полную неподвижность.
Он написал мне, жалуясь не на болезнь, а на одиночество, о желании общаться на «удовлетворительном духовном уровне» с понимающими людьми.
Письмо Владимира Патрушева я опубликовал в книге «Ничто человеческое…», вышедшей два года назад. С тех пор жизнь Патрушева резко изменилась. Ему ответили более пятисот человек, выразив желание не только переписываться, но и побывать у него в селе, поговорить, понять, помочь. Десятки молодых мужчин и молодых женщин уже гостили у него. Одна из них – Валя – стала его женой. Недавно у них родился сын. Но и сейчас, даже когда он уже не одинок, люди едут к нему…
Мы часто говорим о суете и ритме сегодняшней жизни. Но – удивительно! – суета суетой, а едут издалека в житомирское село, чтобы познакомиться с человеком, который чувствует себя одиноким, мечтает об общении на «удовлетворительном духовном уровне». Село Ходарков – не Гагра, не Олимпийская деревня с горнолыжной базой и само по себе зимой, тем более поздней осенью соблазнить не может. Тут иной соблазн – человек.
Оно ведь, бескорыстие, не в том лишь, чтобы деньги отдать, может быть, последние, кому они сегодня позарез нужны, или безвозмездно поработать не для себя, или выбрать то, что делает весомее душу, а не кошелек, – оно, может быть, самая дорогая его суть, – в сопереживании «чужой» радости (или горя) как собственной. Из этой сути и все остальное вырастает.
Оно существует.
Но вырастает из него несравненно меньше, чем могло бы вырасти…
Один читатель написал мне о том, что его все больше тревожит «атомизация» человеческих душ. В юридической науке существует основополагающее понятие «презумпции невиновности», то есть пока не установлена и не доказана судом виновность человека, то, что бы он ни совершил, в нем общество и сами судьи не должны видеть вора или убийцу.
Не воцаряется ли в наших повседневных, обыденных отношениях «презумпция виновности»? Не из этой ли «презумпции виновности» и рождается то чувство одиночества, на которое часто жалуются сегодня?
В письмах читателей, особенно старшего поколения, все чаще повторяется мысль: раньше мы жили беднее, но были честней, доверчивей и великодушней.
Мысль сама по себе, безусловно, наивная, потому что нелепо романтизировать бедность, а доверчивость или великодушие в романтизации не нуждаются. Но при всей наивности – на уровне обыденного сознания – она, видимо, выражает что-то существенное, если пишут об этом люди, незнакомые между собой.
…А может быть, не печалиться надо, а радоваться тому, что читатели пишут об этом? Ведь пишут именно те, для кого нравственные и духовные ценности были и остались высшими в жизни. Пишут хорошие люди, бескорыстные, добрые, тоскующие по общению и пониманию.
Это они, узнав, что в безвестном селе мечтает о добрых собеседниках одинокий человек, едут к нему. Это они собирают библиотеки в небольших городах, чтобы сеять «разумное, доброе, вечное». Это они раскаиваются в том, что кого-то забыли, не утешили, не ответили добром на добро.
И нужно этим людям баснословно мало и баснословно много – чтобы им верили.
…А тем, кто не верит, усматривая все время – для «самозащиты» – невозвышенные мотивы в возвышенных действиях, я советовал: ну, сотворите что-нибудь доброе, что-нибудь не для себя, хотя бы из «тщеславия», хотя бы из «ханжества», попробуйте, попытайтесь. Совершите раз в жизни что-нибудь возвышенное. Мы извиним вам «невозвышенные» мотивы! Мы поклонимся вам. Попробуйте же, рискните!
Но никто из них ни разу не попробовал, не рискнул, остановившись перед непомерностью этих душевных затрат.
1982 г.
Опыт несвершения
IПосле опубликования очерка «Семейная реликвия» я получаю письма, в которых рассказывается о старых, дорогих, памятных вещах, – они передаются от поколения к поколению с тем, чтобы в них жил, сохранялся дух семьи, и становятся с течением лет не только сохраняющей, но и охраняющей силой, наподобие лар из античной мифологии: милых домашних богов. Римляне в баснословные века верили, что лары берегут хозяев не только дома, но и во время путешествий. В истории семьи, о которой хочу рассказать, путешествия, в том числе и вошедшие в летопись великих открытий, занимают особое место.
Я получил письмо Ксении Александровны Говязовой, она писала: «Ничто не может быть создано на пустом месте – и в науке, и в искусстве, и в искусстве жить. Извините за обращение к себе, но как я могу не беречь письма и документы, которые передаются в нашей семье вот уже более 150 лет. В них образы ушедших людей…»
Сто пятьдесят лет…
В масштабе семьи это эпоха прапрапрадедов; в масштабе народа – эпоха Пушкина и декабристов. «Что же это за письма, за документы?» – думал я, собираясь к Говязовой. Она живет в Москве.
Поскольку уклад того далекого века (как и любого), в сущности, почти непредставим для нас, за исключением версий литературно-книжных, то я ответа не находил. Но что бы я ни нафантазировал, это не соответствовало бы и соответствовать не могло действительным документам, потому что оказалось, что они имеют отношение к… третьему путешествию Джеймса Кука, а подумать о подобной экзотике, читая письмо К. А. Говязовой, было совершенно невозможно.
Как известно, из третьего путешествия Джеймс Кук не вернулся, его убили на одном из Гавайских островов. Эскадру, состоящую из двух кораблей, возглавил капитан второго судна Чарльз Кларк. Он повел корабли на север. В русском порту в Петропавловске-на-Камчатке английские моряки хорошо отдохнули и поплыли опять на юг; Кларк в пути умер, англичане вернулись в Петропавловск и зарыли капитана в русскую землю. Потом в Петропавловске ему был поставлен памятник, как видному мореплавателю.
Девичья фамилия Ксении Александровны Говязовой – Кларк. В большой бельевой корзине, которая стояла в сарае, когда семья жила в Иркутске, лежали вещи загадочные и странные – векселя, выписанные в апреле 1776 года, то есть накануне третьего путешествия Кука, в Бристоле для получения денег на Ямайке, обрывки судового журнала с описанием дальнего морского пути… Были в корзине и старые письма и фотографии.
Дед Ксении Александровны – Сергей Петрович, разбирая однажды в юности эту корзину, рассматривал экзотические документы, в которых он не все понимал ввиду староанглийского языка и старинно-изящного и в то же время малоразборчивого почерка, и загорелся высокой, красивой мечтой: известный Чарльз Кларк, соратник Джеймса Кука, – не родоначальник ли их семьи в ее российском существовании? Реальной почвы под собой эта романтическая версия не имела. Был лишь судовой журнал, и векселя были – неизвестно чей, неизвестно чьи – доказательства весьма и весьма косвенные. И было совпадение фамилий, но мало ли в мире Кларков?..
Сергей Петрович – давным-давно уже русский человек («восьмушка англичанина» осталась, как он сам шутил) – углубился в историю путешествий Кука и в историю собственного рода.
А был Сергей Петрович маленьким акцизным чиновником в Иркутске, человеком при этом артистичным, музыкальным, с хорошим голосом. Он участвовал в любительских концертах, которые в начале века были в большой моде в русских городах, ему советовали ехать учиться в Петербург и в Москву, в консерваторию, поклонники не сомневались в его артистической будущности.
Дед Сергей Петрович, – тогда, повторяю, он был молодым человеком, – углубился в географическую литературу, в поисках великого родоначальника семьи, изучал шаг за шагом путешествия Кука и полюбил ту эпоху, тех отважных людей. Полагаю, он в самом начале установил, что Чарльз Кларк, возглавивший эскадру после гибели Кука на Гавайских островах, и его прадед Эдмунд Кларк, тоже похороненный в Петропавловске, – разные люди. Чтобы убедиться в этом, достаточно было сопоставить даты: Эдмунд Кларк умер в 1823 году; Чарльз Кларк умер от воспаления легких в открытом море в 1779 году. Но Сергею Петровичу, иркутскому акцизному чиновнику, с версией, овеянной тропическими ветрами, расставаться не хотелось; он написал в Америку и Англию в надежде, что Эдмунд имеет все же какое-то, хоть отдаленное, родственное отношение к Чарльзу, украсившему историю открытий в океане. Ему ответили неопределенно, что родственников его обнаружить в массе ныне живущих Кларков (а это одна из самых распространенных фамилий) не удалось. Но ведь он начал поиск в конце XIX века, а Чарльз Кларк умер на излете XVIII, за сто лет могли быть забыты, утрачены какие-то сокровенные нити, соединявшие обоих Кларков. Но по мере того, как становилась все более неопределенной романтическая версия, все более определенной делалась фигура реального прадеда Эдмунда Кларка. Он был мореплавателем и купцом; путешествовал и торговал; потом на острове Кайдак, близ Аляски, полюбил русскую женщину, вдову дьячка Степаниду, женился на ней, переехал в Петропавловск… Видимо, в ту пору, когда русско-американская торговля, особенно на востоке России и западе Америки, переживала лучшие дни и американцы в России, а русские в Америке чувствовали себя как дома, судьба эта не была исключительной. Эдмунд Кларк полюбил русскую женщину, и начал молиться русскому богу, и дал сыновьям русские имена.
А умер он, как и Чарльз Кларк, неожиданно и даже еще более драматично.
Сергей Петрович, исследуя жизнь прадеда, нашел документы, говорящие о том, что Эдмунд Кларк, возможно, был вероломно отравлен. Бесспорно одно: комендант порта в Охотске (Охотск и Петропавловск составляли одно административное целое) Ушинский был от должности освобожден по обвинению в этом отравлении. Он будто бы «темной», отравленной водкой его попотчевал после бурной ссоры, и, хотя отравление не было доказано, жестокий характер коменданта порта делал эту версию вероятной. Степанида, рыдая, похоронила Эдмунда, и сын его, Петр, начал ходатайствовать о русском подданстве.
Сергей Петрович (не сын, а внук этого Петра; был между ними и Петр Петрович) был маленьким чиновником с артистическими наклонностями и романтическим сердцем. Он уже давно понял, что его прадед не имеет, вероятно, отношения к Джеймсу Куку, но паруса кораблей, этих очаровательных, беспомощных и величавых каравелл, которые в его «железном» XIX веке казались живой, исчезающей формой бытия, как нам на исходе XX кажутся этими формами бизоны и кенгуру, очертания неведомых островов Океании в мерцании южных созвездий и все то странное, незнакомое, непонятное (как выразились бы сегодня, когда открывают не землю, а космос, – инопланетное), что открывали путешествия в океане. Да, да, деревья, женщины, танцы, песни, изваяния богов – все это туманило сердце, возбуждало мысль, и не хотелось покидать палубу, даже если на капитанском мостике стоял не твой прадед. Сергей Петрович в акцизе тосковал по романтике и читал, читал сочинения географов, делал из них выписки, которые складывал в бельевую корзину, ставшую постепенно семейным архивом.
И если бы кто-либо деду Сергею Петровичу открыл, что, в сущности, он занят величайшим на земле делом – соединяет в собственном роду поколения, которые были, с поколениями, которые будут, он отнесся бы, наверное, к этому открытию без должного доверия. Ему самому, возможно, эта корзина в сарае казалась утехой человека, не нашедшего себя, не раскрывшего души ни в «низкой» повседневности, ни в «высоком» искусстве. Он как бы кинул в волны эту корзину, как бы над нею парус поднял.
…В наше время семейные архивы – редкость, бурный ветер опрокидывал все паруса, выдувал из укромного домашнего тепла документы, письма и фотографии. А что не разметал ветер, что пощадили странствия и разлуки, что уцелело после непомерно долгих отсутствий, – убили суетность и небрежение. Помню, изучая городские нравы, имел я дело с охотниками за старой и старинной мебелью, они ее выуживали из самых гиблых мест: развалин обреченных домов, захламленных до отказа чердаков и подвалов, находили на больших, запущенных пустырях, они раскапывали ее в мусоре города, похороненную и кинутую за ненадобностью, чтобы, наспех реставрировав, «уступить» любителям старины. И вот эти-то охотники находили порой в сундуках и комодах и в утробах полуразвалившихся трюмо – нет, конечно, не семейные реликвии из золота или серебра, – их не забыли бы, – а письма и фотографии. Иногда это попадало ко мне, я читал, рассматривал; оживали лица и судьбы. Я держал это в руках, как некогда, во времена Кука и раньше, держали обломки кораблекрушений, восстанавливая по ним картину трагедий. Мне улыбались незнакомые лица и рассказывала о странностях и мелочах жизни уже ветшающая бумага. То, что когда-то надеялось, любило, страдало, стремилось, все это не узнанное потомками, похороненное навеки безымянное богатство волновало меня страшно и будто бы обязывало к чему-то. Некоторые из писем были настолько человечны, хороши, что хотелось их напечатать. Но особенно волновали на несминаемо твердых старых фотографиях юные ожидающие лица – лица тех, кто состарился, умер и забыт, чьих имен и судеб мы не узнаем никогда.
Я думал порой, что делать со всем этим: издать, домыслив, дофантазировав, или похоронить опять – в писательском архиве, более комфортабельно и почетно, чем были они похоронены в первый раз?
А если напечатать, не воссоздавая мысленно отношений и судеб, будет ли это понятно, расшевелит ли это ум и сердце читателя. Может ли житейски бесхитростное письмо неизвестного человека, письмо о «маленьких» волнениях и «маленьких» делах стать волнующим документом сегодня, если нам более ничего не известно об этом давным-давно ушедшем человеческом существовании?
Ну, например, это:
«14-го января 1900 года, 5 ч. 45 м. вечера.
Милая моя Манюрочка! Сегодня получил твое письмо. Спасибо, родная, утешила меня. Я не на шутку начал тревожиться тем, что ты не едешь и молчишь. Из письма же вижу, что ты не только не больна, но и веселишься. Веселись же, дружочек, это лучше, чем плакать. Однако, голубушка, не засиживайся, ты нужна мне как воздух и пища. Только сегодня, по случаю получения от тебя известия, я был в бодром и веселом настроении, остальное же время грустил. Обо мне не беспокойся, я берегусь, забочусь о своей драгоценной особе до мелочей. Например, прежде, чем перейти улицу, я непременно вспомню твой завет и осмотрюсь предварительно: нет ли лошадей и опасностей.
Каково живешь, моя родная? Я же неизменно грущу по тебе и дохожу почти до болезни. Не могу выразить моего нетерпения. В самом деле, Манюрочка, к чему нам терзать себя разлукою? Целую тебя, моя ненаглядная.
Твой Сережа».
Интересно ли это письмо, если нам больше ничего не известно о том, кто писал, и о той, кому писали?
Можно ли восстановить по нему характер, судьбу, как восстанавливал Кювье по найденной кости облик исчезнувшего животного? Можно, наверное, сочинить, измыслить рассказ о любви и разлуке двоих на заре века; рассказ о тоскующем человеке, который озирается на пустынной, по нашим сегодняшним понятиям, улице: нет ли поблизости лошадей; рассказ о человеческом сердце, которое на рубеже столетий попросило пощадить его от расставания; рассказ о растерянности перед судьбой.