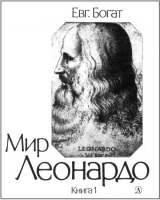
Текст книги "Мир Леонардо. Книга 1"
Автор книги: Евгений Богат
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Франциск I вошел с войсками в Италию, в Болонье Лев X с ним помирился, тогда же Франциск I убедил стареющего Леонардо оставить Италию ради Франции, где от него ничего не потребуют, кроме радости общения. Леонардо уехал из Италии.
По дороге Франциск I наслаждался его рассказами, его открытиями, его наблюдениями. И наверное, его шутками, его остроумием. По всей вероятности, Леонардо был интереснейшим собеседником. Настолько интересным, что Франциск поселил его рядом с собственным дворцом в Амбуазе, в замке Клу, и устроил тайный подземный переход, чтобы в любой час навещать высокого гостя.
Но не чересчур ли увлеклись мы логикой нехронологического повествования ради постижения загадок мира Леонардо? Не пора ли для того, чтобы читатель увереннее чувствовал себя, сообщить основные даты и события этой жизни в строго хронологическом порядке? Мне по-чему-то хочется отодвинуть этот момент нашего рассказа и вернуться опять к сумасшедшим загадкам, рисункам, играм Леонардо. В этом «сумасшествии» отразились не только особенности личности художника и ученого, но и дух эпохи – вероятно, самой фантастической и «безумной» из всех эпох, когда-либо существовавших в истории человечества. Леонардо испытывал особый интерес к старым стенам, на которых он умел видеть все образы мира.
Этот интерес разделяли и его современники.
Михаил Владимирович Алпатов отмечает, что Пьеро ди Козимо – художник-фантаст итальянского Ренессанса – с удовольствием всматривался в ветхие стены, угадывая в пятнах битвы, коней и фантастические города, облака. Был «фантастом» и Микеланджело, утверждавший, что «люди жаждут увидеть невиданное и казавшееся им немыслимым вместо общеизвестного».
На исходе Возрождения об игре фантазии, о фантастичности мира, человеческих судеб и отношений размышляли трагические и комические герои Шекспира.
Леонардо осуждал тех, кто не довольствуется красотой мира, и в то же время сам был фантастическим реалистом, то есть именно не довольствовался, желая чего-то невозможного. Фантастический реализм сквозит в его пейзажах и записях. И в то же время он любил именно эту реально существующую красоту мира, понимал ее, как никто, широко и подробно.
В сущности, разгадка Леонардо – в этой любви-нелюбви, в этом довольстве-недовольстве – именно поэтому равносильна, может быть, разгадке мира, жизни.
И эта неуемная, эта первобытная страсть увидеть все переходы, переплавки, перековки, перевоплощения, пере… пере… то есть схватить острым и точным наблюдением и запечатлеть карандашом или кистью самые интимные моменты в становлении реальности, когда нечто известное и явно существующее переходит в нечто неизвестное, совершенно новое, пока загадочное.
Он отвергал алхимию как науку, но живая алхимия мира поглощала его целиком. Лаборатория его мысли – слепок лаборатории мира. Лаборант, алхимик, кудесник, Дон Жуан познания, искавший истину с той же страстью и непостоянством, как Дон Жуан красоту…
По мере разделения труда и «распада» культуры на различные науки и искусства этот тип мышления можно полагать вымершим, исчезнувшим наподобие мамонта.
Леонардо без конца экспериментировал, в сущности, экспериментирование было для него излюбленной формой разумного существования; он, экспериментируя, жил и, живя, экспериментировал.
Один из русских исследователей жизни Леонардо – Аким Львович Волынский рассказал с ссылкой на анонимного биографа об эксперименте Леонардо над живыми людьми. Нет, в этом не было жестокости, а если и была, то бессознательная, почти простодушная жестокость ребенка. «Однажды, задумав изобразить смеющихся людей, он выбрал несколько человек, которые, по его мнению, подходили к намеченной цели, и, близко сойдясь с ними, пригласил их на пиршество вместе со своими друзьями. Когда они собрались, он подсел к ним и стал рассказывать им самые нелепые и смешные вещи в мире. Компания смеялась „до вывиха челюстей“… а сам он следил за тем, что делалось с нею под влиянием его смешных рассказов, и запечатлевал все это в своей памяти. После ухода гостей он удалился в рабочую комнату и воспроизвел их с таким совершенством, что рисунок его заставлял зрителей смеяться так же, как смеялись живые модели от его рассказов».
В этой истории отражен и артистизм эпохи, и артистизм самого Леонардо. По-видимому, он был талантливым рассказчиком, если мог заставить людей хохотать до упаду. Но было ли ему самому при этом весело? Ведь, рассказывая, он холодно, тщательно и подробно наблюдал, а наблюдая, запоминал, фиксировал в памяти выражения лиц. Он ставил опыт. Он ставил опыты всю жизнь, во всех ситуациях, во всех положениях.
И, ставя опыты, нес их «царице искусств» – живописи.
Он отдавал этой «царице» все сокровища, найденные им во всех областях жизни. Исследователи Леонардо не раз отмечали, что в картине «Мадонна в скалах» художник не только мастерски, но и безукоризненно точно изобразил различные растения и даже различные стадии размыва горных пород и их разрушение под действием воды. Но чтобы изобразить это, он должен был изучить растения как ботаник, а действие воды как гидротехник. Он шел к живописи от ботаники и гидротехники, но можно утверждать и обратное: он шел от живописи к ботанике и гидротехнике. Это понимал он сам, записав однажды, что многие его наблюдения «живописи ни к чему».
Ученый Василий Павлович Зубов верно отмечает, что к числу этих «ненужных» для живописи наблюдений можно отнести его интерес к концентрическим годовым слоям деревьев, позволяющим определять возраст. Живописи были «не нужны» и законы листорасположения (филлотаксиса), открытые Леонардо.
А «к чему» живописи наблюдения Леонардо над явлениями гео– и гелиотропизма, его эксперименты с движением соков растения? Например, этот его вывод: «Если с дерева в какой-нибудь части ободрать кору, то природа, которая об этом заботится, направляет туда гораздо большее количество питательного сока, чем в другое какое место, так что из-за вышеуказанной недостачи кора там растет гораздо толще, чем в другом каком месте. И настолько сильно движется сок этот, что, попав в место, требующее помощи, часто поднимается вверх наподобие прыгающего мяча, просачиваясь или, вернее, пробиваясь так же совершенно, как кипящая вода».
Действительно, это наблюдение «живописи ни к чему». Но может быть, именно «ненужное», «лишнее» и помогало – нет, не созданию той или иной картины – рождению того фантастически емкого синтетического метода отображения реальности, в котором Леонардо остался непревзойденным Мастером. Может быть, без этого углубления во все подробности мира, без этого стремления открыть в них математически точные закономерности и не удалось бы ему в картине «Мадонна в скалах» изобразить различные стадии размыва горных пород с точностью ученого, которую мы почти не ощущаем, будучи во власти магии гения живописца.
Во власти магии искусства порой неощутим и неразличим гений Леонардо-ученого. Магия искусства действует на нас сильнее авторитета науки. Но может быть, у Леонардо – у него одного! – они неотделимы друг от друга, и в этом тоже уникальность его личности, в которой художник обогащал ученого, а ученый обогащал художника.
Всю жизнь Леонардо интересовали волосы. Начиная с вьющихся легких кудрей ангела на картине Верроккьо и кончая бурным потоком шевелюры луврского Иоанна. Историк Матвей Александрович Гуковский отмечает, что виртуозность, с которой он выписывал волосы, можно рассматривать в какой-то мере как его подпись под картиной.
И всю жизнь он сопоставлял в «зеркальных» записях человеческие волосы с волнами – волнами на воде, на которую начал часами засматриваться в детстве.
Леонардо был красив, как свидетельствуют все его современники, и в юности, и в середине жизни, и в старости.
Все исследователи жизни великого человека отмечают, что остались лишь портреты и автопортреты старого Леонардо. Кстати, интересно, что в найденных недавно текстах забытых и полузабытых поэтов и сочинителей того времени Леонардо называют Пифагором, Эпименидом, Архитом – именами мудрецов античного мира. Рафаэль в известной фреске «Афинская школа» тоже изобразил его в образе Платона…
Не раз высказывалось сожаление, что, помимо бюста Давида работы Верроккьо, не осталось ничего, в чем был бы запечатлен Леонардо юный.
Мне кажется это сожаление несправедливым. Леонардо в юности написал собственный портрет. Эту его работу ни разу не рассматривали как автопортрет, хотя написано о ней немало. Рассказывая о жизни Леонардо в мастерской Верроккьо, Вазари – а за ним и сотни исследователей и повествователей – подробно останавливается на одной истории. Верроккьо поручил юному Леонардо написать в большой композиции фигуру ангела. Эта картина находится сейчас во Флоренции, в музее Уффици.
Ангел Леонардо – мальчик, очарованный жизнью и испытывающий к ней нежное и робкое любопытство, обещающее стать завтра неутолимой страстью. Леонардо написал себя. Чтобы убедиться в этом, достаточно положить перед собой две репродукции: на одной изображение юного Давида работы Верроккьо, на второй – юный ангел работы Леонардо на картине Верроккьо. Верроккьо создал бесстрашного воина, победоносного и чуть ироничного. У ног его лежит голова Голиафа, она лежит, как поверженный мир зла.
Леонардо написал мальчика, видящего в жизни лишь добро и бесстрашно – тоже бесстрашно! – доверяющегося ему. Но это одно лицо, одна душа – непостижимое лицо, непостижимая душа Леонардо да Винчи.
И когда рассматриваешь трагический автопортрет, написанный им в старости, чувствуешь, что мы в стране мудрости и одиночества, высшей сосредоточенности и высшей печали, безумного любопытства к тайнам жизни и горечи от сознания их непознаваемости. У врат в эту страну тихо и доверчиво, коленопреклоненно и с поднятой головой стоит ангел на картине Верроккьо – мальчик Леонардо…
Я назвал эту главу: «Жизнь как секрет, или…»
* * *

Лоренцо ли Креди (?). Портрет Веррокьо.

Веррокьо. Давид.

Рафаэль. «Афинская школа» (фрагмент). Платон и Аристотель.

Рафаэль. Портрет папы Льва X с кардиналами Людовико дель Росси и Джулио дель Медичи.

Леонардо да Винчи. Разные лица (рисунок).

Запуск ракеты (фото).
ГЛАВА 3
…или Секреты как жизнь

(Иллюстрация, использованная к шмуцтитлу: Леонардо да Винчи, «Благовещение», фрагмент, фигура ангела написана Леонардо да Винчи)
Были эпохи, когда людям казалось, что они родились чересчур рано. Были эпохи, когда людям казалось, что они родились чересчур поздно. Современники итальянского Ренессанса были уверены, что родились вовремя. Когда читаешь их, поражает гордость временем, в которое они живут.
В этом смысле Леонардо был исключением. Часто непризнанный, с неосуществленными замыслами, он редко испытывал радость от того, что родился именно в эту эпоху…
Существует немало версий, почему почти тридцатилетний Леонардо уехал из «благословенной Флоренции». Почему он уехал из Флоренции, которую поэты называли «цветком Италии», в которой видели тогда «современные Афины», которая казалась средоточием «золотого века», где расцвели красноречие, живопись, архитектура, скульптура, музыка?
Леонардо покидает Флоренцию… А через несколько лет Флоренция дает почетное гражданство Пико делла Мирандола. Флоренция не могла дать почетное гражданство Леонардо ни во времена образованного мецената и талантливого поэта Лоренцо Медичи, ни потом, когда Медичи пали, потому что Флоренция никогда не любила Леонардо. А сам он любил ее? Нам об этом ничего не известно. Если и любил, то не настолько пламенно и яростно, страстно и «мстительно», как Данте.
В сущности, хотя Леонардо и не был изгнан из Флоренции, как Данте, он все время оставался для нее пасынком. Иногда мне кажется, что и творчество Леонардо, его картины и изобретения, его мощь были не дочерью, а падчерицей Возрождения. А если и дочерью, то непризнанной и нелюбимой. Эта эпоха, которая его породила, была для него мачехой. Порой даже и любящей, но капризной, непостоянной и нередко жестокой. Он был незаконнорожденным сыном не только флорентийского нотариуса, но и Ренессанса.
Лоренцо Медичи, не оценивший и не понявший Леонардо, был, как отмечают все исследователи его личности, одним из самых странных людей Возрождения. В нем сочетались высокая духовность и хитрость, художнический талант и жестокость (что совместимо как редкое исключение), сила воли и склонность к безвольной созерцательности.
Если в образе Марка Аврелия мы видим в одном лице философа и императора, то в образе Лоренцо Великолепного нас не может не удивить поэт и государь. Его стихи распевались на улицах Флоренции, новелла, написанная им, вошла в сокровищницу литературы. Он любил читать мудрецов и общаться с умными современниками.
И то, что он не понял и не оценил Леонардо, уехавшего из достаточно уютной в эпоху Лоренцо Флоренции в беспокойный Милан, пожалуй, ключ, которым можно открыть одну из тайн Леонардо.
Леонардо был единственным художником, не понятым Лоренцо Медичи с его остро развитым чувством красоты. По-видимому, работы Леонардо казались ему некрасивыми. По-видимому, та высшая красота, красота истины, которой дышат эти работы, была недоступна даже лучшим из современников Леонардо да Винчи.
Быть незаконнорожденным сыном в ситуации итальянского Ренессанса вовсе не означало быть социально ущербным человеком. Но в то же время незаконнорожденность выступала даже и в ту свободную от условностей эпоху как некое пятно.
Это можно видеть из «Жизнеописания» сына Филиппо Липпи – Филиппино Липпи, о котором Вазари обмолвился (а подобные обмолвки особенно важны для постижения духа эпохи), что он «загладил пятно, унаследованное им от отца» успехами в искусстве и достойной жизнью. Этот штрих, который обычно игнорируется биографами Леонардо, ибо он будто бы не испытывал позора незаконнорожденности, все же открывает нечто тайное в его душе, в его повышенной ранимости и порой обостренном чувстве собственного достоинства – при всей мягкости, учтивости характера и поведения.
Этот штрих открывает нечто важное и в его отношениях с современным ему миром.
Разрешу себе очередное «мимолетное» отступление от темы. Нам на расстоянии веков та эпоха кажется почти инопланетной; но вот что писал в 1474 году посол Эколе д’Эсте во Флоренции господину в Феррару: «Ничего нового… только у Лоренцо потерялись два сокола».
Нам эпоха Лоренцо Великолепного кажется исполненной живописной и непревзойденной новизны, а современник уныло констатировал: «Ничего нового»; Это еще раз подтверждает старую как мир истину: нет ничего более трудного, чем понять собственную эпоху. Хотя возможна и иная версия: нет ничего более рискованного, чем понимать не собственную эпоху…
Поладим на том, что понимание любого времени – и того, когда ты живешь, и того, когда тебя не было, – дело нелегкое.
Леонардо с его замыслами новых орудий и новых великих сооружений хотелось бежать из этой тихой заводи. Лоренцо, который не только не отпускал от себя талантливых людей, но делал все возможное для того, чтобы им при его дворе жилось хорошо, расстается с Леонардо с удивительной легкостью. Казалось бы, загадка. Но чтобы ее отгадать, надо почувствовать непохожесть Леонардо на современников и даже на собственную эпоху.
Это было время, когда «разведчики» сообщали не стратегические секреты, а о положении и возможностях художников.
Вот что писал Лодовико Моро в Милан его анонимный агент из Флоренции: «Доминико Гирландайо хороший художник в картинах и еще больше в стенописи». А Сандро Боттичелли отмечен особо «как художник исключительный в картинах и стенописи». Надо полагать, что анонимный агент сообщил Лодовико Моро, который стремился затмить блеском собственного двора популярность Лоренцо Медичи, и о Леонардо да Винчи.
Но Лоренцо не отдал в Милан ни Гирландайо, ни Боттичелли. Уехал в Милан – на семнадцать лет! – гениальный Леонардо. Этот момент его биографии, момент расставания с любимой Флоренцией, необычайно важен для понимания той «непохожести», которая и делала Леонардо «незаконнорожденным сыном» итальянского Ренессанса.
Существуют разные версии обстоятельств его неожиданного отъезда из родной Флоренции в неродной Милан. Лоренцо Великолепный хотел расположить к себе воинственного и коварного миланского государя Лодовико Моро, поэтому он послал Леонардо в Милан, чтобы тот передал Лодовико дивную лиру.
Леонардо был (легче перечислить, кем он не был) и дивным музыкантом. Он создал из серебра в форме конской головы лиру, на которой играл.
Лодовико Моро был, как отмечает Вазари, большим любителем игры на лире. Возможно, Лоренцо Великолепный ожидал, что Леонардо после нескольких услаждающих душу миланского тирана концертов вернется в родную Флоренцию.
Леонардо остался в Милане на семнадцать лет – до падения Лодовико.
Сейчас, видимо, стоит познакомить читателя с основными датами и событиями жизни Леонардо, которых я уже коснулся выше, пытаясь исследовать его духовный мир.
В 1482 году тридцатилетний Леонардо покидает Флоренцию ради Милана. В Милане он живет семнадцать лет, работая над колоссальной конной статуей Франческо Сфорца – отца Лодовико Моро. В Милане он написал «Тайную вечерю» и «Мадонну в скалах». Но основные его силы были отданы научным исследованиям.
В 1499 году, после захвата Милана французами, Леонардо возвращается во Флоренцию. В 1502-м идет на службу к правителю Романьи Цезарю (Чезаре) Борджа, одному из самых чудовищных людей в истории Ренессанса, затем опять живет и работает во Флоренции, снова покидает Флоренцию ради Милана, потом переезжает в Рим. Умирает во Франции…
Известно письмо Леонардо к Лодовико Моро.
Леонардо перечисляет секреты, которые могут заинтересовать миланского тирана: «Владею способами постройки очень легких и крепких мостов, которые можно без всякого труда переносить и при помощи которых можно преследовать неприятеля… стойкие и не повреждаемые огнем и сражением, легко и удобно разводимые», средства «жечь и рушить мосты неприятеля», способы «отводить воду из рвов…»
Леонардо перечисляет секреты и умения, которыми, вероятно, в эту эпоху владел он один. Иначе они и не были бы секретами. Иначе Лодовико Моро, двор которого был средоточием технической, а не гуманитарной (в отличие от двора Лоренцо Медичи) интеллигенции, не отнесся бы к письму Леонардо с величайшим вниманием.
Но никто из биографов Леонардо, насколько мне известно, не задался дотошно вопросом: когда, где, при помощи чего или кого овладел Леонардо этими секретами? Он не обучался в университетах (например, в Павийском, где уровень изучения технических и естественных наук был высок). В описи вещей, которые он захватил с собой, уезжая из Флоренции, нет ничего, что говорило бы о его занятиях наукой и техникой.
Конечно, когда дело касается гения, подобные вопросы (когда? кто научил?) могут показаться детскими. Ведь для гения нет законов, он сам устанавливает их. Но важно учесть, что речь идет не о поэзии, не о живописи и не о философии, где все решают порой гениальные озарения и интуиция, дело касается вещей, требующих углубленных познаний и умений. А жил Леонардо в философски интеллектуальной (в ту пору интеллектуализм ограничивался литературой чисто гуманитарной) Флоренции, с ее особой философски-платонической атмосферой, с ее поклонением античному искусству, а не науке, античной риторике, а не физике…
Чтобы понять всю необычайность документа – письма Леонардо к Лодовико Моро, – который цитируют все, кто пишет о Леонардо, и цитируют как нечто если и вызывающее удивление, то не задающее загадок, рассмотрим подробнее, что же это за секреты.
«Также устрою я крытые повозки, безопасные и неприступные, для которых, когда врежутся со своей артиллерией в ряды неприятелей, нет такого множества войска, коего они не сломили бы. А за ними невредимо и беспрепятственно сможет следовать пехота».
А вот идет перечисление артиллерийских орудий – бомбард, мортир, метательных снарядов…
В описи вещей, которые берет он с собой, уезжая в Милан, об увлечении техническими ремеслами говорит лишь серия рисунков печей.
Если бы Леонардо написал, уезжая не из Флоренции в Милан, а из Милана во Флоренцию, нечто подобное Лоренцо Медичи, это было бы гораздо логичнее, потому что именно в Милане в то время жили физик Джорджо Валла, изучавший тексты античных математиков, юрист и естествоиспытатель Фацио Кардано, сыновья медика, философа и математика, одного из корифеев Павийского университета Джованни Марлиани, которые познакомили Леонардо с архивом отца. В Милане Леонардо общался с инженером и философом Пьеро Монти (кстати, автором книги «О распознавании людей»; это говорит о том, что в то время инженеры были одновременно и инженерами человеческих душ). В Милане Леонардо подружился и с Лукой Пачоли, замечательным математиком, работы которого Леонардо потом иллюстрировал.
А во Флоренции – круг единомышленников Лоренцо Медичи, зажигавших в день рождения Платона лампады перед его бюстом. Во Флоренции – люди, обожествлявшие Цицерона, Сенеку, античных ораторов и мыслителей. Именно они определяли умонастроение города, а не мастерские живописцев, которые – об этом не нужно забывать – были средоточием и технических умений.
И то обстоятельство, что именно Милан был городом инженеров, изобретателей и математиков, объясняет нам, почему Леонардо расстался ради него с любимой Флоренцией, но делает еще более загадочным его осведомленность в секретах, которыми он собирался удивить тех, кто этим секретам посвятил всю жизнь.
Кувшин как бы шел к источнику. Удивительный кувшин шел к источнику. Не пустой, а наполненный до краев, расплескивающий воду.
Самое поразительное в его миланской жизни это, пожалуй, то, что как военный инженер – а он был уверен, что именно в этом качестве заключает в себе особую ценность для Лодовико Моро, – Леонардо почти не работал. Лодовико Моро ценил в нем не военного инженера, а… мастера увеселений.
Этот тиран, о котором мы еще будем писать, несмотря на то что он вышел из воинственной семьи кондотьеров, интриги любил больше, чем войну. Может быть, именно поэтому в конце концов и потерпел поражение.
А где интриги, там и увеселения. Увеселение – маска интриги. Леонардо устраивал в Милане увеселения, в которых его технический и художнический гений выявились во всем фантастическом разнообразии. Об этих увеселениях ходили легенды и мифы по всей Италии. И в сущности, они соответствовали духу эпохи, который царил повсюду: и в жизни, и в литературе. Но Леонардо был этому духу чужд – точно это не его эпоха. Несмотря на то что он был постановщиком и изобретателем неслыханных аттракционов, в которых небо (разумеется, механическое) опускалось на землю, сообщая ей фантастическую новизну, в самом Леонардо (это чувствуется по басням, которые он сочинял в то время) ощущается что-то печальное.
Но для понимания мира Леонардо эти увеселения важны. Они единственная форма его общения с античностью. В ту насыщенную культом античности эпоху Леонардо, быть может, был единственным великим человеком, который не испытывал по отношению к античности чувства поклонения (он даже высмеивал это поклонение, когда оно становилось рабским). А в увеселениях, изобретаемых им, он мифы язычества воскрешал, он общался с миром, который боготворила его эпоха, он общался с ним несколько шутовски. Это общение было для него даже не игрой – игрой в игру.
Мир художника точно очерчен Борисом Пастернаком.
Это мир, у порога которого кончается искусство – даже искусство! – «и дышат почва и судьба». Насколько же мир Леонардо был далек миру античности, если даже в его искусстве (за исключением искусства увеселения) не было ничего от этого мира.
Писал он в Милане и портреты любовниц Лодовико Моро. Самый известный из них (по-видимому, это тот, который находится сегодня в картинной галерее Кракова) – портрет Чечилии Галлерани. Поскольку сама личность Леонардо располагает к легендам, то было бы странно, если бы не родилась легенда о любви Чечилии Галлерани к божественному мастеру.
Чечилия Галлерани была одной из самых замечательных женщин итальянского Ренессанса. Писатель Банделло называл ее современной Сафо. Она свободно говорила и писала по-латыни, она сочиняла стихи на итальянском языке, в ее палаццо собирались, как отмечает французский исследователь жизни Леонардо Габриэль Сеайль, самые выдающиеся люди Милана. «Военные говорили там о воинском искусстве, музыканты пели, философы трактовали о высших вопросах, поэты читали свои и чужие произведения». Именно в этом палаццо рассказывались новеллы, которые были потом собраны и обработаны Банделло. Когда Леонардо писал ее портрет, Чечилия была совсем юной – шестнадцатилетней.
Один из авторов итальянского телефильма – Бруно Нардини пишет об их отношениях:
«Она его полюбила и уже догадывалась о невысказанных чувствах Леонардо».
Основанием для легенды послужил действительно найденный в архивах Леонардо неоконченный черновик письма:
«Несравненная донна Чечилия. Возлюбленная моя богиня. Прочитав твое нежнейшее…»
У них была тайная переписка? Нам об этом ничего не известно. Но известна сухая и четкая запись, которая тоже относится к Чечилии, к работе Леонардо над ее портретом: «Если хочешь убедиться, совпадает ли твоя картина с оригиналом, возьми зеркало и посмотри, как отражается в нем живое существо».
Любил ли он в Чечилии женщину, любил ли он в Чечилии богиню, любил ли он в Чечилии «зеркало», любил ли он в ней «живое существо» – образ телесного и духовного совершенства, – осталось одной из загадок его жизни.
Но когда останавливаешься и подолгу стоишь перед краковским портретом, изображающим Чечилию Галлерани с горностаем в руке, перед этим холодновато-замкнутым, жестко-бесстрастным лицом, поразительно не похожим на Чечилию Галлерани – обаятельную, женственную и добрую – в сегодняшнем телефильме, перестаешь верить и в эту легенду. Чечилия с горностаем написана гениальной, но не любящей рукой. Нет, точнее, она написана художником, для которого искусство – зеркало жизни, зеркало холодное и беспощадно точное.
Существует версия, что в Милане Леонардо нарисовал портрет и второй возлюбленной Лодовико Моро – Лукреции Кривелли.
Ряд исследователей относят этот портрет к более позднему времени, видя в нем не Лукрецию Кривелли, а возлюбленную Джулиано Медичи.
В одном из «Кодексов» Леонардо есть три эпиграммы на этот портрет, видимо сочиненные поэтами при дворе Лодовико Моро. Дух времени и дух Милана наиболее точно передает эта эпиграмма:
«Имя той, которую ты видишь, – Лукреция, которой боги дали все щедрою рукою. Ей досталась в удел редкая красота; нарисовал ее Леонардо, любил Моро; один – величайший живописец, другой – вождь».
«Величайший живописец» создал и портрет юной жены «вождя», умершей рано, Беатриче д’Эсте.
Но основными художническими работами были «Тайная вечеря» и эскизы к памятнику Франческо Сфорца.
О трагической судьбе этих двух величайших работ Леонардо мы с вами подумаем в конце нашего повествования.
А сейчас обратимся к новеллисту итальянского Возрождения Маттео Банделло, который родился в 1485 году и мальчиком видел Леонардо, наблюдал за его работой в доминиканском монастыре Санта-Мария делле Грацие, на одной из стен которого Леонардо писал «Тайную вечерю». «Имел он обыкновение, – пишет Банделло, – и я столько раз сам видел это…»
Мысль, что был человек, который видел живого, реального Леонардо, потрясла меня, будто я читал о человеке, запечатлевшем в памяти работу инопланетных существ, сооружающих циклопические постройки.
Меня удивило не то, что реально существовал Леонардо, а то, что был человек, засвидетельствовавший, что видел его воочию. В чем же тут парадокс сознания? К существованию Леонардо я относился как к существованию героя мифа – Тезея или Геракла. Но если бы нашлись воспоминания реальных людей, видевших реальных Геракла и Тезея, это потрясло бы, наверное, меня больше описаний всех подвигов античных героев!
Банделло рассказывает, что Леонардо имел обыкновение рано утром взбираться на мостки, потому что картина находилась довольно высоко над уровнем пола, и работать от зари до зари, не выпуская кисти из рук, забывая об еде и питье.
Да, испытав удар при чтении Банделло, я первый раз понял, что Леонардо как живая личность вызывает у меня не больше доверия в его реальном, земном существовании, чем Зевс или Аполлон. «Я видел Зевса!», «Я видел Аполлона!». Покажите мне людей, которые их видели, дайте мне в руки их мемуары!
Вот я читаю у Банделло о том, что иногда Леонардо по нескольку дней не дотрагивался до картины, а лишь созерцал ее, размышляя. Я читаю о том, что Банделло сам это видел, и испытываю нечто подобное тому, что Бунин назвал потом чувствами «жуткими, необыкновенными», когда рассказал о встрече в московской церкви с сыном Пушкина.
Вот так же жутко и необыкновенно было читать у Банделло о том, что он не раз видел, как Леонардо, «побуждаемый внезапной фантазией, в самый полдень, когда солнце стоит в зените… выходил из Старого замка, где лепил из глины изумительную конную статую…».
Но он не только видел Леонардо, он и слышал его! Это удивляет еще больше. И он слышал не обыденно-житейские речи (их, конечно, тоже!), а рассказ об Александре Македонском и Апеллесе.
От великого художника античности Апеллеса не осталось ни одной картины, осталось имя, окруженное (как и имя Леонардо) легендами и мифами. Одна из легенд повествует о том, что Александру Македонскому захотелось, чтобы Апеллес нарисовал одну из его красивейших наложниц, Кампаспу, совсем обнаженной. «Апеллес, увидев нагое, совершеннейшей формы тело юной женщины, страстно в нее влюбился, и когда Александр узнал об этом, то под видом дара отослал ее Апеллесу. Александр был человек большой души… Он победил самого себя…»
В этом рассказе, переданном Банделло, явно ощутима тоска Леонардо да Винчи по могущественному покровителю, понимающему ум и сердце художника, по «человеку большой души».
Но Леонардо посчастливилось меньше: он не нашел такого покровителя (а в эпоху итальянского Ренессанса, несмотря на торжество искусств, художник без покровителя был беззащитен). Леонардо не нашел «человека большой души» ни в Лоренцо Медичи, ни в Лодовико Моро, ни в папе Льве X… Тоска по покровителю, который бы его понимал, и увела Леонардо из родной Италии во Францию, в замок Клу, к Франциску I…
И в то же время нельзя утверждать, что Лодовико Моро не понимал Леонардо. Из литературы, посвященной итальянскому Ренессансу, широко известна история (первым изложил ее Вазари), когда настоятель монастыря пожаловался Лодовико Моро на то, что Леонардо работает чересчур медленно над фреской «Тайная вечеря». Лодовико Моро в «мягкой форме» попросил Леонардо поспешить, на что художник ему ответил, что ему не удаются две головы: Иисуса Христа, в которой «должно быть облечено вочеловечевшееся божество», и Иуды.








