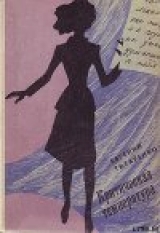
Текст книги "Критическая температура"
Автор книги: Евгений Титаренко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
– Так… Ничего, – ответила Оля, по-отцовски приподняв голову. Темные круги у глаз были едва заметны, и все же они делали ее страже, старше.
– Как ничего? – переспросила Милка.
– Ну… Сказали, что игра в почтальона – немножко глупая игра, – нехотя выдавила из себя Оля.
– И все?
– Сказали, чтоб не забывала, что это всего лишь игра, – сделав строгое лицо, добавила Оля. Вопросы раздражали ее.
– Это я так… – пояснила Милка. – Просто… – Она и сама не знала, зачем ей все это: машинально подозвала Олю, машинально спросила о первом, что пришло в голову.
Оля круто повернулась на каблуках и, ничего не сказав, пошла к классу.
А Милка осталась возле лестницы, уже определенно чувствуя, как что-то нехорошее творится с нею. В душе нарастала злость или взвинченность, раздражение – она не могла понять, что это.
* * *
Находка третьего письма никого не удивила. К этому уже начали привыкать. Письмо нашли на перемене, в десятом «б», кто-то из девчонок.
«Ты напрасно мучаешь себя раздумьями, – писала неизвестная. – Напрасно жалеешь меня! Ты, пожалуйста, меня не щади! Потому что делаешь меня этим несчастной.
Думаешь, я не замечаю, как ты стараешься отойти в сторону, стушеваться, когда я знакомлюсь с более или менее порядочными людьми? Вот на совещании, когда я разговаривала с этим завотделом из горкома, ты почему так внимательно наблюдал за нами? Будто надеялся, ждал: вдруг он понравится мне? Думаешь, я не видела?
И тут, когда ты коснулся моего прошлого.
Ты не думай, что я развелась только из-за тебя и потому теперь несчастна. Просто я однажды пыталась, как это делают люди, и, если признаться, единственно по их советам, попыталась создать что-то вроде семьи. Надеялась этим сколько-то увлечь себя. А может быть, даже кого-то сделать счастливым, окружив заботой, уютом, каким-то пониманием… Но нет. Семьи никак не выходило. Из-за меня. Потому что это не увлекло меня. А значит, я и не могла никого осчастливить. Не могла! Веришь? И не думай, что я сколько-нибудь сравниваю при этом себя с тобой. Не думай, что этим сколько-то упрекаю тебя. Служу примером или укором. Нет! Совсем нет. Даже, чтобы ты поверил: еще раз нет!
Я, родной, понимаю тебя. В самом главном. От этого никуда не уйдешь…
Ведь когда я, глупая, пробовала создать семью, от меня зависело: иметь мне или не иметь детей. А от тебя не зависело это. И здесь тебе надо, пожалуй, не сочувствовать, а завидовать мне! Ведь у меня сейчас только и мысли, что о тебе! Представляешь? И все, что я ни делаю, о чем ни забочусь, – для тебя… Рассказать кому-нибудь – засмеют. Но вот считается, например, что люди одинокие постепенно, как правило, опускаются. А я всегда готовлю вкусный завтрак, обед. И сервирую стол, чтобы ты не упрекнул меня, не засмеялся бы надо мной. Я стараюсь хорошо одеваться, не хуже других. Ты представляешь теперь, что ты для меня значишь? Он, тот, о ком я говорила, мой муж, ничего такого не вызывал во мне…
Он был не такой уж плохой. Как все люди. Как большинство. Умный, внимательный. Очень удобный, наверное, как муж… Нет, я ни разу не сказала ему этих слов: про любовь. Он сказал мне. И предложил… Я долго думала, потом согласилась. А теперь даже с собой наедине я вся горю от стыда, едва подумав об этом.
И ты знаешь, родной, о чем еще. Я свыкаюсь, а может, свыклась уже со всем, что и как есть у меня в жизни. Раньше здорово верилось, это преследовало даже ночью: будто должно рано или поздно что-то произойти, должно что-то случиться вдруг – и ты станешь около меня. Навсегда. Навсегда-навсегда. А теперь я не думаю об этом. Ну – почти не думаю…
Вся экзотика детства, все представления о романтическом связываются, как правило, с жаркими странами. А я, когда представляю нас вдвоем, – я думаю о глухой-глухой уральской тайге, где родилась я… Представляю озеро, избушку в пять стен, со ставнями, оградкой. Высокое крыльцо, сарай, баньку на огороде… Представляю себя: как я набрала во дворе охапку березовых полешек и поднимаюсь по ступенькам, чтобы затопить печь… А утро раннее-раннее. И ты с удочками, неподалеку от дома. Ну, чтобы мне видно было тебя…
Люблю. Целую».
* * *
Все вдруг приобрело немножко комический характер.
Неведомый переписчик, снабжавший письмами два десятых: «а» и «б» – не назвал имени их автора. Но и потребность в этом исчезла вскоре.
Клавдия Васильевна несколько запоздала на второй урок. А когда вошла, минуту-другую стояла возле стола, в рассеянности глядя на закрытый классный журнал. Потом медленно, будто нехотя, повернулась к доске. Взяла мел и уже занесла было руку, чтобы записать новую тему, но опустила ее и оглянулась на класс. Блеклые губы ее тронула виноватая улыбка.
– Что-то у меня сегодня с утра все не клеится…
Лицо ее было осунувшимся. Глаза, усталые больше чем когда-нибудь, вовсе потускнели. Но и теперь еще никто не сделал вывода, который буквально напрашивался в связи с таинственными посланиями. Во всяком случае, он пока не приходил в голову Милке да и большинству в классе, как она заметит чуть позже.
Вездесущий Левка Скосырев уточнил по поводу признания химички:
– Это вы из-за кражи?
Выцветшие, серые брови ее медленно поползли вверх.
– Нет… – удивленно проговорила она. И, поведя головой, как-то испуганно, словно бы не желая допускать никаких сомнений по этому поводу, еще раз повторила: – Нет-нет! При чем здесь кража?
– А почему Анатолий Степанович в милицию не заявляет? – полюбопытствовал настырный Левка. Потом ни к селу ни к городу добавил: – У нас сегодня сплошные сенсации с утра. То грабеж, то любовь… Поэма с продолжениями. Чокнуться можно.
И палочка мела вдруг хрустнула в руках Клавдии Васильевны. Одна половинка упала на пол, а другую Клавдия Васильевна завертела в сухих, нервных пальцах, беспомощно взглядывая под ноги.
Инга Сурина вскочила и услужливо подняла мел.
– Это его личное дело… При чем здесь Анатолий Степанович?.. – ответила Клавдия Васильевна рыжему Левке.
Но девчонки уже переглянулись. И Милка была убеждена, что большинство, как она и Лялька, только сейчас поняли, что кража тут действительно ни при чем. Но АВТОРОМ ПИСЕМ, той загадочной неизвестной, что с утра будоражила умы десятиклассников, была КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА!
Открытие это оказалось настолько ошеломляющим, настолько невероятным, что когда Клавдия Васильевна тусклым голосом объявила: «Давайте повторим бензолы…» – и начала что-то писать, никто не слышал ее и не обращал внимания, что там она пишет. В сверкающих глазах одноклассников застыл один и тот же недоуменный вопрос: можно ли в это верить?
Представление о таинственной неизвестной, с ее беспредельной добротой, с ее внутренней собранностью, постоянством, нежностью чувств, никак не увязывалось с представлением об этой робкой, во многом приниженной, ну совершенно бесцветной женщине…
Нет, Милка просто не могла допустить, чтобы Клавдия Васильевна, эта пережившая свой век старуха, так чувствовала. Даже в прошлом! Даже когда-то! Не говоря уж о том, чтобы – теперь…
И все же это надо было признать. Тогда упоминание о школе, о недолгом замужестве, об одиночестве – все получало объяснение…
Но кому адресовались письма? На мгновение какая-то смутная догадка промелькнула в Милкиной голове. Однако не это было сейчас главным.
Вдруг припомнилась фраза из последнего письма: «Я стараюсь хорошо одеваться…» И еще отчетливее бросились в глаза монашеская юбка Клавдии Васильевны, узел жиденьких, бесцветных волос, неряшливо выбившиеся пряди…
Все стало смешным и немножко даже обидным. Как будто Клавдия Васильевна обманула Милку. Всех обманула. И себя тоже. Она просто выдумала эту притягательную, наполненную страстями жизнь. Выдумала ЕГО. И выдумала себя: пылкую, преданную, щедрую в чувствах, гордую, во всех отношениях красивую… И потому не вызывал протеста у Милки приглушенный, немножко нервный хохот, что вспыхивал то там, то здесь по классу.
А Клавдия Васильевна молча все писала и писала формулы органики, словно бы припала грудью к доске, и не решалась оглянуться. Вся съежившаяся, сухонькая. Вся чуточку по-стариковски неопрятная.
* * *
Что творилось в классе на большой перемене, Милка могла только представить себе, но сама в разговорах не участвовала, поскольку, едва отзвенел звонок и Клавдия Васильевна, подхватив журнал, направилась к выходу, в дверь с чьим-то «опросником» в руках вошел Неказич. Извинился перед химичкой, дождался, когда она уйдет, и показал «опросник» классу.
– Ребята, чья это анкета?.. Можно, конечно, не признаваться, – торопливо оговорился он. – Анкеты без подписей, по условиям опроса. Но…
Договорить он не успел. Из-за парты поднялся Стаська Миронов.
– Это моя анкета!
Добродушный Неказич даже растерялся немножко, пригладил пучки волос над ушами.
– Ну… Если ты не возражаешь… Пройдем на минуту в учительскую…
Стаська прошагал через класс и первым вышел за дверь.
Все это очень насторожило Милку. Хотя, если говорить откровенно, ее настораживал сегодня любой пустяк. Но только скрылся за дверью просторный пиджак Неказича, как она, воспользовавшись неразберихой, что сразу же охватила класс, выскользнула в коридор почти одновременно с историком.
Еще не думая, зачем ей это, решила, что найдет причину и, когда Стаська будет в учительской, – проникнет следом. Но известный путаник Неказич повел Стаську Миронова не в учительскую, а в кабинет завуча. Это упрощало задачу. Кабинет находился почти у выхода, рядом с раздевалкой, то есть в самом оживленном месте, и по этой причине, наверное, всегда пустовал. Дверь его, сколько помнит Милка, с утра до вечера была открытой, и стоило прихлопнуть ее, как через секунду она опять отходила. Люди посвященные привыкли к этому, а новички по сто раз мучительно закрывали ее за собой. И, чтобы слышать происходящее в кабинете, достаточно было пройти в раздевалку, снять свое пальто и поочередно выворачивать карманы, отыскивая пропавший, скажем, рубль, которого у тебя никогда не было. Пользовались этим довольно часто все без исключения, и потому угрызений совести никто не испытывал.
Правда, Милка подумала, что шпионит за Стаськой уже второй раз. Но ее оправдывало беспокойство, что мучило с самого утра.
Уборщица тетя Галя, которая всегда дежурила в раздевалке, меланхоличная, на редкость полногрудая и белокожая в пятьдесят с лишним лет, прекрасно знала, отчего вдруг теряются в карманах пальто рубли, и смотрела на озабоченных искателей сквозь пальцы.
В кабинете завуча историка и Стаську поджидал московский диссертант. Лет ему было от силы двадцать пять. Но ходил он, подражая стереотипным киношным профессорам, сгорбившись и словно бы не замечая никого в ученой своей рассеянности. Благодаря этому да еще благодаря козлиной бородке на круглом, гладком лице почтения среди учащихся двенадцатой школы мужская половина научной группы не вызывала.
– Видишь ли, Станислав… – услышала Милка скрипучий голос Неказича. – Если хочешь, садись!
– Я постою, – сказал Стаська.
– М-м.. – протянул Неказич, колеблясь по неизвестной причине. – Вот в этой стопке точно такие же анкеты, которые товарищи из Москвы раздавали вам раньше. Можешь ты найти здесь свою?
Зашелестела бумага.
– Вот, – сказал Стаська.
– Ну, видишь! – обрадовался Неказич. – Здесь ты писал совсем другое, чем сегодня! Может, ты пошутил? А то, видишь ли, твои ответы снижают им положительный процент… Э-э… Ну, диссертации должны быть объективны, понимаешь?.. – Неказич опять замялся, сам, видимо, толком не зная, что такое «снижает» «опросник» Стаськи Миронова. – Ну, вообще говоря, ответы твои, конечно, оригинальны. Пошутил, да?
– Не пошутил, а стал понимать все, как надо, – ответил Стаська.
– То есть переосмыслил все свои взгляды? – уточнил Неказич.
– Да, – сказал Стаська.
– За такой короткий срок?
– А я не знаю: короткий это срок или длинный, – огрызнулся Стаська.
– Ну, посмотри. Какое качество в себе и людях ты считаешь преобладающим? Ты пишешь: «Эгоизм». Значит, ты эгоист?
– Да, – сказал Стаська.
– Еще. Как ты относишься к окружающим? Ты пишешь: «Главным образом с презрением». Чего тебе не хватает для того, чтобы чувствовать себя абсолютно счастливым? Ты пишешь: «Порядочности в людях не хватает».
Милка поняла, что никакого отношения к ее бедам Стаськин вызов не имеет. Анкета была его очередной глупой выходкой. Поправив для видимости на вешалке свое пальто, Милка вышла из раздевалки.
В класс она возвращалась нехотя, и Стаська обогнал ее в коридоре. Милка окликнула его:
– Что это ты написал там?
– Где?
– Я была в раздевалке, – сказала Милка.
– А-а… – Стаська поглядел в сторону. – Написал, как думаю. Врать не умею.
– Что ж ты, презираешь всех?
– Не всех, – возразил Стаська. – Но большинство. Зачем меня спрашивать, как я отношусь к людям? Люди разные, и я к ним – по-разному. Есть хорошие. Но и сволочей много. И я не собираюсь радоваться по этому поводу. Мне жить с ними, хочешь не хочешь…
Милка неприязненно, зябко поежилась. Все-таки негодяй Стаська, действительно эгоист, причем законченный. Как полено…
– О тебе Инга беспокоилась, – ни с того ни с сего сообщила Милка, вспомнив, что Сурина тоже заглядывала в раздевалку, когда она исследовала там свое пальто.
– Знаешь что… Вон идет… – Стаська показал головой за спину, откуда приближался к ним Юрка, будто видел затылком. – А в мои дела не лезь. Я в твои не лезу. – И, круто повернувшись, он зашагал прочь.
Милка могла бы многое понять, но предательства… Откровенного, подлого, не по-мужски мелочного… Почему он так разговаривает?!
С трудом подавила в себе бешеную – до слез – ярость, чтобы не выказать ее Юрке.
– Куда ты ходила?
– Подслушивала. За что Стаську вызвали.
– За что?
– Да. так… Ерунду наплел в «опроснике»…
Юрка смотрел ей в лицо, а она в Юркину грудь за отворотами рубашки, потому что, несмотря на все свое бесстрашие, немножко робела под его взглядом, и еще потому, что ей нравилось глядеть на загорелую Юркину грудь в белых, свободно распахнутых отворотах.
Подняла глаза и сразу чуточку покраснела.
Юрка улыбнулся своей всегдашней осторожной улыбкой, хотел что-то сказать, но в это время мимо них прошла со стороны учительской Клавдия Васильевна. Оба проводили ее глазами.
Немножко пришибленная по обыкновению, Клавдия Васильевна выглядела на этот раз и вовсе разбитой. Какими-то неуверенными, болезненными шажками не прошла, а медленно протащилась к выходу, бесцветная, сгорбленная.
В груди Милки опять без причины возродилась ярость, так что захотелось вдруг разреветься. Почему сегодня все, что бы ни случилось, задевало ее?!
Юрка заметил перемену в Милкином лице.
– Что с тобой?
– Не знаю, Юра!.. – с трудом проговорила она, виновато поморщив лоб и ненадолго поджав губы. – Плохо мне почему-то сегодня. Словно что-то должно случиться! – призналась Милка и сама испугалась своих мыслей.
– Это ты из-за кражи? – Он дотронулся до ее руки.
Милка кивнула.
– Из-за нее тоже. А потом еще из-за чего-то. Сама не знаю. Взвинченная вся!
– Не принимай все так близко! – сказал Юрка. – Тебе-то какое дело до этого?
Она кивнула.
– Да я ничего! Это так… – И, чувствуя, что не может она сейчас разговаривать с ним, глядеть на него, просто совершенно не может, хотя для этого не было никаких оснований, она попросила: – Я пойду, Юра?.. Это так у меня, случайно…
Милка решила больше ни о чем не думать, ни из-за чего не волноваться, но все-таки не выдержала, остановила одиноко проходившего по коридору Ашота.
– Ты кого-нибудь видел вчера во дворе? Кроме меня, – решительно уточнила Милка. – Ну, кроме нас… Видел еще кого-нибудь?
Ашот глянул на пол, потом на Милку. Тряхнул головой.
– Нет.
– Врешь!
– Сказал – нет! – категорически повторил Ашот. И по лицу его было видно, что ничего другого он не скажет.
Милка вздохнула, отходя от него. И на смену недавней взвинченности как-то сразу пришло опустошающее безразличие. Ей стало вдруг все равно – до скуки.
* * *
Заявление Ашота ничего не значило: он был в хороших отношениях со Стаськой, еще когда тот жил во дворе по улице Капранова… Категоричность Ашота почти наверняка доказывала противоположное тому, что он говорил… И некоторое время Милка думала об Ашоте Кулаеве.
Потом, в связи с письмами, припомнила Юркино признание на школьном балу: «Миледи, вы мне очень нравитесь…» Кто и когда прозвал ее Миледи? Раньше, в пору увлечения романами Дюма, это даже нравилось, а затем стало привычным, как собственное имя. Глупо, конечно…
Возвращаясь к тайным перипетиям жизни Клавдии Васильевны, подумала: «А у Неказича есть дети?» И вспомнила: да! Четверо. К тому же молодые. Он женился лет сорока… Начинала вырисовываться личность адресата. Но это не вызвало у нее никаких определенных эмоций.
С трудом дождалась конца занятий.
Еще на уроке Неказича Милке было совершенно безразлично, как там и что думает о ней Стаська Миронов. И отчуждение его, и хамская записка затронули ее лишь постольку-поскольку. Но чем откровеннее он избегал разговора с ней, тем настоятельнее становилась для Милки необходимость в таком разговоре. Капризом это было или естественным желанием прояснить отношения, но идея увидеться со Стаськой один на один сделалась к последнему уроку просто навязчивой. Если не сказать болезненной, как у психопатки какой-нибудь. Милка даже взяла ручку, листок бумаги и хотела отправить ему еще одно послание: «Нам обязательно надо поговорить». Устыдилась. Она трижды пыталась наладить с ним контакт, все три раза начиная, по сути, одинаково: с того, что им надо поговорить, и он трижды недвусмысленно отвергал ее попытки.
С Юркой относительно вечера они условились, так что после занятий Милке без труда удалось избежать с ним встречи. Своей всегдашней попутчице Ляльке Безугловой она сказала: надо забежать в универмаг. Потом испугалась, правда: вдруг Лялька захочет пройтись до универмага? Но та, к счастью, покупать ничего не собиралась.
Милка одной из первых забрала с вешалки свое легкое, в серебристую клеточку пальто и, выйдя из школы, направилась в противоположную от улицы Капранова сторону – туда, где останавливались трамваи на юго-запад, и где, направляясь домой, не мог не появиться Стаська.
Чугунная решетка и яркие рекламные щиты на ней прикрывали Милку со стороны школы, киоск «Союзпечати» и бездействующие автоматы газированной воды – со стороны трамвайной остановки. Ей же из своего убежища было хорошо видно и школу, и остановку.
Унизительно было и стыдно прятаться, как маленькой девчонке, чтобы поймать кого-то на три слова. И кого поймать – Стаську. Который еще вчера – только пожелай она – два часа поджидал бы ее за этим самым киоском. Чувство стыда и униженности возрастало от минуты к минуте, но Милка упрямо не покидала своего убежища, испытывая при этом даже какое-то нездоровое удовлетворение. Пусть она совсем унизится – от этого Милка станет ожесточеннее и будет иметь полное право надавать Стаське пощечин, если не в прямом смысле, то хоть в переносном.
А Стаськи, как нарочно, все не было. Милка проводила глазами своих одноклассников, меньшая часть которых прошла мимо нее в сторону трамвайной остановки, остальные, среди которых был Юрка, – по направлению к улице Капранова.
Потом разошлась почти вся первая смена. Последними из школьной двери вывалили ярким рассыпающимся клубком семиклассники из «в», задержанные по неизвестной причине. Стаська появился сразу вслед за ними, когда Милка уже и злость растеряла, и устала от ожидания, так что, застигнутая врасплох, не вдруг могла припомнить, что хотела сказать ему в первую очередь.
Но Стаська, к некоторому облегчению и к досаде ее, не собирался ехать в юго-запад, а следом за большой группой семиклассников зашагал по направлению улицы Капранова.
Милке ничего не оставалось, как догонять его. С трудом высвободив свой портфель из чугунных тисков ограды, отчего на желтой коже появились коричневые и черные полосы, она вернула себе необходимую для разговора злость и, глядя в удаляющуюся Стаськину спину, зачастила по тротуару короткими, но решительными шагами.
Не разобрала, что крикнул Стаська в сторону семиклассников. Машинально остановилась, когда он остановился, и видела, как, отделяясь от группы своих дружков, подбежал к нему Герка Потанюк, загадочный – то ли круглый идиот, то ли очень хитрый – мальчишка.
Разговора их Милка не могла слышать да и не хотела. Наконец Потанюк возмущенно махнул рукой и побежал догонять товарищей. Стаська хотел удержать его, потом сердито окликнул:
– Герка!
Тот приостановился.
– Чего ты?! Сколько я тебе… – Герка не договорил и, придерживая рукой дерматиновую сумку на боку, помчал дальше.
Стаська некоторое время глядел в землю перед собой, а когда Милка хотела позвать его, вскинул голову и почти побежал следом за Геркой.
Милка бежать на глазах у прохожих не собиралась, но в досаде обругала Стаську и, перекинув горемычный портфель из руки в руку, поспешила в том же направлении. От угла она увидела, что переулок Героев стратосферы пуст, а на улице Капранова настигла всех семиклассников со своего и соседних дворов, но ни Стаськи, ни Герки Потанюка среди них не было. Ото всей этой гонки лишь усилилось ощущение, что Стаська – жалкий предатель.
Злая и разочарованная, сразу убавила шаг и оглядела себя. После утреннего дождичка тротуары давно просохли, но кое-где еще сохранились лужицы, и в спешке Милка забрызгала сзади все чулки. Такой стыдобы она еще не замечала за собой, поэтому, оглянувшись на прохожих, торопливо перешла с кромки тротуара на противоположную его бровку, что вдоль домов, как будто грязевые кляксы на ногах станут от этого менее заметны.
* * *
Утром весь сегодняшний день представлялся иначе. Мать впервые закатила Милке такие пышные именины по той причине, что это был ее последний школьный праздник. А для Милки вчерашний вечер по многим причинам становился особенным, переломным в жизни… И утром, подкалывая кружевные манжеты к рукавам платья беж, она, примостившись на диване, босая, еще не причесанная, в легкой ночной рубашке, испытывала преступное томление и каким-то внутренним чутьем улавливала предательскую дрожь в мышцах тела от радостного нетерпения поскорей войти в класс, увидеть девчонок, Юрку, чтобы тем самым как бы вернуться во вчерашнее…
Теперь, войдя в квартиру, Милка бросила портфель на тумбочку и минуту-другую стояла недвижная перед зеркалом, что гвоздями когда-то приколачивал в коридоре Стаська Миронов. Потом сняла пальто, сбросила туфли и по мягкой ворсистой дорожке все так же бессознательно прошла в кухню.
Пока мать бывала на работе, Милка никогда ничего не готовила себе.
Вот и на этот раз: открыла холодильник, достала кусочек желтоватого, прихваченного временем сыра и, не отходя от холодильника, меланхолично прожевала его без хлеба.
Квартира у них была хорошая: в две изолированные комнаты, с просторным коридором, кухней и высокими, не теперешними потолками. Комната поменьше принадлежала матери. Здесь была ее кровать, шкафы с книгами и небольшое, под красное дерево бюро. Комната Милки примерно в два раза больше. Но зато она была одновременно и гостиной, поскольку здесь кроме диван-кровати, платяного шкафа и небольшого письменного стола с книжной полкой над ним размещались и круглый гостиный стол, и журнальный с торшером, и радиола, и телевизор… Хотя, если честно признаться, и радиолой, и телевизором пользовалась одна Милка. Да и гости бывали, как правило, только у нее.
Отец ушел от них четырнадцать лет назад и жил теперь где-то далеко. Какое звание он имел в те давние времена, Милка не удосужилась поинтересоваться, а теперь он носил погоны полковника. Раз в год, когда он по традиции навещал их, Милка видела его. Но странно, что ничего не испытывала при этом. Замечала его пристальный взгляд и догадывалась, что он хочет уловить в ее лице неожиданную радость от встречи с ним или, на худой конец, затаенную обиду. А она совершенно ничего не испытывала. И это нервировало его. Он спрашивал что-нибудь вроде: «Как ты живешь?» – «Хорошо!» – искренне отвечала Милка. «Тебя не обижает никто?..» – «А кто меня может обидеть?!» – недоумевала Милка.
Мать тоже хотела, чтобы Милка не оставалась безучастной к приездам отца. И хоть сама встречала его мирно, спокойно – от Милки ждала хотя бы капельку неприязни. Но Милка ничего не испытывала при виде своего родителя и не пыталась ничего изобразить. Это нервировало мать.
Милка сама удивлялась, отчего у нее все так. Но мать она любила, мать была, по сути, главной, первостепенной связью между нею и окружающим миром, без матери этот мир, наверное, перестал бы существовать: мир настоящего и мир прошлого – тот, что брезжит в воспоминаниях. Мать была родной – это Милка не просто знала, а чувствовала самым настоящим образом. Тогда как отец был и оставался чужим. Совершенно чужим, но ОБЯЗАННЫМ по неважным для Милки причинам посылать ей регулярно, раз в месяц, деньги. Вот и все.
Конечно, Милка была немножко легкомысленной. А потом, ей очень везло в жизни: на мать, на друзей, на глаза вот повезло, на волосы, на фигуру… Ей было неведомо чувство ущербности. Ни в чем. А потому и отсутствие отца казалось естественным, даже, говоря откровенно, желательным. Иногда она представляла себе, что он постоянно в доме: неторопливый, длинный, с припухлыми мешками у глаз… Она никогда не видела его в пижаме, но дома обязательно представляла в полосатой пижаме и теплых домашних тапочках. Он ходит шаркающей походкой из комнаты в комнату и, по своему родительскому естеству, интересуется: «Куда ходила, Мила?.. С кем была?.. О чем задумалась?..» А какое ему дело до всего этого? Матери, допустим, Милка рассказывала – почти все. Но то ведь мать! – существо женского пола, такое же, как она, Милка. И года два-три назад пугало только, что мать возьмет да и приведет себе кого-нибудь… В мужья. И хотя Милка никогда не говорила матери о страхах своих, увидев ее на улице с мужчиной, надолго мрачнела вся. А с некоторых пор, точнее, с весны прошлого года, и это уже не пугало ее. О подобной вероятности Милка думала теперь даже с некоторым любопытством: ведь у нее, у Милки, будет – начиналась уже – своя, личная жизнь, почему не может произойти то же самое с матерью? Это не изменило бы Милкиной верности ей. И в анкете на вопрос: «Кто из окружающих пользуется твоим наибольшим уважением?» – она опять записала бы «мама». Ведь мать бы тоже наверняка не переменилась.
Думать обо всем этом было страшновато и в то же время необъяснимо приятно.
Себя и мать Милка представляла в некотором роде сиамскими близнецами. Когда заезжий художник сказал, что у нее акварельные глаза, она заметила, что у матери точно такие же – цвета синей акварели. И когда они в тот вечер случайно уставились друг на друга, Милка вдруг испытала странное ощущение, будто пространство между ними исчезло и взгляды смешались, как смешиваются одного цвета краски. Так что уже нельзя было сказать, где начинается она, Милка, а где – ее мать. Та, наверное, испытала что-то похожее. Спросила: «Чего ты?» Милка рассказала ей о своем открытии. «Ты немножко чокнутая. Ты знаешь это?» – спросила мать. А Милка усадила ее рядом с собой и стала целовать: в лицо, грудь, шею. «Это не я тебя целую, а это мы целуем вас!» – «Ну и дураки же мы!» – изумилась мать, с трудом вырываясь от нее. Но с тех пор Милка уже знала, что достаточно ей пристально посмотреть на мать, как бы та ни избегала ее взгляда, всеми силами поворачиваясь спиной к ней, обязательно поймается в эту ловушку. Запричитает: «Милка! Перестань, дурочка!» Но взгляды их уже смешаются, пространство между ними исчезнет. И обе хохочут потом до слез, а оторваться друг от друга не могут. Пока не сойдутся, и мать начнет колотить Милку, а та – целовать ее.
Все так легко и легкомысленно было раньше… А сейчас Милка, дожевывая черствый сыр, подумала ни с того ни с сего: ведь у отца с матерью было не только понятное ей настоящее – было прошлое! И было начало… Какое? Как у нее с Юркой?
Отодвигая эту шальную мысль, встряхнула головой.
Есть больше не хотелось. Только для порядка, чтобы самой себе доказать свою хозяйственность, оглядела кухню: все было прибрано и перемыто матерью. Удовлетворенная, подумала, во что бы ей переодеться. Но быстренько прошагала в ванную, смоченным клочком ваты замыла грязевые кляксы на чулках, опять надела туфли и, простоволосая, без пальто, заспешила через двор к подъезду Анатолия Степановича, директора школы.
На площадке первого этажа, под лестницей, прижавшись к стене, стояла Оля. Рядом, у ее ног, светлым пятном проглядывал такой же, как у Милки, портфель из желтой, в тиснениях кожи. Милка прошла было мимо нее. Но потом шагнула назад.
В лице Оли застыл испуг, а темные круги у глаз при сумеречном освещении сделались отчетливее, резче, и это прибавило ей еще несколько лет взрослости.
– Ты почему здесь?.. – растерянно спросила Милка.
Оля шевельнула уголками сомкнутых губ и, прежде чем ответить, как это делал отец, слегка приподняла голову:
– У нас милиция…
Милка вздрогнула, прикрывая кончиками пальцев рот, и довольно нелепо спросила:
– Откуда?..
Оля помедлила, нервно шелестнув болоньей.
– Папа говорил – не вызывать, а мама вызвала…
– Ну, хорошо, – сказала Милка, – пусть милиция делает, что им надо… А при чем здесь ты?
– Не знаю… – Оля шелестнула болоньей в перекрещенных руках. – Папа очень не хотел, чтобы заявляли в милицию…
– Чепуха! – решительно, даже чуточку зло оборвала ее Милка и подхватила из-под ног у Оли портфель. – Идем домой! Кто-то там что-то вышаривает, кто-то что-то ищет – ни тебе, ни мне до этого дела нет! Поняла?.. Ни тебе, ни мне! – зачем-то уточнила она.
Оля неожиданно всхлипнула, утирая глаза тыльной стороной ладошки, и вся взрослость ее как испарилась. Перед Милкой была маленькая, очень несчастная девочка, которую она должна была утешить.
– Идем! – повторила Милка. – Милиция так милиция… Нам чихать на нее! – бодро добавила она, хотя у самой этой бодрости не было и в помине.
Дверь квартиры оказалась не запертой. И Милка вошла первой.
У Анатолия Степановича было четыре комнаты. Две, что налево, располагались, как у Милки. Одну из них занимали мальчишки, Никитка и Андрейка (кстати, где они?), в другой жили родители. Маленькая правая комнатка принадлежала Оле, маленькую, что была прямо по коридору, занимал под свою библиотеку Анатолий Степанович. Гостиной у них не было: каждый принимал гостей у себя.
За открытой дверью библиотеки Милка сразу увидела Елену Тихоновну, мать Оли, и двух посторонних, один из которых был в штатском, другой в форме милиционера: Штатский, сидя за секретером, что-то писал, милиционер оглядывался по сторонам, Елена Тихоновна, скрестив руки на груди, наблюдала, что он пишет ручкой Анатолия Степановича на вощеной бумаге из его запасов. Когда скрипнула дверь, она бросила взгляд на девчонок и продолжила свои наблюдения.








