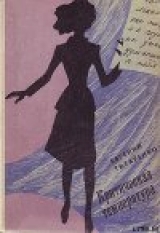
Текст книги "Критическая температура"
Автор книги: Евгений Титаренко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Прошедшей ночью, когда Милкины друзья пили за ее полных семнадцать, а может быть, когда танцевали летку-енку, некто, пользуясь темнотой, забрался через форточку в кабинет директора школы, чем-то вскрыл запертый на замок правый ящик стола и унес голубую палехскую шкатулку, в которой было триста пятьдесят рублей, снятых накануне с книжки для того, чтобы заказать Оле новое платье-макси, в связи с тем, что на майские праздники Оле исполнялось шестнадцать лет и предстояло получать паспорт. Преступник не искал, не рылся по ящикам, следовательно, знал о существовании голубой шкатулки в столе Анатолия Степановича, который держал в ней свои карманные деньги и открывал всякий раз, когда Андрейке, или Никитке, или Оле позарез требовался наличный капитал. Все это безошибочно указывало, что в школу забрался не чужой, случайный человек, а один из тех, кто не раз бывал в директорском кабинете, то есть вероятнее всего, кто-то из двенадцатой средней…
Именно поэтому, очевидно, Анатолий Степанович не побежал в милицию и велел молчать домашним. Он был очень хороший, простой и добрый, Анатолий Степанович… Только не забывал бы он в школе этих денег!
Милке хотелось поговорить с Олей. Кстати, Радька Зимин, которого она видела вчера во дворе, учился в том же девятом, что и Оля.
Гвалт на втором этаже из-за обосновавшихся здесь первоклашек стоял еще больший. Милка заглянула в открытую дверь девятого «б», метнулась по коридору и чуть не налетела на Олю, которая, укрывшись за отошедшей под ветром гардиной, о чем-то разговаривала со Стаськой.
Милка невольно отшатнулась. Но вместо того чтобы уйти, прижалась к окну и услышала последние реплики их беседы.
– Не знаю… Откуда я что могу, – проговорил Стаська.
– Ты можешь! – убежденно и немножко умоляюще сказала Оля. – Ты все можешь, Стасик! – И вдруг добавила: – Я дружить с тобой буду…
– Не знаю… – угрюмо и, как показалось Милке, виновато, под ноги себе повторил Стаська.
– А ты не хочешь… со мной дружить? – запнувшись, тихонько переспросила Оля.
Милка и не подозревала, что у Стаськи есть еще одна поклонница.
– Хочу… – выдавил он, помедлив чуть больше, чем следовало.
– А почему ты сегодня… странный какой-то? – спросила Оля, опять запнувшись на середине фразы.
– Так… – проговорил Стаська. И сразу же заторопился: – Я, Оля, пойду, ладно? Мне тут надо… Потом еще поговорим. Ну, вечером… Ладно?
Милка скользнула вдоль подоконника под прикрытием второй гардины. Но Стаська прошагал мимо, низко опустив голову, не заметил ее.
Вокруг глаз у Оли темные круги. Плакала?.. Милке она удивилась, но не обрадовалась – уж это Милка разглядела безошибочно. Теперь она знала, почему Оля не захотела присутствовать на дне ее рождения.
– Здравствуй, – сказала Милка.
Оля кивнула.
– Здравствуй…
– Во сколько ты вчера домой вернулась? – спросила Милка.
Оля подозрительно оглядела ее.
– А ты уже… знаешь? – И опять сделала паузу в середине фразы.
– Да, – сказала Милка.
– Папа не велел никому говорить…
Ну, ясно – Милка так и подумала.
– Об этом, кажется, уже вся школа знает, – довольно резко заметила она. И неожиданно для себя вздохнула.
– Откуда?..
Милка пожала плечами в ответ на ее вопрос и, будто между прочим, поинтересовалась:
– Ты Радьку вчера видела?
– Да. – Оля слегка наклонила голову. – Мы вместе в кино ходили.
– В кино?.. – машинально переспросила Милка.
Оля утвердительно кивнула.
– Да. На десять часов, на последний сеанс. Он же всегда ко мне с билетами таскается… А что?
– Да так, ничего… – растерянно проговорила Милка.
– Ты хотела что-нибудь сказать про Радьку? Он меня не интересует.
– Да нет, – повторила Милка, – это я просто так, к слову… – И она заспешила, как до этого Стаська. – Пойду, наверно, звонок скоро… Я к вам забегу сегодня!
Оля не ответила.
Все было очень странно. С момента прихода в школу Милка думала о тех, кого видела ночью во дворе, всеми силами стараясь убедить себя, что какое-то отношение к происшествию в школе имеют Радька или Ашот… Потому заговорила с Ашотом, потому разыскивала Олю… И лишь теперь поняла, что с самого начала думала не о Радьке, не об Ашоте Кулаеве, а о третьем, кого видела она во дворе, хотя подозревать его не имела права. Но ведь именно по этой причине, потому что сразу же ни с того ни с сего она подумала утром о нем, о Стаське, она и старалась подозревать кого-нибудь другого…
Только зачем ему понадобилось это? Как ужасно и глупо!
Тоскливо-тоскливо сделалось теперь на душе у Милки. Она хотела даже остаться до звонка на втором этаже, чтобы не повстречаться в таком пакостном настроении с Юркой.
Но торчать среди колготной мелкоты было еще тоскливей. Милка подошла к лестнице и в сердцах шлепнула пониже спины какую-то первоклашку, когда та, сверкнув желтыми трусиками, попыталась взобраться на перила.
* * *
Юрка поджидал ее у входа, чтобы выяснить относительно кино: «Пойдем?..» Но, понимая, что сегодня ей может оказаться не до кино, Милка виновато пожала плечами: «Не знаю!..»
Стаська, роясь в тетрадях, не поглядел в ее сторону.
Оживление в классе Милка заметила сразу, но, только усаживаясь за парту, догадалась о причине его, когда Лялька Безуглова передвинула от себя на ее половину парты несколько густо исписанных тетрадных листиков.
Это было письмо, аккуратно, не без усердия переписанное мелкими печатными буквами. Оно сопровождалось предупреждением: «Автор этих посланий всем известен, имя его будет сообщено позже».
Почему во множественном числе: «этих посланий»? – подумала Милка. Перед ней было всего одно письмо. Значит, где-то есть второе, а может, и третье?.. Глянула на Ляльку: откуда? Та недоумевающе хмыкнула: нашли в классе, никто не знает – откуда, чье…
В груди Милки шевельнулось угрызение совести: какое у нее право лезть в чужую тайну? Но, успокаивая себя, подумала, что письмо это может оказаться всего-навсего хохмой. Тем более, что сама, вопреки всем сомнениям, уже читала. И не оторвалась до последней строки.
«Мой добрый, мой честный, мой самый хороший! – писала неизвестная. – Вчера только выторговала на это право – говорить с тобой в новогоднюю ночь, а теперь уже сижу у стола, напрочь убрав тетради, книги, и мысли путаются, вдруг становясь не теми, не самыми главными, не настолько важными, как представлялось недавно. Бог мой! Так, наверное, всегда бывает при коротких встречах, когда их слишком долго ждешь. Но там хоть есть еще право взгляда, жеста, прикосновения. А я могу только говорить. Впрочем, нет, лгу, ужасно лгу. Потому что вижу тебя и слышу – ты только, пожалуйста, не скупись на слова! Ты умнее меня и сдержанней, а я вот растерялась перед этим чистым листком. Я думала, исповедуюсь, расскажу тебе про каждый свой шаг, про каждое мимолетное ощущение, а теперь вижу, как трудно это, и хочется плакать. Люблю я тебя, родной мой! Люблю в эту сказочную новогоднюю ночь! И знаю, что весь год у меня теперь будет счастливый!
Я вспоминаю наше знакомство с тобой, это самое большое во мне: чтобы добраться до остальных воспоминаний, надо сначала вынуть из меня это и открыть его. Ты стоял такой недоступный и грозный. А я сразу бесповоротно оробела. И была только одна шальная мысль: «Все!.. Все!..» А что все? Наверное, все – пропала. Тогда я, правда, не размышляла над значением этого. Я приклеилась подошвами к земле и ужаснулась вдруг, что не надела своего лучшего платья и что каблук на правой туфле немножко сбит! А ты, как назло, сверху вниз на меня: «Вот вы какая…» Я взяла и спрятала правую ногу за левую. Не заметил каблука?
А потом, помнишь, в ботаническом… Как удивительно тихо было. Листья падали на воду. И легкая-легкая зыбь разбегалась от них. А люди, наверное, все-таки хорошие, если они тогда оставили нас одних и не потревожили ни разу. Ты говорил, а я слушала. Ты молчал, а я опять слушала. Потому что ты уже вселился в меня и лепил человека из глупой-глупой девчонки. Правда, тогда я вынесла лишь один вывод, что ты ужасно добрый. И глупая, а все же поняла, как страшно тяжело жить тебе с этой неусыпающей добротой. Ты думаешь, что ты первым поцеловал меня? Это я тебя поцеловала. Я подстерегла мгновение, потому что подстерегала его. Если сейчас закрыть глаза – желтые листочки все падают на воду. Медленно-медленно, чтобы не вспугнуть нас…
А еще: когда я заболела и не могла прийти в школу – ты не выдержал, прибежал. Помнишь? С такими испуганными, тоскующими глазами! Какая же счастливая я была тогда! Как благодарила бога за то, что создал он болезни.
Ну, вот. Какая я нерасчетливая, какая расточительная! Ведь мне дана только одна ночь, только для одного письма, и я должна бы рассказать тебе о том, что ты не знаешь, не видел! А я повторяю известное тебе… Я, право, не всегда могу сказать, что из прошлого надуманно мной, а что было. По ночам я чувствую тебя рядом. Я живу все время с тобой: разговариваю, советуюсь. Я твоя жена. Ты мой муж. Что бы там ни думали и что бы ни говорили при этом люди. И, представь себе, в ящике моего стола лежит тоненькое обручальное колечко, которого я, правда, не надеваю…
Прости, родной, я все-таки плачу. Плачу. Но ты не расстраивайся – это от счастья.
Пишу, сама не знаю, о чем. Пишу сумбурно, строку за строкой. А при этом все больше убеждаюсь, что и сказать-то имею всего одно: что люблю тебя, что я твоя, что…
Целую тебя! Ладно?
С новым годом! С новым счастьем! Это я уже шепотом добавляю, не слишком уверенная, что желания сбываются».
Подписи в конце письма не было. Лялька дождалась, когда Милка пробежит глазами последнюю строку, и, забрав у нее листки, передала их на соседнюю парту.
…Секунду-другую Милка не шевелилась, будто оцепенев. Оказалось, нелегко поверить, что кроме тебя есть на земле некто, способный чувствовать так же глубоко, а в иных отношениях даже сильнее и глубже, чем ты. Наконец, этот загадочный некто способен не только чувствовать, но и рассказать о своих чувствах, вскрыв, как рану, облитое кровью сердце… Чья-то досужая рука подчеркнула в письме: «по ночам я чувствую тебя рядом».
Милка покраснела вдруг, поймав себя на том, что из охвативших ее эмоций всего определенней было жгучее любопытство: кто мог написать это?! Кому? Исподволь медленно оглядела весь класс. Но и другие девчонки с тем же настороженным любопытством поглядывали друг на друга. Милка решила, что здесь автора письма, скорее всего, нет. А если он из другого класса… Кто же? Она стала перебирать в памяти девчонок из десятого «б», потом из девятых. Но никого, способного так откровенно, без недомолвок обнажиться перед другим человеком, не могла найти. А ведь они существовали: и эта девчонка, плачущая в новогоднюю ночь, и этот загадочный парень, из-за которого текли слезы. Человек, надумавший пустить это письмо по классу, вряд ли солгал, заверяя, что автор его всем известен. Если это сделал тот парень, кому письмо адресовалось, – ужасно подло с его стороны.
Листки таинственного послания порхали по рядам из рук в руки, и на лицах десятиклассников проскальзывали улыбки.
Было заметно, что пока Милка ходила на второй этаж, все уже ознакомились с письмом и перечитывали теперь лишь отдельные, наиболее интимные строки.
– Ничего себе? – полувопросительно, полуутверждающе проговорила Лялька. Зеленые глаза ее скользнули при этом, и что она думает, угадать было нельзя.
– Откуда оно? – переспросила Милка. И «старомодная» Лялька повторила, что не знает: кто-то нашел на уроке Неказича.
Милка подумала, что не только нашел, но и потрудился переписать. На минуту почувствовала себя в какой-то мере соучастницей этой пока странной, но уже заведомо нечистоплотной истории. И опять успокоила сама себя: ведь имя автора не было раскрыто… А если не обращать внимания на отдельные подробности, автору послания можно бы даже гордиться, что он умеет так говорить, так чувствовать.
Письмо родилось в новогоднюю ночь. Следовательно, все упомянутые в нем события имеют, по крайней мере, четырех-, пятимесячную давность. Милка хотела вспомнить, кто из девчонок болел в прошлом году. Но в октябре, если не обманывают газеты, по всему земному шару свирепствовал вирусный грипп, и в какой-то степени переболела вся школа. Четыре дня Милка сама не являлась на занятия… Подумав об этом, она заметила, что мальчишки поглядывают в ее сторону несколько внимательнее, пожалуй, чем на других девчонок. И порадовалась, что смущение ее к этому времени уже прошло.

А когда взглянула на Юрку, испытала странное чувство, будто бы он и она стали ближе друг другу после этого загадочного послания, будто главное из того, что сказано в нем, сказано ею. Для Юрки. И показалось: он думает о том же.
Равнодушнее остальных (во всяком случае внешне) проглядел анонимное послание Стаська. Передвинул его на половину Левки Скосырева. А тот взмолился:
– Ну, кто писал?! Не тяните душу!
Костлявый, рыжий, с лицом, усыпанным конопушками, Левка Скосырев на протяжении всех десяти лет выступал в качестве шута. И реплики его, не всегда остроумные, а иногда просто глупые, автоматически вызывали смех в классе. На этот раз, однако, все как по команде переглянулись, но Левкин вопрос остался без ответа и смеха не вызвал.
– Может, это мне адресовано… А я сижу как дундук, – разочарованно проворчал Скосырев.
По девчоночьим партам шелестнул натянутый хохоток.
– Ты хоть представляешь, какая она?.. – шепотом спросила Лялька, и зеленые глаза ее опять ускользнули в сторону.
– Обыкновенная, – нарочито небрежным тоном ответила Милка. Но и сама поняла, что ответ ее прозвучал фальшиво. – Не знаю! – с досадой добавила она. А подошедшая к ним Инга Сурина неожиданно дрогнувшим голосом заметила:
– А я представляю себе, какая… – И, виновато дернув себя за косу, объяснила: – Хорошая, не похожая на всех…
Нет, Милка не могла представить себе автора письма, хотя пыталась. Она могла бы сказать, что неизвестная в ее представлении – блондинка, а выдумать прическу ей не могла. Как не могла и наделить синими акварельными глазами – такого цвета, сказал один бородатый художник, ее, Милкины, глаза… Наверное, у автора письма были не синие. А темные, как у Оли, дочери Анатолия Степановича, или кошачьи – Лялькины…
Звонка почему-то все не было. В раздумьях о таинственном послании Милка на время забыла о вчерашнем событии. Ни к селу ни к городу прорвало вдруг Сашку Должикова, всегда отутюженного, прилизанного, с пробором в волосах. Он умудрился за десять лет не получить ни одной тройки и не иметь ни одного друга, хотя активничал во всякого рода начинаниях больше, чем кто-нибудь.
– Любовь – это, конечно, великая движущая сила, – вдруг резюмировал Сашка. – А кто же вчера деньги у Анатолия Степановича накрыл?
Будто ветром подуло в классе. Милка напряглась, хрустнув переплетенными пальцами. Она знала, что, достаточно кому-нибудь одному сказать о вчерашней краже вслух, тема эта будет принята на всеобщее обсуждение.
– Кто у Миледи на дне рождения был? Почему не сторожили? – высказался рыжий Левка Скосырев.
Сразу побледнев, Милка вскочила из-за парты.
– Что ты хочешь сказать этим?
– Я говорю: надо было сторожить… – не слишком уверенно повторил Скосырев.
Ответить Милка не успела: вмешался Ашот Кулаев:
– Скос… – проговорил он, не оглядываясь на Левку. – Ты знаешь, что Миледи моя соседка. А может, она мне даже больше, чем соседка. Плюху за нее я могу очень просто отвесить…
И он подмигнул благодарной Милке. Нахал, конечно. Однако парень действительно неплохой. Наверняка видел, как они целовались… И хорошо, что Юрка сейчас не вмешался.
Уже не слушая, что там такое бубнит Скосырев, Милка перехватила мрачный взгляд Стаськи Миронова. Она не имела оснований подозревать его. И почти устыдилась теперь своих подозрений. Но почему у Стаськи с утра такой подавленный, отсутствующий вид? О чем он думает?
Сашка Должиков отвлек внимание класса от анонимного письма – Сашка и возвратился к нему:
– Я считаю, товарищи, – он встряхнул перед собой листками послания, держа их бережно, за уголок, – это грубый, весьма примитивный розыгрыш! В июне и августе за такое сочинение будут ставить двойки!
– А ты попробуй сочини так! – вступилась за неизвестную Инга Сурина.
– Ха! – опять оживился Левка. – Я слышал, будет свободная тема: «Мой драгоценный!» Кто-то уже тренируется! А насчет денег, – внезапно добавил он, – Елена Тихоновна не особенно волнуется. Ей шкатулку палехскую жалко!
Звонок и вошедшая одновременно со звонком химичка вовремя прервали эту дискуссию.
* * *
До третьей четверти химию вела у десятиклассников Надежда Сергеевна, чье имя Лялька Безуглова написала в анкете, отвечая на вопрос, кого из окружающих она уважает. Надежда, как фамильярно называли ее между собой ученики, внешне сама походила скорее на десятиклассницу, чем на преподавателя: тоненькая, с яркими, улыбчивыми глазами, всегда готовая поддержать веселую шутку, интересный разговор. И два десятых откровенно соперничали между собой за право считать ее «своей». Так, если, например, десятый «б» организовывал коллективный поход в кино и Надежда шла с ними, – десятый «а» лихорадило до тех пор, пока не удавалось заполучить химичку на просмотр какого-нибудь спектакля в драмтеатре или на двухсерийный детектив. Девчонки делились с ней своими секретами, мальчишки соперничали в рыцарстве. Коллективные вылазки двух десятых сразу утратили популярность, едва Надежда перешла в школу юго-западного района.
Ее в какой-то степени можно было понять: она жила рядом со своей новой школой. А вот зачем пришла на ее место Клавдия Васильевна, понять было трудно. Жила она в том же юго-западе, рядом с Надеждой Сергеевной. И факт этот сам по себе уже ставил под сомнение таланты Клавдии Васильевны: не пришлась ко двору в микрорайоне – уцепилась за двенадцатую школу. А если добавить, что Клавдия Васильевна была неразговорчивой, костлявенькой старушкой, нетрудно догадаться, как восприняли ее десятиклассники.
Крохотными шажками Клавдия Васильевна не прошла, а проскользнула к столу и, положив на него классный журнал, вместо того чтобы поздороваться, долго, недоумевающе разглядывала книгу, которую принесла с собой. «Стивен Ликок», – прочитал за это время весь класс. В школе с первых дней узнали страсть новой химички: она обходила днем все книжные магазины, роясь в букинистических отделах, и хоть что-нибудь, да приобретала.
– Знаете, о чем я подумала, ребята… – тихонечко, будто для самой себя, проговорила она. Потом спохватилась: – Садитесь! – И, глядя на сочинения Ликока, завершила: – Я сейчас подумала вдруг, что этой книжки я уже не успею прочитать…
Она подняла глаза на класс, и в лице ее застыло непонятное удивление.
Послышался чей-то несдержанный смешок. И хотя Клавдия Васильевна высказала далеко не шутейную мысль, Милке ее слова тоже показались забавными.
Кто-то в свое время сострил, что Клавдия Васильевна – отличная пара историку Неказичу. Но Неказича любили за добродушие, непосредственность. А Клавдия Васильевна сразу и безоговорочно породила неприязнь к себе, словно бы из-за тайных происков двенадцатая школа лишилась своей единственной, незабвенной Надежды.
Клавдия Васильевна вызвала к доске Юрку. Милка невольно сжалась, как будто вызвали их обоих. Юрка прошагал мимо и взял в руки мел с тем нерешительным видом, какой появляется у него на ринге. А Милку не покидало впечатление, что защищать ему предстоит не только свое, но и ее, Милкино, достоинство, ее честь. Правда, сомневаться в Юрке не приходилось. Юрка не мог подвести ее, и когда из-под мелка заструились длинные, точные формулы, она испытала гордость.
Совершенно неожиданно Милка подумала о бывшей химичке Надежде Сергеевне, о том, что та могла быть неравнодушной к Юрке! Ведь только из-за нее он не стал отличником в первой четверти. При одинаковом количестве пятерок и четверок та вывела ему четыре. И спрашивала всегда с пристрастием, чаще других…
Милку аж в холод бросило от этих невероятных предположений. Ну, разумеется! Голубые глаза Надежды всегда искрились затаенным весельем, а когда она смотрела на – Юрку, их словно бы ледком покрывало… Впервые отчетливо подумала она, что Надежда Сергеевна, – такой же, как все, человек. Женщина. Вдобавок молодая, интересная. И незамужняя ко всему!
Однажды она почему-то слишком долго раздумывала, что поставить Стаське Миронову. Потом неуверенно вывела тройку.
– Мне не нравится ваш ответ… – Она всех, даже пятиклассников, называла на «вы». – Мне вообще не нравится, как вы учитесь. И живете, наверное. Почему вы все делаете вполсилы? Человек должен работать на пределе мощности.
Разговор этот происходил уже на перемене, и, шутки ради, Юрка спросил:
– А я, Надежда Сергеевна, в полную мощность работаю?
Она зачем-то переспросила:
– Вы?.. Пожалуй, да. Но вы слишком распыляетесь, – глядя на него теми строгими, подернутыми ледком глазами, заметила она, словно хотела сказать при этом больше, чем заключалось в словах. И добавила после паузы: – Во всем. Надо быть требовательнее, суровей к самому себе.
На вечере, во время зимних каникул, Надежда была вместе с Клавдией Васильевной. Должно быть, представляла ей будущих учеников. И один вальс Юрка танцевал с учительницей – вальсировать Надежда Сергеевна умела, ничего не скажешь. Но потом Юрка приглашал Олю… А записку, когда затеяли играть в веселого почтальона, прислал, несмотря ни на что, Милке. Она тогда не придала ей особого значения. «Миледи! – извещал Юрка. – Вы очень нравитесь мне. Пустите в сердце, если найдется место». Она даже не ответила ему, ведать не ведая, что, всего каких-нибудь три месяца спустя он войдет в ее сердце уже без спроса. А тогда… Что ж она еще заметила на том вечере? Надежда Сергеевна подозвала Олю и, кажется, знакомила ее с Клавдией Васильевной…
«Чепуха какая-то!» – с внутренним содроганием подумала Милка.
Отходя от доски, Юрка снова едва заметно улыбнулся ей. А Милка покраснела. Раньше вогнать ее в краску было почти невозможно. Теперь она вспыхивала румянцем по поводу и без повода.
Ото всех этих раздумий и от химии также Милку отвлекло событие, которое оказалось внезапным даже для искушенных десятиклассников.
Инга Сурина наткнулась в своей парте между учебниками по истории СССР и «Органической химии» на второе, переписанное аккуратными печатными буквами письмо.
Белая как полотно Инга некоторое время держала его на расстоянии перед собой, разглядывая, как разглядывают жабу…
А спустя пять или десять минут тетрадные листки с новым посланием уже ходили по классу.
* * *
«Мой славный, мой единственный!» – опять ласково начинала неизвестная.
И уже сама первая фраза настораживала: «Вот и еще год позади…» А дальнейшее переворачивало все досужие представления об авторе писем:
«Много это или мало? Триста шестьдесят пять дней… Иногда, с предельной ясностью осознав всю быстротечность нашего существования, я думаю, какое счастье, что есть у меня ты! Мысль о тебе, о том, что ты живешь, дышишь, думаешь, наполняет содержанием все триста шестьдесят пять суток, каждые двадцать четыре часа в них. И мое восприятие окружающего, вдруг четкое, емкое, приобретает гравюрную завершенность. Но иногда, в порядке самоанализа, а может, из-за приступов незваной тоски, я представляю, что тебя нет у меня, и в страхе вижу себя неприкаянной, потерянной… Как сразу все становится иным!
Вдруг теряют смысл случайные обретения, вдруг осознаешь действительную цену утрат… Я вскакиваю как угорелая и через весь город, к окнам твоим… Сама потом смеюсь над собой, и легко-легко вдруг становится. Приятно, знаешь, убедиться лишний раз, что ты такая законченная, такая беспросветная дурочка.
Я там часто бываю, возле тебя. Особенно летом. Потому что у меня их много, тем для раздумья… Но, пожалуй, всего важнее для меня – понять: корыстно или бескорыстно люблю я твоих детей? Это очень важно. А я не знаю. И сильно мучаюсь от этого… Я боюсь, что в наши отношения, в мои чувства к тебе ворвется что-нибудь нечистое, неискреннее, заведомо фальшивое. И мне становится больно… В августе я видела на бульваре твоего карапешку. Он стоял против тележки с мороженым. Взрослые люди брали и ели такие большие, круглые порции в шоколаде. А он облизнет губы – они у него опять пересохнут, он снова облизнет. Мне так хотелось подойти угостить его! Не решилась…
Жизнь по-своему и справедлива и несправедлива к людям. Ты знаешь: абсолютно счастливые, полностью удовлетворенные, преуспевающие во всех отношениях люди живут один раз, всего одну жизнь. А чудаки, как я, да и как ты – тоже в значительной степени одинокие, проживают, по сути, множество – и трудных, и радостных – жизней. Ведь наше прошлое складывается во многом из наших прошлых эмоций. Отсюда: ранняя седина, ранние морщины и мудрое старческое восприятие земного бытия. Каждый день для меня, а вернее – каждый вечер после неизбежных дневных забот – это еще одна прожитая с тобою жизнь. И сегодня ты придешь ко мне не таким, как вчера, сегодня мы построим нашу судьбу иначе, чем накануне…
В юности мы были бессильны перед обстоятельствами, перед жизнью. А теперь я поджидаю, когда ты станешь дедушкой, чтобы с полным основанием, без оговорок перейти в благостное царство бабушек. Событие это, пожалуй, не за горами. И, честное слово, во мне уже зреют терпеливые, теплые бабушкины чувства.
Прости меня за этот печальный тон. Ведь самое главное, что мы есть, что мы видимся и никого – никого, слышишь?! – не обворовываем при этом.
Меня одна женщина предупреждала: нельзя мужчине слишком часто говорить о своем чувстве – он может разлюбить. А я все повторяю и повторяю, глупая… Ты не сердись, пожалуйста. Я сильно-сильно люблю тебя. И ты будь, насколько можешь, радостен в эту ночь!
Целую тебя, хороший мой».
* * *
После этого нового послания сам собой напрашивался вывод, который сразу почему-то никому не пришел в голову.
Десятиклассники прежде всего выяснили, что автор писем – не школьница. Это в некоторой степени разочаровало Милку. Неизвестные – он и она – были в преклонном возрасте. И Милке представились двое отживших свое время людей, для которых в общем-то уже давно все позади, все должно улечься в душе, утихомириться… А они снова и снова оглядываются назад, как это присуще только неудачникам. Ибо тому, кто живет полной жизнью, нет нужды (ни нужды, ни желания) посматривать через плечо.
Автор писем наверняка достойнее, лучше и чище того, кому они предназначены. Потому что ОН виноват в ее теперешней неустроенности. Он же мужчина!.. От ее ненавязчивого обожания, от совершенной униженности перед ним он предстал в Милкином воображении злым духом, который умышленно, с наслаждением терзает женщину. И Милке сделалось не по себе при мысли, что однажды неизвестная узнает о его обмане. Увидит когда-нибудь, что предмет ее поклонения жалок – не достойный ни чувств, ни преданности ее… Что ей останется тогда?..
Милка подумала вдруг, что лучше бы не читала писем… Лучше бы не знала о их существовании! Кто и откуда притащил эти листочки?!
* * *
На перемене она хотела во что бы то ни стало переговорить со Стаськой Мироновым. Юрка задержал ее.
– Куда ты все бегаешь?
– Так… – Она взглянула на него снизу вверх. – Почему – бегаю?
Он засмеялся.
– Пойдем на «Карамазовых»?
– Не знаю, Юра… – Переступив с ноги на ногу, Милка виновато поежилась, хотела добавить что-нибудь, но промолчала, отводя глаза в сторону.
Класс опустел тем временем. Последней, подчеркивая всем своим видом, что она хорошо разбирается в обстановке, удалилась Лялька Безуглова.
– Ты сегодня какая-то нервная, – опять начал Юрка.
Она хотела соврать, что нет, ничего подобного. Призналась:
– Ты слышал, что случилось?
Юрка кивнул.
– Ну и что?
– Ничего… – сказала Милка. – Это случилось, когда гуляли у нас. И… болтают всякое во дворе!
– Еще чего! – обозлился Юрка. – Внимания не обращай, что там болтают! Пусть друг за другом присматривают. А наши были вместе все время… Кто болтает? – спросил он после паузы.
Милка не ответила.
Он переспросил по поводу «Карамазовых»:
– Так пойдем сегодня?.. Или не хочешь?
– Я не знаю… – повторила Милка. – А ты приходи к нам!
– Одна дома будешь?
– Нет! С мамой. – И Милка неожиданно для себя покраснела, испытующе поглядывая на него.
– Приду, – пообещал Юрка.
Она заволновалась и на всякий случай напомнила:
– Все смотрят на нас… Я побегу. Ладно?
Он кивнул, улыбаясь ее осторожности: пускай смотрят, кому это нравится! Милка и сама накануне рассуждала так, а сегодня ей было немножко неловко. Выскользнула за дверь.
Стаськи в коридоре не было. Поймала его опять на втором этаже. Что приманивало сюда Стаську?
Она поймала его в буквальном смысле: за рукав.
– Мне надо поговорить с тобой!
Он поглядел с неприязнью:.
– О чем?
– Обо всем! – ответила Милка, не отводя от него упрямого взгляда. – О том, например, что ты не имеешь никакого права грубить мне.
– Разве? – усомнился он. – Да я как будто и не трогал тебя.
– Почему не пришел вчера?
– Посчитал, что нечего там делать.
– А я думала, ты будешь.
Стаська провел двумя пальцами по рукаву, за который она только что держалась, будто отряхнул его.
– Зачем я тебе?
– Стаська… – Она приблизилась, чтоб он не мог отвести от нее взгляда. – Я что, другая стала?
А он все-таки посмотрел вниз, на ее ноги. Милка даже подумала: «Смотри!» Ноги у нее были красивые.
– Да, – подняв голову, сказал Стаська.
– Хуже?
Он повел плечами.
– Как рассудить…
– Из-за Юрки? – напрямую уточнила она.
Стаська выжидающе промолчал. Желваки на его скулах дрогнули.
– Друзьями-то мы остались или нет? – спросила Милка.
– Ах, друзьями… – протянул Стаська. – Тебе только это нужно было выяснить?
– Нет, не только.
– А что еще?
– Ты был вчера во дворе?
Стаська помедлил. Слишком долго помедлил, прежде чем ответить.
– Да.
– Зачем?
Он поглядел в сторону. Милка взяла его за плечо и встряхнула.
– Зачем, Стаська?
– Просто так.
– Нет, не просто, – сказала Милка.
И они долго глядели в глаза друг другу. Потом он буквально вырвал из Милкиной руки свое плечо и, не оглядываясь, зашагал вниз по лестнице, на первый этаж.
– Стаська! – позвала Милка. – Слышишь, Стаська? – Она даже притопнула ногой от возмущения. Но Стаська не оглянулся.
Чуть не сбив Милку, пролетела к лестнице знакомая первоклашка и, сверкнув желтыми трусиками, взобралась на перила. Но Милке было не до воспитания.
– Оля! – окликнула она проходившую через коридор дочь директора школы Анатолия Степановича.
Та подошла, остановилась напротив.
– Что?
А Милка и сама не знала, зачем позвала ее.
– Ты помнишь… ну, бал во время зимних каникул?
– Д-да… – слегка удивленная, подтвердила Оля.
– Тебя химички подзывали к себе… Что они тебе говорили?








