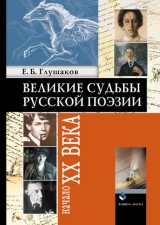
Текст книги "Великие судьбы русской поэзии: Начало XX века"
Автор книги: Евгений Глушаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Несомненно, что сознание собственных заслуг в творческом росте подопечного было весьма и весьма приятно для Брюсова. Тем более, что молодой поэт в переписке с мэтром продолжал настаивать на своей роли послушного Ученика и восхищаться мастерством Учителя. И уничижение, которому он подвергал своё творчество перед лицом Валерия Яковлевича, безусловно, провоцировало того защищать слишком уж требовательного к себе автора. И самый изобретательный хитрец не выдумал бы более действенной стратегии. Не зря же сказано: «Унижающий себя будет возвышен».
В то же время Гумилёв и Брюсов были по-настоящему творчески близки. Ведь и суховатый, очень литературный Валерий Яковлевич делал ставку на высокую поэтическую технику, заморскую экзотику и сюжетную яркость своих произведений. А у Николая Степановича, в свою очередь, вскоре обнаружится такая же, как у Брюсова потребность в создании собственной поэтической школы, в учениках и последователях. Но было между ними и ощутимое отличие: так в поэзии Учителя преобладало изощрённо-интеллектуальное начало, а в стихах Ученика – героико-романтическое. Можно предположить, что разница эта явилась следствием того, что на молодого поэта наводил своё магнетическое поле и Александр Александрович Блок.
В начале мая 1908-го Николай Степанович отправился в Россию проходить военную службу. По дороге заехал в Киев повидаться с Анной Андреевной, в эту пору обучающейся на Высших женских курсах. Завернул и в Москву к Брюсову, возможно, не без протекции которого 24-го мая был принят в литературную группу «Вечера Случевского». И наконец, Царское Село, место его призыва. Однако медицинской комиссией был забракован по причине астигматизма правого глаза и от воинской повинности освобождён.
Едва ли ни радуясь этому обстоятельству, Николай Степанович снова отправляется к Анне Андреевне, теперь уже перебравшейся на летний отдых в Евпаторию. Очередное предложение и очередной отказ. Даже «Романтические цветы», на титуле которых значилось посвящение ей, не умилостивили сердце возлюбленной. Слишком умна и осторожна была Анна Андреевна, слишком много сомнений вызывал у неё этот увлекающийся, а посему и не постоянный кавалер. К тому же Гумилёв ни то, что не считал нужным скрывать свои любовные похождения, но с присущим ему вызовом даже бравировал ими.
Поэт, отвергнутый любимой девушкой, как ему казалось, уже навсегда, возвратился во Францию и 20-го июля был в Париже. От грустных мыслей о несчастной любви не отвлекло Николая Степановича даже знакомство с Елизаветой Дмитриевой, роман с которой, разыгравшийся годом позднее, будет хотя и кратким, но бурным. Теперь же, повстречав её в мастерской художника Гуревича, он едва ли обратил внимание на эту неглупую, но внешне не слишком привлекательную женщину.
Гумилёв был безутешен и, решив утопиться, отправился в Нормандию к морю. Протекавшая через Париж Сена, слишком загрязнённая промышленным и бытовым стоком, для романтической натуры поэта явно не подходила. Ну, а девушке, не принявшей его любви, Николай Степанович на прощание послал свою фотографию со строфой из Бодлера на обороте.
Впрочем, трагедия обернулась фарсом, и на пустынном Нормандском берегу несчастный влюблённый был арестован полицейским, принявшим его за бродягу. Пришлось возвращаться в Париж. Мутно-грязной Сеной поэт, разумеется, опять побрезговал.
В пору недавнего посещения Киева, Гумилёв порекомендовал брату своей возлюбленной тоже отправиться на учёбу в Париж, убеждая, что жизнь там недорога. При этом вряд ли упомянул о собственном частом безденежье, когда по нескольку дней кряду поэту приходилось питаться исключительно каштанами. Андрей Андреевич поддался на уговоры и вскоре приехал. Остановился, конечно же, у Гумилёва. Ну, а сам Николай Степанович в это время находился едва ли не в параноидальном стремлении сломить упорство любимой девушки. Его неудержимо влекло в Россию.
Оставив друга на попечение своих парижских знакомых, он опять направляется в Киев. И снова отказ. Вернувшись в Париж, поэт забирается в Булонский лес и принимает цианистый калий. Через сутки его находят в лесном рву в бессознательном состоянии. Возвращают к жизни. Андрей сообщает о случившемся сестре, и та срочно телеграфирует неудачливому самоубийце о перемене своего решения. Впрочем, таковая лёгкость была в характере Анны Андреевны, и она это проделывала по отношению к Гумилёву уже не один раз, то давая согласие, то снова отказывая, чем приводила его в совершеннейшее отчаяние. Очередная благосклонность любимой заставила Гумилёва подумать о возвращении в Россию. Он покинул Сорбонну и в августе 1908-го поступил на юридический факультет Петербургского университета.
Вскоре поэт перевелся на историко-филологический, на котором прозанимается только в течение 1909–1910 учебного года. Затем, после годичного перерыва в занятиях перейдет на Романо-германское отделение, проявляя особенный интерес к старо-французской литературе. Однако, университетского диплома так и не получит, поскольку в 1914-ом уйдет на войну.
Но, похоже, что диплом, как таковой, его и не интересовал. Николаю Степановичу были нужны конкретные знания в той или иной области, а не какая-то, скажем, гуманитарная специальность. Своим единственным призванием Гумилёв уже давно осознавал поэзию и только поэзию. Букет необходимых для его осуществления познаний он и собирал, кочуя из Сорбонны в Петербург, с факультета на факультет, из одного любовного романа в другой. Однако самый богатый урожай впечатлений для творчества поэт помышлял обрести не в университетских аудиториях и даже не в объятиях своих возлюбленных. Его, романтика до мозга костей, манила и притягивала Африка.
Там было всё – и диковинная природа; и опасности, испытующие самое отчаянное бесстрашие; и древняя, всё ещё неведомая цивилизованному человечеству культура. И вот, только-только получивший согласье Анны Андреевны, только-только поступивший в Петербургский университет, Николай Степанович уже в сентябре 1908-го почти без денег отправляется в Африку, этим самым как бы подчёркивая, что он по-прежнему свободен, дескать, как говорил философ Григорий Сковорода: «Мир ловил меня, но не поймал».
Длилась эта поездка всего шесть недель. За это время поэт побывал только в Египте, причём не дальше Каира. Ещё не путешествие, а что-то экскурсионное, лишённое той дикой романтики, о которой мечтал Гумилёв. Потратившись до последней копейки, а также изрядно поголодав, денег на обратную дорогу вынужден был занять у ростовщика.
Впоследствии при подсчёте своих посещений Чёрного континента Николай Степанович намеренно «забывал» об этой поездке точно так же, как про «Путь конквистадора» при подсчёте своих книг. Первый блин, по крайней мере, в собственном восприятии, получился у него и там, и тут, что называется, комом. Но и при весьма ограниченных возможностях прирождённое упорство этого человека позволяло ему при новых и новых попытках всё-таки добиваться желаемого результата.
Неспешность поэтического становления Гумилёва одним из первых была прочувствована Брюсовым. При всех похвалах, отпущенных им в адрес «Романтических цветов», Валерий Яковлевич посчитал эту книгу всего лишь ученической. Конечно, и самокритичная скромность её автора укрепляла Учителя в такой оценке, позволяя ему, как признанному мэтру, по-прежнему поучать молодого поэта, чьи стихи своим изяществом и музыкальной прелестью уже едва ли не превосходили его собственные.
ЖИРАФ
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озёр.
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полёт.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.
Я знаю весёлые сказки таинственных стран
Про чёрную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжёлый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…
Ты плачешь? Послушай… далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Критический успех «Романтических цветов» настораживает пёструю и тороватую армию альманашников. А многообещающая реплика Брюсова: «Н. Гумилёв принадлежит к числу писателей, развивающихся медленно, и потому самому стающих высоко», – заставляет их, держащих нос по ветру, взять молодого поэта, что называется, в оборот. Теперь, по возвращении в Россию, литературные связи Николая Степановича множатся и множатся.
1-го января на открытии Петербургской выставки «Салон 1909 года» Гумилёв познакомился с Сергеем Константиновичем Маковским, сыном известного художника, искусствоведом, критиком и весьма заурядным стихотворцем. Именно тогда в разговоре между ними и зародилась мысль о новом журнале. Поначалу Николай Степанович предпринял попытку реализовать этот замысел в одиночку. И название подыскал соответствующее – «Остров».
Не получилось. Всего два номера и было выпущено. Вспомнил про свой так и не засиявший на литературном небосклоне «Сириус». Понял – не его это дело: обивать пороги, обхаживать авторов, клянчить у корифеев «чего-нибудь эдакого» в номер. Да и свободных денег в достаточном количестве у него не имелось.
Вот Гумилёв, памятуя о недавнем разговоре с Маковским, и стал подбивать его на создание журнала. Да ещё и познакомил с Анненским, который убедил Сергея Константиновича в необходимости издания, стоящего над направлениями и группами и с некой высшей точки рассматривающего всё происходящее в современной литературе.
Уже летом 1909-го на Мойке 24 разместилась редакция будущего журнала «Аполлон», а 25-го октября вышел первый номер. Из Москвы на его презентацию были приглашены телеграммами Брюсов и Белый. В Петербургском ресторане «Кюба» состоялся посвящённый учреждению журнала торжественный обед, на котором выступили с речами: сначала Анненский, потом два известных профессора, а четвёртым от имени молодых поэтов – Гумилёв.
Название напутствуемого красноречивыми ораторами журнала принадлежало едва ли ни его идейному вдохновителю Иннокентию Анненскому, переводчику Еврипида и поклоннику Античности. С лёгкой руки недавнего ученика когда-то подчинённой Анненскому гимназии безвестный поэт становится публично действующим литератором. Более того, Николай Степанович не перестаёт угощать «последним из царско-сельских лебедей» поэтическую молодёжь, то и дело собирающуюся в Царском Селе на квартире его родителей. Важивает своих друзей и домой к Анненскому, сам у которого в эту пору бывает уже запросто.
Наиболее частые гости Гумилёва: Осип Мандельштам, Алексей Ремизов и Алексей Толстой начинают понимать, сколь неординарен и значителен этот поэт, грезящий Элладой и разъезжающий с инспекциями по гимназиям Петербургского округа. Знакомит Николай Степанович с ним и Михаила Кузмина, на некоторое время перекочевавшего из Башни Вячеслава Иванова, где занимал две комнаты, в Царское Село к Гумилёву, где, вероятнее всего, довольствовался уже одной.
Молодёжь, разумеется, не осталась глуха к безусловной новизне стихов Анненского, а, следовательно, и почерпнула от него немало. С другой стороны Николай Степанович вживую содействовал его растущей известности, причём делал это широко и убедительно.
Деятельная натура Гумилёва несомненно оказала своё активное, возбуждающее влияние на процессы литературного брожения предреволюционной России. В частности, именно он явился инициатором в создании так называемой «Академии стиха». Ещё в начале 1909-го года Николай Степанович убедил в её необходимости своих молодых товарищей и вместе с ними обратился к «мэтрам».
Предполагалось, что лекции по теории стихосложения для юной поэтической поросли будут читать Вячеслав Иванов, Александр Блок и Иннокентий Анненский. Но кроме первого из перечисленных реальной охоты, а, может быть, и рецептов версификации ни у кого не оказалось. Занятия Вячеслав Иванов проводил раз в две недели у себя на Башне, где специально для этого появилась аспидная доска и мел. После летних каникул лекции продолжились в помещении редакции «Аполлона».
Уже при первых шагах журнала его сотрудники оказались жертвами ловкой литературной мистификации, начавшейся с пришедшего на адрес редакции послания, написанного на прекрасной бумаге с траурной каймой. К письму, подписанному звучным и замысловатым именем «Черубина де Габриак», прилагались стихи, которые всем показались хорошими. Обратный адрес отсутствовал.
Потом – ещё письма, ещё – стихи. И телефонные разговоры по полчаса. Дама представилась испанской аристократкой. Ссылаясь на строгость своего духовника-иезуита, лично не показывалась. Все ближайшие сотрудники «Аполлона» были ужасно заинтригованы и заочно влюблены в неведомую красавицу.
Когда же чарующая тайна оказалась довольно-таки пошлым розыгрышем, а сказочная Черубина де Габриак – всего лишь смазливой, хотя и не бездарной, поэтессой Елизаветой Ивановной Дмитриевой, одураченные поклонники «испанской аристократки» были, конечно же, весьма и весьма смущены. Зачинщиком мистификации и пособником Дмитриевой был никто иной, как Максимилиан Волошин, а среди посвящённых значился Алексей Толстой. К незамысловатому секрету был приобщён и Иоганнес фон Гюнтер, но не с первых дней, а несколько позже.
При разоблачении изящного, но затянувшегося обмана Николай Степанович не удержался и перед кем-то из участников этой комедии в духе Лопа де Вега похвастался своей недавней победой над псевдо аристократкой. Действительно, весною 1909 года между ним и Дмитриевой возник любовный роман, за которым последовала совместная поездка в Коктебель. Однако взаимная страсть, очевидно, продолжалась недолго. Уже на Чёрном море Гумилёв, сделав Елизавете Ивановне предложение, получил отказ.
Впрочем, отвергнутый девушкою, не отчаивался. Переключился на ловлю тарантулов. И даже устраивал бои между этими ядовитыми пауками. А потом, запершись у себя в комнате на чердаке Волошинского дома, написал одно из своих самых известных стихотворений:
КАПИТАНЫ
(отрывок)
На полярных морях и на южных,
По изгибам зелёных зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.
Быстрокрылых ведут капитаны —
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель,
Чья не пылью затерянных хартий —
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь
И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт,
Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвёт пистолет,
Так что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.
Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернёт паруса.
Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат,
Меткой пулей, острогой железной
Настигать исполинских китов
И приметить в ночи многозвездной
Охранительный свет маяков?
Потерпевший в реальности очередное поражение, в своих поэтических грёзах Николай Степанович снова был прекрасен и могуч.
В пору разоблачения «Черубины де Габриак» нескромные рассказы Гумилёва об его недавней близости с нею компрометировали девушку и были ей переданы. При очной ставке Дмитриева, разумеется, объявила его лжецом. Ну, а Волошин на правах друга поэтессы вступился за её честь. Последовал вызов, театральность которого была подчёркнута временем и местом действия.
Так получилось, что главные герои столкновения и их ближайшее окружение сошлись в Мариинке в мастерской художника-декоратора Головина. Откуда-то снизу доносились звуки оркестра и голоса оперных певцов. Шёл «Орфей». Поводом для сборища послужила редакционная затея «Аполлона», заказавшего Головину групповой портрет своих сотрудников.
В этот вечер позировать должен был Волошин. Тут он и залепил пощёчину Гумилёву. Поэт-эллинист Анненский, тоже присутствовавший, сумел абстрагироваться даже в этой скандальной ситуации и спокойно заметил: «Достоевский прав. Звук пощёчины – действительно мокрый».
На другой день поэты стрелялись парой пистолетов, аналогичных и даже современных тем, которые были употреблены во время последней дуэли Александра Сергеевича Пушкина. Вполне литературная дуэль: между поэтами по поводу их отношения к поэтессе и на месте известном из литературы. Чуковский, один из участников события, вспоминал:
«Местом дуэли выбрана была, конечно, Чёрная речка, потому что там дрался Пушкин с Дантесом. Гумилёв прибыл к Чёрной речке с секундантами и врачом в точно назначенное время, прямой и торжественный, как всегда. Но ждать ему пришлось долго. С Максом Волошиным случилась беда – оставив своего извозчика в Новой Деревне и пробираясь к Чёрной речке пешком, он потерял в глубоком снегу калошу. Без калоши он ни за что не соглашался двигаться дальше и упорно, но безуспешно искал её вместе со своими секундантами. Гумилёв, озябший, уставший ждать, пошёл ему навстречу и тоже принял участье в поисках калоши…»
Как видим, даже на традиционную беллетристическую канву дуэльной истории характеры её героев легли вполне индивидуально. Естественно, что «бесстрашный конквистадор» Николай Степанович Гумилёв потребовал стреляться на пяти шагах до смерти. С трудом удалось через его секундантов договориться о более гуманных условиях – пятнадцати шагах.
Стрелялись по команде – на счёт «три». Гумилёв промахнулся. Пистолет Волошина дал осечку. Николай Степанович потребовал, чтобы тот повторил выстрел. Опять осечка. Один из секундантов (Алексей Николаевич Толстой) подбежал к Волошину, вырвал у него из дрожащей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гумилёв продолжал стоять, требуя третьего выстрела. Секунданты, посовещавшись, отказали…
Об этом дуэльном лицедействе, случившемся 22 ноября 1909 года, Гумилёв вспоминал всегда иронически, с полным сознанием своего превосходства, Волошин – добродушно посмеиваясь над собой. А Саша Чёрный в одном из своих стихотворений назвал Макса Волошина Ваксом Калошиным…
В «Аполлоне» Николай Степанович начинает сотрудничать с первых номеров, причём не только стихами, но и статьями, посвящёнными разбору выходящих книг. Поэты, отдавшие немало сил собственному ученичеству, непременно стремятся поучать других. Эстафета мастерства.
Многие упрекали Маковского за столь активную роль, предоставленную им Гумилёву. Особенно возмущался Вячеслав Иванов, считавший Николая Степановича глупым и необразованным, и удивлялся, как можно такому поручить рубрику «Письма о русской поэзии». Выходит, и ведущий теоретик символизма пока что видел в Гумилёве лишь «гадкого утёнка».
Впрочем, и поверивший в него Маковский воспринимал молодого поэта весьма реалистично: «Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке с очень высоким тёмно-синим воротником (тогдашняя мода), причёсан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось: бесформенно-мягкий нос, толстовато бледные губы и немного косящий взгляд (белые точёные руки я заметил не сразу). Портил его и недостаток речи: Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, как-то особенно заметно шепелявил, вместо «вчера» выходило у него – «вцера»».
К этой чисто внешней характеристике, хотя и сделанной приятелем, но не слишком лестной, добавим, что Гумилёв был столь же мужествен в слове, как и в поступках. Говорил, что думал – без обиняков. А его поэзия была лишь продолжением его обычных разговоров, всегда романтически-увлекательных и метафорически-ярких. В своих устных рассказах Николай Степанович обыкновенно живописал, как бы исчезая за создаваемым образом. Отсюда более эпический, чем лирический склад его стихов. Не была надуманной и симпатия поэта к «братьям нашим меньшим». Достаточно сказать, что в доме Гумилёвых жила белая ручная мышь, которую он нередко брал с собою и носил в кармане или рукаве.
30 ноября 1909 года в Петербурге на Царскосельском вокзале по пути домой от разрыва сердца умер Иннокентий Анненский. Книга лучших стихов поэта «Кипарисовый ларец», составившая ему имя в русской поэзии, увы, опоздала с выходом совсем немного. Промедлил с публикацией его стихов в «Аполлоне» и Сергей Маковский. А четырёхтомное издание драм Еврипида в переводе Анненского вышло и того позже – только через семь лет.
Впрочем, существеннее другое: Иннокентий Фёдорович успел познакомиться и подружиться со своей поэтической сменой, провозвестниками его грядущей славы: Ахматовой, Мандельштамом, Волошиным, Кузминым… Но прежде всего – выполнил свою напутственную роль по отношению к Гумилёву, для которого явился в поэзии первым наставником. Вручая ему свою единственную изданную при жизни книгу «Тихие песни», поэт сделал дарственную надпись:
Меж нами сумрак жизни длинной,
Но этот сумрак не корю,
И мой закат холодно-дынный
С отрадой смотрит на зарю.
Это высокое признание и стоит пушкинского: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил», но теперь уже адресовано не оставшимся к ушедшему, а уходящим к остающемуся, и через это обращение миры здешний и потусторонний оказались квиты.
Поэты, вызревающие вне общего литературного брожения, обречены на своеобразие и независимость. Их странность и дикость – естественный отпечаток одиночества. Впрочем, самоизоляция становится ещё и причиной долгого кружного пути к успеху, к славе, в которую они въезжают, чаще всего, уже на катафалке. Иннокентий Фёдорович был из таких. Что-то писал, что-то переводил, что-то издавал, да и то тишком, исподволь, незаметно. Зато без чужих глупых подсказок и психических травм. «Ты царь: живи один. Дорогою свободной Иди, куда влечёт тебя свободный ум…» – этому Пушкинскому завету он следовал, как никто другой и, возможно, безо всякой преднамеренности.
Когда же волею судеб реально соприкоснулся с современными ему поэтами, тотчас же был уязвлён и презрительным отношением тогдашних «классиков»: Бальмонта, Сологуба, Вячеслава Иванова, и бестактными переносами своей публикации в журнале «Аполлон»… Смертельный инфаркт и был спровоцирован такими вот житейскими неприятностями. Едва поэт стал «принадлежать жизни», как тут же умер. Впрочем, разве иное допустимо, разве можно было умереть не живя?
Николай Степанович на похоронах Анненского отсутствовал, ибо находился в это время далеко от Царского Села и вряд ли знал о случившемся. Ещё 26 ноября вместе с несколькими друзьями-поэтами он приехал в Киев и выступил на вечере «Остров искусств».
Среди публики находилась и Анна Андреевна Горенко. Из прочитанного тогда Гумилёвым лишь «Сон Адама» и мог её заворожить. Причём, покоряюще подействовала на девушку ни только роскошь звучных, ароматных строф, но и юная отвага её прародительницы Евы, светло и чисто радующейся своему мужу накануне уготованных им испытаний.
Для Анны Андреевны, прежде всего, для неё и были прочитаны эти стихи. Не исключено, что именно они и склонили её хотя бы на один вечер забыть осторожность. Похоже, что «Сон Адама» усыпил бдительность новейшей Евы. После концерта Горенко согласилась посетить гостиницу «Европейская», где они пили кофе, и она дала согласие стать его женой, теперь уже окончательное, не допускающее отступлений. Три дня они провели вместе, а на четвёртый Николай Степанович выехал в Одессу, чтобы оттуда, пересев на пароход, отправиться в Африку.
На этот раз Гумилёву удаётся примкнуть к исследовательской экспедиции, возглавляемой директором «Музея антропологии и этнографии» академиком Радловым. Николай Степанович занимается сбором местного фольклора, впоследствии проявившегося в его «Абиссинских песнях» и поэме «Мик». Путешествие продолжалось по февраль следующего года. За это время он побывал в Константинополе, Каире, Джибути, ДиреДауа и Харраре. Тут уже довелось ему соприкоснуться и с дикими племенами, и с экзотической природой.
Между тем, родители Гумилёва исправно получали от него письма, но отнюдь не из Африки. Поскольку отцом было ему строжайше запрещено навещать Чёрный континент вплоть до окончания университета, хитроумный сын заготовил впрок целую пачку писем и поручил своим друзьям их последовательную отправку. Уловка, за которой угадывается, может быть, не столько забота о душевном комфорте родителей, сколько увлекательная игра в приключения. Молодое, пуще того – мальчишеское озорство!
А ведь возвратись он из путешествия хотя бы днём позднее, отца в живых мог бы не застать, ибо на следующие сутки по приезде сына Степан Яковлевич скончался. Давно болевший, должно быть, крепился он, как только мог, чтобы дотянуть до этой встречи. Ну, а как дождался, так и дал слабину – испустил дух.
Вот и получилось, что проводила Гумилёва в Абиссинию смерть его «поэтического отца» – Иннокентия Анненского, а встретила по возвращении – смерть отца, что называется, по плоти и крови. Может быть, поэтому и не следовало бы ему гоняться за южною, чужеземной экзотикой, а поискать вдохновения в родимом Отечестве? Ни на это ли досадное обстоятельство был ему дан этот грустный и печальный намёк?
И сын-поэт, и прочие домочадцы весьма спокойно отнеслись к смерти главы семейства, не очень-то переживали. Уж слишком стар был статский советник, да и свойственным ему деспотизмом особых симпатий среди своих домашних не снискал. Недели не прошло, как Степана Яковлевича похоронили, а Николай Степанович уже перебрался в бывший отцовский кабинет и всё там переставил в своём вкусе. А на материнские укоры за такую поспешность ответил, что писать стихи в гостиной долее никак не возможно – все, мол, ходят, мешают.
Но существовала другая, истинная причина этакой бестактности – поэт готовился к приезду своей невесты Анны Андреевны Горенко, которая обещала появиться в Петербурге на масляную неделю. И появилась. Где только он с нею не побывал за эти несколько дней: театры, музеи, литературные вечера. Сводил
Николай Степанович свою ненаглядную и к Вячеславу Иванову на Башню, ядовито прозванную Мережковскими «становищем».
И действительно, преогромная эта квартира, если и была Башнею, так только единожды в неделю – по средам, а в прочие дни, когда её странные, подчас и неведомые хлебосольным хозяевам обитатели расползались по неисследимому лабиринту залов, комнат и комнатушек, она превращалась в нечто среднее между солдатским бивуаком и цыганским табором. Впрямь – становище!
Можно было бы даже сказать, что молодые на масляной неделе не худо повеселились, если бы не постоянная оглядка на ещё свежую утрату. Будто кто-то их постоянно одёргивал. И всё-таки они развлеклись, хотя и проделали это чинно, сдержанно и в подобающих трауру костюмах.
Свои книги Гумилёв обычно издавал сам, находя более удобным издерживать на это собственные, подчас последние деньги, чем заискивать перед меценатами. Единственный сборник, на который он не потратился, это – «Жемчуга». Право на его издание Николай Степанович отдал даром «Скорпиону». «Жемчуга» и посвящены были Валерию Яковлевичу Брюсову, и открывались стихотворением адресованным ему:
ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА
Валерию Брюсову
Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое тёмный ужас начинателя игры!
Тот, кто взял её однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.
Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
И когда пылает запад и когда горит восток.
Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервётся пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, —
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленье
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.
Ты поймёшь тогда, как злобно насмеялось всё, что пело,
В очи, глянет запоздалый, но властительный испуг.
И тоскливый смертный холод обовьёт, как тканью, тело,
И невеста зарыдает, и задумается друг.
Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
Но я вижу – ты смеёшься, эти взоры – два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!
Уже сами эти посвящения свидетельствовали, что поэт ещё не освободился от влияния Брюсова, что пора ученичества миновала не вполне. Да и первоначальное название «Золотая магия» было забраковано именно Валерием Яковлевичем. А всё-таки «Жемчуга» явились в творчестве Гумилёва той высотой, с которой уже открывался простор самостоятельных исканий и оригинального не заёмного мастерства.
Всё это было понято и оценено именитыми критиками, на этот раз удостоившими молодого поэта не только благосклонных авансов, но и признания реальных достижений. Так Брюсов в своём отзыве пишет: «Ученик И. Анненского, Вячеслава Иванова и того поэта, которому посвящены «Жемчуга», Н. Гумилёв медленно, но уверенно идёт к полному мастерству в области формы. Почти все его стихотворения написаны прекрасно обдуманными и утончённо звучащими стихами. Н. Гумилёв не создал никакой своей манеры письма, он заимствовал приёмы стихотворной техники у своих предшественников, он сумел их усовершенствовать, развить, углубить, что, быть может, надо признать даже большей заслугой, чем искание новых форм, слишком часто ведущее к плачевным результатам».
Вероятно, почувствовав, что Валерий Яковлевич, слишком расщедрившийся на похвалы, на этот раз, быть может, даже переступил через себя, через собственные амбиции, Гумилёв в личном письме спешит успокоить своего наставника: ««Жемчуга» – упражнения – и я вполне счастлив, что Вы, мой первый и лучший учитель, одобрили их. Считаться со мной, как с поэтом, придётся только через много лет…»
А вот Вячеслав Иванов обошёлся с Брюсовым менее почтительно и в своей рецензии на «Жемчуга» не удержался от соблазна лягнуть Валерия Яковлевича, как и сам он, претендующего на роль главного идеолога символизма. Вот он удар дружеского копыта: «Гумилёв подчас хмелеет мечтой веселее и беспечнее, чем Брюсов, трезвый в самом упоении». И уже обращённое к самому Николаю Степановичу, непререкаемо-глубокое мнение этого крупнейшего теоретика русской поэзии XX века: «Когда действительный, страданием и любовью купленный опыт души разорвёт завесы, ещё обволакивающие перед взором поэта сущую реальность мира (…) тогда впервые будет он принадлежать жизни».








