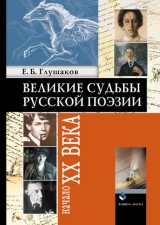
Текст книги "Великие судьбы русской поэзии: Начало XX века"
Автор книги: Евгений Глушаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
СКИФЫ
Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
Владимир Соловьёв
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!
Для вас – века, для нас – единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!
Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины!
Вы сотни лет глядели на Восток
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!
Вот – срок настал. Крылами бьёт беда,
И каждый день обиды множит,
И день придёт – не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!
О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!
Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь чёрной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжёт, и губит!
Мы любим всё – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…
Мы помним всё – парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далёкий аромат,
И Кёльна дымные громады…
Мы любим плоть – и вкус её, и цвет,
И душный, смертный плоти запах…
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжёлых, нежных наших лапах?
Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжёлые крестцы,
И усмирять рабынь строптивых…
Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно – старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем – братья!
А если нет – нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века – вас будет проклинать
Больное позднее потомство!
Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей Расступимся!
Мы обернёмся к вам
Своею азиатской рожей!
Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!
Но сами мы – отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.
Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..
В последний раз – опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!
Это стихотворение могло быть написано двумя неделями раньше. Эмоциональный всплеск, послуживший его отправной точкой, произошёл, судя по дневнику, ещё 11-го января. Но тогда Блок работал над поэмой. Пришлось где-то в глубине сердца спрятать и удерживать явившееся ощущение, дожидаясь последней точки в «12». А пока ограничиться дневником. Вот эта запись, прозаический эмбрион, в котором уже явственно проступают черты будущего поэтического шедевра, спровоцированного негодованием Блока по поводу Брестских переговоров:
«Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним.
Если вы хоть «демократическим миром» не смоете позор вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит, вы уже не арийцы больше. Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом, мы скинемся азиатами, и на вас прольётся Восток.
Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, так изолгавшийся, – уже не ариец.
Мы – варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ – будет единственно достойным человека…»
«Двенадцать» и «Скифы», творческий апофеоз Блока, пришлись на 20-летнюю годовщину его поэтической деятельности. Не в натуре Александра Александровича было отмечать юбилеи, да и время не подходящее. Разве что с женою перекинулся двумя-тремя словами и в записной книжке дату эту примечательную – 10-е января пометил: «Двадцать лет пишу стихи». А днями позднее, при завершении поэмы – «юбилейного» подарка от Господа, записал свою оценку этого произведения: «Оно больше меня. И больше себя. Это – настоящее».
«Больше себя» поэма оказалась уже в силу своей, тогда ещё только предчувствуемой правды. Не о Революции она, не об Октябрьском перевороте – куда проще и куда страшней: о большевицком кровавом терроре, порождённом ими: «Трах-тах-тах! Трах-тах-тах…» Поэма завершается этой беспорядочной, испуганной, мнительной, ведущейся почти наугад пальбой. И как уместно, как символично многоточье, поставленное Блоком после этих: «Трах-тах-тах…» Оно как бы продолжает убойную эту стрельбу в грядущие года и десятилетья и так похоже на пулевые пробоины…
Если бы смогли современники хорошенько вдуматься в истинный смысл Блоковского создания, я уверен: большевики не пожалели бы пули и для самого автора этого изобличительного документа эпохи. Ну, а контрреволюция бы ему рукоплескала.
В действительности же всё получилось наоборот, как раз по причине всё того же непроглядного мрака, о котором написал поэт: «Не видать совсем друг друга за четыре за шага». По человеческому обыкновению, важнее оказалось не то, что ты делаешь, а с кем ты. А Блок был с большевиками. Более того, на предложенный ему анкетный вопрос: «Может ли интеллигенция работать с большевиками?» – ответил: «Может и обязана».
Однако большая часть из числа интеллигентов, знакомых с Блоком, думала иначе. Когда в феврале 1918-го «Двенадцать» были опубликованы, от поэта отвернулись многие и многие. Злословили. Не подавали руки. Ну, а сам Александр Александрович, явившийся поэтическим мессией Революции и Гражданской войны после «Двенадцати» и «Скифов» замолчал. Слово было сказано, дело сделано. Как бы исчерпав этим своё предназначение, Блок во всю оставшуюся жизнь ничего великого более не написал, а к стихотворной форме почти и не прикасался.
Маяковский, должно быть, ревнуя Александра Александровича к своей любимой теме, иронизировал, мол, Революция не для Блока, и он, попытавшись о ней написать, надорвал голос. Между тем, Маяковский тут весьма и весьма неправ и хочет отсудить у Блока неотъемлемое. Ибо сам Владимир Владимирович изначально находился внутри революционной стихии и посему не мог быть её провозвестником. У него своя, иная слава. Ну, а страшный, мучительный призыв: «Слушайте Революцию!» – принадлежит Блоку и только ему.
Исполнение Александром Александровичем своих стихов было полностью лишено каких-либо внешних эффектов. Сказывалось отсутствие в поэте и тени самохвальства, мол, вот оно, как есть, ничем не приукрашенное. Однако за его сдержанной холодностью чувствовалась и скрытая энергия, и страсть, и тончайшая благородная музыкальность.
Вот почему его чтение завораживало, гипнотизировало зал, повергая в такую тишину, среди которой и шёпот отдаётся громом небесным. Актёрам, пытавшимся подражать его манере, подобное не удавалось.
А вот свои «Двенадцать» читать не умел. Стоящие особняком в его творчестве, они требовали и подачи совсем иной – страстной, разухабистой, простонародной. Именно так читала «Двенадцать» жена поэта, отныне завершавшая исполнением поэмы большинство выступлений Блока. Он восхищался и считал, что Любовь Дмитриевна делает это безошибочно. Да и могло ли быть иначе, если для Александра Александровича в этом исполнении слились сразу четыре возлюбленные им и предавшие его стихии: женщина, поэзия, театр и революция.
3-го июля «Двенадцать» вышли книгой, но пока ещё в одном переплёте со «Скифами». Отдельным изданием они были выпущены лишь в конце 1918-го, причём, с великолепными иллюстрациями Анненкова. Первый тираж их составлял только 300 экземпляров, но затем по заказу Наркомпроса последовало издание с тиражом в 10000, по тому времени баснословным и свидетельствовавшим о возросшей популярности поэта.
Только теперь, после «Двенадцати» и «Скифов» к Блоку пришла настоящая широкая слава. По свидетельству современника: «Было в ней, разумеется, и нечто наносное, вульгарное. Намазанные девчонки в кошачьих горжетках под горностай приставали к прохожим: «Я – незнакомка. Хотите, покажу очарованную даль?»» В иллюзионах крутили душераздирающую мелодраму «Не подходите к ней с расспросами». Шансонье Вертинский с большим чувством и чуть слащавой приятностью в голосе мяукал песенки на Блоковские стихи. А когда Александр Александрович ввиду беспорядков, творящихся в городе, дежурил у ворот своего дома, какой-то насмешливый прохожий громко процитировал строки из его «Незнакомки»:
И каждый вечер в час назначенный
(Иль это только снится мне?)…
Осенью 1918-го Горький основал издательство «Всемирная литература». А зимою в учёную коллегию издательства был приглашён Блок. Поэту поручили возглавить немецкий отдел. Первым, на ком Александр Александрович сосредоточил своё внимание и силы, был Генрих Гейне. К переводчикам, находившимся в распоряжении Блока, Александр Александрович был требователен и строг. Сказалось величайшее уважение к замечательному немецкому поэту и стремление достойно представить его русским читателям.
Впервые Горький и Блок встретились ещё в 1906 году на Башне Вячеслава Иванова. Близкого знакомства не последовало, но взаимное уважение присутствовало неизменно. Один из современников засвидетельствовал, к примеру, что в пору выхода Блоковских «Стихов о России», эта книга весьма долго не покидала рабочий стол Алексея Максимовича, и он не раз открывал её, чтобы процитировать ту или иную строфу.
Вполне определённо выразилось отношение к поэту и в письме Горького к одному из начинающих стихотворцев: «Блоку – верьте, это настоящий, волей Божьей поэт и человек бесстрашной искренности». А другому своему адресату он же написал: «В общем же Блок изумительно красив, как поэт и как личность. Завидно красив». Официальные отзывы великого пролетарского писателя о поэте звучали куда сдержаннее.
В издательстве «Всемирная литература» Александр Александрович общался с весьма многими писателями, привлечёнными Горьким к сотрудничеству. Но в творческих дискуссиях на Коллегии экспертов наиболее частым и даже непременным оппонентом Блока являлся Гумилёв. Их взгляды на литературное творчество постоянно расходились.
После очередных словопрений кто-то поинтересовался у Николая Степановича, почему он не выходит за рамки чрезвычайной почтительности и не возразит Блоку более резко и определённо? Гумилёв ответил: «А что бы я мог сделать? Вообразите, что вы разговариваете с живым Лермонтовым. Что могли бы вы ему сказать, о чём с ним спорить?»
Александр Александрович обращался к Гумилёву всегда подчёркнуто церемонно и, признавая за ним дарование, впрочем, какое-то «не русское» по своей природе, воспринимал его всё-таки несколько иронически. В воспоминаниях Евгении Фёдоровны Книпович, человека весьма близкого Блоку, дошли до нас некоторые его отзывы о Гумилёве: «Все люди в шляпе – он в цилиндре. Все едут во Францию, в Италию – он в Африку. И стихи такие, по-моему… в цилиндре».
Свои споры с Гумилёвым Блок подытожил и развил в статье «Без божества, без вдохновенья», предназначавшейся для «Литературной газеты», но при жизни автора так и не увидевшей свет.
Поскольку далеко не вся интеллигенция примкнула к большевикам, в молодом Советском государстве образовался огромный дефицит на творческих людей. А посему каждого «примкнувшего» власти старались использовать не на сто, а на тысячу процентов.
Помимо работы во «Всемирной литературе» Блок становится членом Литературно-художественной комиссии по изданию классиков, сотрудничает в Репертуарной секции Петроградского Театрального отдела Наркомпроса, назначается председателем Управления Большого Драматического театра, выступает с лекциями и докладами, разрабатывает планы «Исторических картин» – театральных и кинематографических инсценировок на темы мировой культуры, избирается членом Совета Дома Искусств, участвует в составлении плана «Библиотеки русских классиков» в 100 томах для издательства З.И. Грежбина.
Обязанностей, как видим, немало, и за каждою из них – большой, постоянный труд. Что, к примеру, означало председательство в Управлении БДТ? Блок не только формировал его репертуар, но и работал с актёрами, помогая им разобраться в принятой для постановки пьесе, как целиком, так и по каждой роли персонально. Его речи, произносимые перед началом спектакля, не только увеличивали наплыв зрителей, но и давали им верный настрой.
Поэт выступал как бы посредником между публикой и актёрами, и тем, и другим прививая вкус к традиционному классическому театру, ориентируя на Шекспира и Шиллера. В эпоху оголтелого новаторства, обезобразившего сцену, его усилия были благородны и небесполезны.
Пользуясь безотказностью Александра Александровича, всегда готового помочь, на него наваливали всё новые и новые дела и обязанности. Не мудрено, что всевозможные Гиппиусы и Мережковские, ненавидящие Советы и не желающие на них работать, увидели в этой безотказности ретивость и скоренько заключили, что «Блок продался большевикам».
Но более всего эти люди презирали его за «Двенадцать». Они попросту не захотели или не сумели разглядеть за снежными вихрями – тонущую в метели фигурку Иисуса Христа – Вечный Символ Господнего милосердия и всепрощения. Неожиданный гениальный образ, возвысивший лучшее создание Блока до всеобщего непонимания!
Закономерность его появления в поэме становится очевидной, если учесть, что 7 января, т. е. за день до того, как Александр Александрович приступил к её написанию, поэтом был набросан план пьесы об Иисусе Христе. И воплощение бы не замедлило, если бы назавтра не соскользнуло перо и, уже не повинуясь автору, но лишь самой неизбежности, ни сотворило того, что сотворило. Вот почему в поэме запечатлелось и то, что за окнами – метель, и то, что разгулялось по России – Революция, и Тот, Кто обитает в нежном сострадающем сердце поэта – Христос.
Многие спорили о «Двенадцати». Говорили и так, и эдак. Кто-то кого-то в чём-то убеждал и что-то доказывал. В конце концов, Иисуса Христа в Революции не приняли ни те, ни другие – ни «новые», ни «бывшие». А вскоре никому не нужен оказался и сам автор нашумевшего произведения – Александр Блок.
Свою ненужность впервые и особенно остро почувствовал он уже после того, как ему было поручено редактировать «Избранные сочинения Лермонтова» для «Библиотеки классики». До этого он мирился с происходящим. И когда в 1918-м комнату, где располагалась его библиотека, заняли моряки, Александр Александрович подчинился таковому «уплотнению» вполне безропотно и целую ночь перетаскивал книги. И, когда в 1919-м поэта арестовали, он, конечно же, не без волнений, но вполне лояльно дожидался, пока на третий день усилиями Луначарского не был освобождён.
Но теперь, когда его предисловие к Лермонтову было забраковано Коллегией на том основании, что, дескать, важно не то, что Михаил Юрьевич видел сны, а то, что он был передовым поэтом, Блок даже спорить не стал. Он вдруг мучительно осознал, что отныне и навсегда командовать литературой в Советской России будет воинствующее невежество и что впереди революционных солдат и матросов брезжит не фигурка Христа, а режим безапелляционной варварской диктатуры. Для Блока это открытие явилось нравственной катастрофой.
При всём этом поэт не отвернулся от Революции. Ведь и само искусство, саму поэзию он по-толстовски был готов считать чуть ли ни виною просвещённых роскошествовавших классов перед тёмными и неимущими. Просто он почувствовал свою непригодность для участия в строительстве нового и, как он надеялся, справедливого общества. А потому тем согласнее был на любую работу, какую бы на него ни наваливали. И по-прежнему стоял перед историческими событиями с непокрытой головой. Но теперь это выглядело не как у оратора на трибуне, когда волосы – по ветру, а как у приговорённого – перед шеренгой вскинутых и нацеленных на него винтовок.
Можно ли сомневаться, что в эту страшную эпоху человек, которого многие считали «совестью России», и который «больше думал о правде, чем о счастье», был обречён. Не имея возможности приложить сердце к тому, чем он отныне вынужден был заниматься, Блок и жил, и действовал уже как бы только механически, хотя и для механического существования у него не доставало самого элементарного – еды. В пору полной разрухи и всеобщей нищеты общегражданский паёк, получаемый Александром Александровичем, не сулил ему ничего кроме голодной смерти.
А вот люди, побойчее и поразворотливей, ловчили, как могли, чтобы только пропитаться. Так, некий художник, отличавшийся особенной сметкой, кроме общегражданского пайка получал «учёный» паёк в Академии художеств, «милицейский» – за изостудию для милиционеров, «балтийский» – за дружбу с моряками и даже паёк «кормящей матери» – за лекции, прочитанные в родильном доме.
Блок изумлялся такой расторопности. Удивляло его и то, как это другие умеют читать лекции на любые темы и в любом количестве, да ещё безо всякой подготовки: «Я могу только по написанному», – смущённо признавался поэт. Импровизировать перед публикой Александру Александровичу мешала всё та же честность, не допускающая случайных слов и не выверенных мыслей.
Когда же сочувствующий голодным поэтам Корней Иванович Чуковский свёл Блока и Сологуба с неким «продовольственным комиссаром» любителем поэзии, то лицо Сологуба через неделю другую заметно округлилось, а вот Александр Александрович, разумеется, не смог, да и не пытался извлечь из этого знакомства даже наималейшей выгоды.
Голодное существование Блоков привело к распродаже артистического гардероба Любови Дмитриевны, а затем и её коллекции кружев. Тем же путём и Александр Александрович лишился своей библиотеки. Впрочем, всё шло за бесценок и к сытости не приводило.
Некоторые из поклонников Блока пытались ему как-то помочь. Но голод уже становился повсеместным и всеобщим, а возможности сочувствующих – всё скудней и скудней. Одной из наиболее известных почитательниц поэта была Н.А. Ноле-Коган. Ещё в марте 1913 года Надежда Александровна написала письмо, в котором спросила, не разрешит ли Александр Александрович присылать ему иногда красные розы?.. «Да, если хотите. Благодарю Вас», – ответил Блок.
В ноябре 1914-го они впервые встретились, а в 1917-м Надежда Александровна с семьёй, покинув Петроград, переехала в Москву. И вот теперь, весной 1920 года, она совместно со своим мужем, видным деятелем науки и культуры Петром Андреевичем Коганом, пригласила поэта в древнейшую российскую столицу и устроила ему выступления: в Политехническом – 9, 12, и 16 мая; и во Дворце искусств – 14 мая. Битком набитые аудитории, а толпы мечтающих о билете столь огромны, что и к входу не протиснуться.
На двух из этих четырёх концертов Блока побывала Марина Цветаева, прежде не видевшая его ни разу. А значит, имелась у неё возможность познакомиться с поэтом. И прекрасным поводом послужили бы «Стихи к Блоку», написанные Цветаевой за четыре года до этого и лежавшие теперь у неё в кармане. Гордость ли не позволила или наоборот «священный трепет»? Не подошла, не обратилась. А стихи передала через свою восьмилетнюю дочь Ариадну. Было в них и пророческое:
Думали – человек!
И умереть заставили…
Цветаевские стихи, посвящённые ему, Блок тут же пробежал глазами, причём, с улыбкой, которая в эту пору посещала его очень и очень редко…
Успех Московских выступлений поэта был огромен. Такого публичного триумфа русская поэзия, пожалуй, ещё не знала. Не знала она и столь мизерных гонораров, как тот, что получил за них непритязательный Александр Александрович.
В октябре того же года ему предложили опять приехать в Москву для выступлений. Отказался, сославшись на то, что «слишком рано», а также на неважное самочувствие и обветшалый гардероб: «Нельзя читать, имея вид ветерана наполеоновской армии – уже никто не влюбится, а те-то, которые, было, весной влюбились, навсегда отвернутся от такого человека…»
В эту пору на Блока навалилась новая толика забот. Он оказался одним из организаторов и первым председателем Союза поэтов в Петрограде. Хотя поначалу и сомневался в целесообразности, даже в самой возможности такого Союза, поскольку поэты «такие разные и друг на друга непохожие в самом существенном, в понимании и видении жизни».
Однако, теперь, дав себя уговорить, Александр Александрович пунктуально и терпеливо выполнял свои, по большей части хозяйственные, обязанности: для кого-то хлопотал о пайках, кого-то обеспечивал дровами, кого-то одеждой, улаживал мелкие ссоры и дрязги. Иногда поэт порывался оставить этот почётный пост, но все дружно, хором упрашивали, умоляли, заклинали продолжать работу.
Не столько труды попечительства угнетали Блока, сколько расхождение с этим самым Союзом во взглядах на поэзию и её цели. Заложник своей славы и врождённого доброжелательства, не умел он покинуть эту чуждую ему организацию, хотя и далёких по духу, но тоже не защищённых и нуждающихся в поддержке людей.
7-го октября 1920 года, когда Блок выступил за вхождение Союза поэтов во Всероссийский союз работников искусства, дабы приобрести больше реальных прав, «акмеисты» во главе с Гумилёвым взбунтовались и даже потребовали переизбрания Правления. В дискуссионной горячке Блок был забаллотирован. Но, поостыв, расшумевшиеся поэты поняли, как они принизили свой Союз, лишив его такого председательства.
И тогда члены Союза явились к Блоку домой. Толпились на лестнице, во дворе. Упросили-таки остаться. Однако согласился Александр Александрович с оговоркой, чтобы его не загружали хозяйственными вопросами. Когда в январе 1921-го новым председателем был избран Гумилёв, для Блока это освобождение от почётного ярма стало подлинным праздником.
Однако стихи по-прежнему не писались. Ещё в 1920-ом вышла его 6-я книга лирики «Седое утро», составленная из написанного давным-давно. Тогда же, выскребая последнее из неопубликованного, поэт выпустил сборник своих юношеских стихов «За гранью лет». На следующий год Блок доберётся и до своих отроческих стихов, но издать не успеет.
Только нужда, только голод заставляли его печатать и читать на выступлениях старые стихи, что поэт считал «недобросовестным делом». На вопросы, почему он не создаёт новое, отвечал: «Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?» А в одном из писем выразился ещё определённее: «Новых звуков давно не слышно… Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве».
Вся его пёстрая многосложная деятельность подручного на культурном фронте Революции, увы, не искупала творческого безмолвия поэта. При кажущейся значительности, была она жалкой суетой на фоне великого поэтического призвания, которому Блок в последние годы своей жизни изменил. Впрочем, так ли это? Не будет ли точнее сказать, что поэзия ему изменила? В любом случае крест своего отлучения от неё нёс он, не жалуясь, не ропща, с трагизмом, самым непритворным и мучительным.
Ослушавшись гениального Пушкина, лет за сто до этого обратившегося к толпе: «Жрецы ль у вас метлу берут?» – Блок, аналогично Маяковскому, пожелал послужить Революции. Но даже для Владимира Владимировича, вышедшего «строить и месть в сплошной лихорадке буден», при всём его демократизме и разночинной закваске, метла оказалась непосильна. Что же говорить о белой косточке, о последнем поэте из дворян – Александре Блоке? Будь то метла, или, скажем, лопата, а всегда полезно помнить Божественную премудрость – не зарывайте талант в землю! А иначе – «тьма внешняя и скрежет зубовный».
Прежде, чем перейти к рассказу о заключительном периоде жизни поэта, уместно вспомнить ещё об одной библейской истине: «Не создай себе кумира». Кумиром Александры Андреевны, матери поэта, а через неё и кумиром её сына, причём, с юношеских лет, был Аполлон Григорьев. И едва ли не более всего им обоим импонировало в этом уже покойном поэте его катастрофически трагическая судьба.
Нет, даже не импонировала, но авансом через сопоставление с собственной Александра Александровича, ещё не до конца развернувшейся, воспринималась, как нечто безусловно близкое и родное. Отношение к Аполлону Григорьеву со стороны друзей и знакомых даже служило некою мерой духовного единения с Блоками. Это поклонение и настроенность на трагедию уже сами по себе вели Александра Александровича к ужасному финалу через ряд весьма горьких и страшных мизансцен.
Зима 1820–1821 годов своим холодом и голодом оказалась для поэта непосильной. К весне Блок тяжело, неизлечимо заболел. Но прежде того, 11 февраля 1921-го в Петроградском Доме литераторов, на чествовании памяти Пушкина выступил Александр Александрович с речью «О назначении поэта». Как в своё время Достоевский, и он прочёл её по тетрадке; как тогда Достоевскому, и ему оставалось только полгода жизни. Таким образом, прочитанные Достоевским и Блоком Пушкинские речи 1880 и 1921 годов, как бы радугой небесной соединили приход и уход ещё одного великого русского поэта.
Блоковское «О назначении поэта», направленное против формалистических тенденций, которыми изобиловала поэзия начала века, оказалось его поэтическим завещанием. Впрочем, и в этой, по существу, прощальной речи Александр Александрович оказался не свободен от символистской схоластики: «Поэт – сын гармонии, и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых – освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых – привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в третьих – внести эту гармонию во внешний мир…»
Разумеется, такого рода рассуждения, как бы вне времени и пространства, были не более, чем родимыми пятнами Соловьёв-ского влияния, Блоком так и не изжитого. И эти символистские перепевы, а во многом и сама личность Александра Александровича уже выглядели живым анахронизмом. Среди героев и приспособленцев, на которых поделила его современников трудная эпоха, он продолжал идти своим единственным путём – человеческого достоинства и правды.
Заботою о ближайших приемниках на высоком поприще проникнуто и другое его произведение, написанное в эту же пору: «Без божества, без вдохновенья».
Если припомнить контекст Пушкинской строки, давшей название этой статье, то политическое изгнание, остракизм, которому вскоре подверглись многие из упомянутых Блоком поэтов, тут попросту предсказан, ибо они, действительно оказались: «В глуши, во мраке заточения».
Можно только изумляться точности диагноза, поставленного Блоком: именно бездуховность, именно непонимание своего великого предназначения было их главной слабостью. Вспомним хотя бы Ахматовское:
Подумаешь, тоже работа,
Беспечное это житьё,
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за своё.
А разве Мандельштам не считал поэзию «частным делом»? Трагедия его жизни, неотступное преследование со стороны властей – убедительное, хотя и горькое опровержение этого наивного заблуждения. Слово – связующее начало между людьми, уже по самой своей природе не может быть частным, т. е. личным делом, тем более, поэтическое.
Конечно, вполне допустимо держать его в письменном столе или даже в каком-нибудь чрезвычайно секретном тайнике. Но рано или поздно, обнаружившись, оно совершит свою созидательную или разрушительную работу в зависимости от своего основного свойства: что это – граната с наконец-то выдернутой чекой или источник живой благодати?
Когда-то одевавшийся с аристократическим изяществом, поэт и теперь, пребывая в нужде, старался выглядеть прилично: всё чистое, аккуратное, выглаженное; обувь начищена. Не позволял себе ни распускаться, ни опускаться. И его тщательность в костюме происходила, скорее, от воспитанности, от культуры, а не от снобизма и проявлялась, как долг перед окружающими.
Но самой неукоснительной своей обязанностью поэт почитал честность, весьма неудобное качество, нередко заставлявшее его страдать. К примеру, такой случай. Писатель Леонид Андреев, преклонявшийся перед Блоком, как-то после своей премьеры, спросил у поэта – нравится ли тому его пьеса? Присутствующий при разговоре Чуковский вспоминает, что «Блок потупился и долго молчал, потом поднял глаза и произнёс сокрушённо: «Не нравится». И через некоторое время: «Очень не нравится»».
Между тем, наступали времена, когда не то, что за правду, но за любое неосторожное слово можно было лишиться головы. И в этом смысле Александр Александрович был, конечно, не жилец. Ну, а пока от режима, не отрицаемого им, но всё более и более чуждого его нравственной и культурной природе, поэт дистанцировался посредством, хотя и добродушной, но не безопасной иронии.
Должно быть, предощущая новых идолов, которыми Советская власть ещё уставит городские площади и скверы, Александр Александрович, как бы авансом, все встречающиеся на улице памятники называл «Карлами Марксами». Евгения Книпович, с которою он частенько совершал прогулки, припоминает один из разговоров на эту тему:
«Это кто?» – спрашиваешь, указывая на Радищева. – «Карл Маркс». – «А это?» – на Чернышевского. – «Карл Маркс». – «Да ведь Карл Маркс с большой бородой». – «Ничего, это он в молодости». – «А этот ведь в напудренном парике». – «Это он в маскараде»…
Пройдёт совсем немного лет, и за такие шутки будут сажать. Нет, не жилец… Ну, а пока – человек совсем иного мира, его непрочная тень, Блок продолжал своё кажущееся всё более и более фантастическим существование. Неизменно вежлив, точен, исполнителен – что бы вокруг не творилось. Даже во время Кронштадтского мятежа не отменил свою лекцию в Литературной студии, хотя присутствовал на ней всего один студиец, отогревавший в руках чернильницу с замёрзшими чернилами, чтобы лектор смог в ведомости расписаться. Так Александр Александрович ещё и вместо одного часа два прочитал! О французских романтиках – под раздающиеся неподалёку пушечные залпы!
25 апреля 1921 года в БДТ был устроен большой авторский вечер Блока. Театр вмещал до двух тысяч зрителей. Однако желающих посмотреть, может быть, на последнего великого русского поэта, может быть, в последний раз оказалось много больше. Публикою были забиты проходы в партере и на ярусах. Знакомые поэта толпились за кулисами. Блок был уже очень и очень болен… Вскоре не менее многолюдно и шумно ему предстояло проститься с москвичами.
Любой человек, думается, сумел бы выторговать за свои столь широкие выступления приличный гонорар, любой, но не Блок. Будучи слишком щепетилен, Александр Александрович, очевидно, полагал, что в голодное время и крохи, заплаченные ему устроителями, – невообразимая щедрость.








