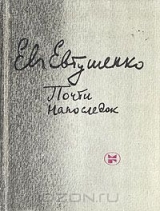
Текст книги "Почти напоследок"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
свою скульптуру с маху раздробя,
голодный и холодный, – но свободный
от веры унизительной в себя.
4 Е. Евтушенко
непонятным поэтам
Я так завидовал всегда
всем тем,
что пишут непонятно,
И ЧЬЯ стихи,
как полупятна
из полудыма-полульда.
Я формалистов обожал,
глаза восторженно таращил,
а сам трусливо избежал
абракадабр
и тарабарщин.
Я лез из кожи вон
в борьбе
со здравым смыслом, как воитель,
но сумасшедшинки в себе
я с тайным ужасом не видел.
Мне было стыдно.
Я с трудом
над сумасшедшинкою бился.
Единственно,
чего добился, —
вся жизнь —
как сумасшедший дом.
И я себя, как пыткой, мучил —
ну в чем же я недоборщнл
и ничего не отчубучил
такого,
словно: «дыр... бул... щнр...»?
О, непонятные поэты!
Единственнсйшие предметы
белейшей зависти моей...
Я —
из понятнейших червей*
Ничья узда вам не страшна,
вас в мысль никто не засупонил,
и чье-то:
«Ничего не понял...» —
вам слаще мирра и вина.
Творцы блаженных непонитиц,
поверх сегодняшних минут
живите,
верой наполняясь,
что вас когда-нибудь поймут.
Счастливцы!
Страшно, между тем,
быть понятым, но так превратно,
всю жизнь писать совсем понятно,
уйдя непонятым совсем...
первый день поэзии
А первый День поэзии —
он был
в том перевальном —
пятьдесят четвертом,
когда на смену словесам затертым
слова живые встали из могил,
а новые великие слова
ходить учились,
но едва-едва.
Тот не взлетел,
кто по полу не ползал,
и новые слова,
в кости тонки,
себе носы расквашивали об земь,
но вдруг взлетели,
сбросив «ползунки»...
Был праздник тот придуман Луговским.
Хвала тебе,
красавец-бровеносец!
Поэзия,
на приступ улиц бросясь,
их размывала шквалом колдовским.
Кто временем рожден —
рождает время.
Цветы,
летя,
хлестали по лицу,
и маг ^зины книжные ревели:
«На у-ли-цу!»
Я помню, в магазине книжном Симонова
сквозь двери люди перли напролом,
и ред! ими в то время мокасинами
он, растерявшись,
хрупанул стеклом.
А что .у меня было, кроме глотки?
Но молодость не ставилась в вину,
и я тычком лукошшского локтя
был вброшен и в эпоху,
и в страну.
Л ИЗ ТОЛПЫ,
совсем неприрученно,
зрачками азиатскими кося,
смотрели с любопытством татарчонка
безвестной Лхмадулиной глаза.
Когда и нам поставят люди
памятники,
пусть не считают,
что мы были – паиньки.
В далекую дофпрсовскую эру
читали мы
и площади,
и скверу.
Еще не поклонялись Глазунову,
а ждали слова —
слова грозового.
Карандаши ломались о листочки —
студенты,
вчетвером ловя слова,
записывали с голоса по строчке,
и по России шла гулять строфа.
Происходило чудо оживанья
доверия,
рожденного строкой.
Поэзию рождает ожиданье
поэзии —
народом
и страной.
53
Дмитрий Гулиа
И пришли мы к поэту
с Алешей Ласуриа,
и читали стихи,
где все было всему вперекор,
словно это пришло
молодое прекрасное наше безумие
на беседу
к всевышнему разуму гор.
Разум не оскорбляет безумия,
если он разум.
Дмитрий Гулиа слушал,
тихонько гранат надломя,
наблюдая за нами
открытым единственным глазом,
будто многое слишком
боялся увидеть двумя.
Что он видел открытым зрачком,
нас жалеющим так по-хорошему?
То, что сразу всех скал
не пробьет ни кирка,
ни кувалда
и ии долото?
Может быть, как безвременно жизнь оборвется Алешина,
и как я заживусь?
А что хуже – не знает никто.
Что он видел закрытым,
направленным внутрь
и в историю,
виноградарь духовный,
отец,
просветитель,
поэт?
Беспросветности нет,
если есть хоть светинка одна нерастоптанная.
* * *
Наверно, с течением дней
я стану еще одней.
Наверно, с течением лет
пойму, что меня уже нет.
Наверно, с теченьем веков
забудут, кто был я таков.
Но лишь бы с течением дней
не жить бы стыдней и стыдней.
Но лишь бы с течением лет
двуликим не стать, как валет.
И лишь бы с теченьем веков
не знать на могиле плевков!..
восьмилетний поэт
На перроне, в нестертых следах Пастернака
оставляя свой след,
ты со мной на прощанье чуть-чуть постояла,
восьмилетний поэт.
Я никак не пойму – ну откуда возникла,
из какого дождя,
ты, почти в пустоте сотворенная Ника,
взглядом дождь разведя?
Просто девочкой рано ты быть перестала,
извела себя всю.
Только на ноги встала и сразу восстала
против стольких сю-сю.
Ты как тайная маленькая королева.
Вы с короной срослись.
Все болезни, которыми переболела,
в лоб зубцами впились.
Я боюсь за тебя, что ты хрустнешь, что
дрогнешь.
Страшно мне, что вот-вот
раскаленпой короны невидимый обруч
твою челку сожжет.
Карандаш в твоих пальчиках тягостней жезла,
из железа – тетрадь.
Тебе нечего, если у ног твоих бездна,
кроме детства, терять.
Может, это спасение на беспоэтьи,
если, словно со скал,
прямо в пропасть поэзии прыгают дети,
заполняя провал?
Если взрослые пропасти этой боятся,
дети им отомстят.
Неужели Гомера нам выдвинут ясли
и Шекспира – детсад?
Дети – тайные взрослые. Это их мучит.
Дети тайные – мы.
Недостаточно взрослые мы, потому что
быть боимся детьми.
На перроне, в нестертых следах Пастернака
оставляя свой след,
ты вздохнула, как будто бы внутрь простонала,
восьмилетний поэт.
Ты рванулась вприпрыжку бежать по перрону,
но споткнулась, летя,
об уроненную на перроне корону,
вновь уже не дитя.
И с подножки глаза призывали на поезд
в жизнь, где возраста кет.
До свидания! Прыгать в твой ноезд мне поздно,
восьмилетний поэт.
краденые кони
Ш. Нишнианидзе
Травы переливистые,
зенки черносливнстмс,
а на сахар —
с первого куска.
Если копи краденые,
значит, богом даденные,
это конокрадов присказка.
В городе Олекминске
слышал я о ловкости
конокрада Прохора Грязных.
Он имел бабеночку,
а она избеночку
в голубых наличниках резных.
Было там питейное
заведенье ейное
с европейской кличкой «Амстердам».
Под пудами Прохора
ночью она охала,
дозволяя все его пудам.
Жилища да силища —
лучшая кобылища
изо всех, что Прохор уводил.
Так сомлела, зиачитца,
от любви кабатчица,
что с ума сходила без удил.
Он ей – шоколадочек,
а она – лошадочек,
гладеньких и сытых —
без корост.
Он ее подкладывал,
а потом подгадывал
слямзить из-под носа
конский хвост.
Дрых купец одышчиво,
ерзал бородищею
между двух наливистых грудей,
и, с причмоком цыкая,
Прохор вроде цыгана
уводил купецких лошадей.
Жгла по-нехорошему
ненасытность Ирошнна,
у него скакал в руках стакан,
и дошел от жжения
аж до разложения —
крал коней он даже у цыган.
Эта пара ленская,
в жадности вселенская,
по ночам кайлила
год-другой,
и под монополией
вырыла под пол ие,
чтобы конь входил туда с дугой.
Прохор полз улнточкой,
ну а был улизчивый
улизнуть умел – да еще как,
и влетала классная
троечка атласная
с бубенцами прямо под кабак.
Мешковиной ржавою
затыкал он ржание,
а когда облавы и свистки —
быстро, без потепия
обухом по темепп,
и на колбасу шли рысаки.
И под ту колбасочку
свою водку-ласочку
пьяницы челомкали в тоске.
Вот какое дамское
блюдо амстердамское
подавали в русском кабаке!
Справедливость Прохора
шкворнями угрохала;
по башке добавили ковшом,
а его любовницу,
кралю-уголовницу,
в кандалах пустили нагишом.
Магдалина ленская,
вся такая женская,
к чалому привязана хвосту,
шла она без грошика
и шептала «Прошенька!»
конокраду,
будто бы Христу.
...До сих пор над Леною,
рядом с нятистениою
чудом уцелевшею избой
сквозь шальную дымочку
в неразним-обнимочку
шляется любовь,
а с ней разбой.
Я не сплю в Олекминске,
будто бы поблескивает
ножичками Прошкнна родня,
будто лживо-братские
руки конокрадские
бубенцы обрезали с меня.
А когда метелица
вьюгою отелится —
в знобких завываниях зимы
чудится треклятое
ржание зажатое
краденых коней из-под земли...
фанаты
Фанатиков
я с детства опасался,
как лунатиков.
Они
в защитных френчах,
в габардине
блюджинсовых фанатов породили.
Блюджинсы —
дети шляпного велюра.
Безверья мать —
слепая вера-дура.
Фанат —
на фанатизм карикатура.
И то, что было драмой,
стало фарсом —
динамовством,
спартаковством,
дикарством,
и фанатизм,
скатясь до жалкой роли,
визжит, как поросенок,
на футболе.
Ушли фанатики.
Пришли фанаты.
Что им бетховенские сонаты!
Их крик и хлопанье:
«Спартак! Спартак!»
как пулеметное:
«Так-так-так».
Орут подростки,
визжат девчонки:
«Ломай на доски!
Врезай в печенки!»
Шалят с хлопушками,
пьяны от визга,
не дети Пушкина,
а дети «диско»,
и стадионы
с их голосами
как банки вздувшиеся
с ивасями.
Что сник болельщик,
пугливо зырищип,
с родной,
запазушной,
бескозырочной?
Что вы мрачнеете,
братья Старостины?
Вам страшноватенько
от этой стадности?
Идут с футбола,
построясь в роты,
спортпатриоты —
лжепатриоты.
Идут блюджинсовые фанаты.
В руках —
невидимые гранаты.
Неужто в этом вся радость марша
толкнуть старушку:
«С пути, мамаша!»
Неужто в этом
вся тяга к действию —
ногой отшвыривать
коляску детскую?
На шарфах, шапочках
цвета различные,
а вот попахивают коричнево.
Звон медальонов
на шеях воинства.
Чьи п них портреты —
подумать боязно.
Идут фанаты,
так закаленной,
какой —
мне страшно сказать —
колонной...
Л ты,
мальчишечка пэтэушный,
такой веснушный
и простодушный,
зачем ты вляпался,
нвасек,
во все, что, видимо, не усек!
Беги, мальчишечка,
свой шарфик спрятав,
н от фанатиков,
и от фанатов.
Л я -
болельщик времен Боброва,
болею преданно,
хотя сурово.
Себя не жалую.
Вас не жалею.
Я – ваш болельщик.
За вас болею.
Бесконечное дело
Попытка,
когда она стала пожизненной, —
пытка.
Я п стольких попытках
отчаянно мир обнимал,
и снова пытался,
и черствой надеждой питался,
да так зачерствела она,
что я зубы себе обломал.
И я научился,
как будто бы воблою ржавою,
как заплесневелою коркой,
сходящей порой за любовь,
питаться надеждой,
почти уже воображаемой,
при помощи воображаемых
прежних зубов.
Я в бывших зубастых заметил такую особенность,
к которой особенности никакой —
гражданскую злость
заменила трусливо озлобленность,
и фигокарманство
и лозунг скопцов:
«А на кой?!»
Ведь лишь допусти
чью-то руку во рту похозяйничать —
зуб трусости вставят,
зуб хитрости ввинтят на самых надежных штифтах,
и будет не челюсть,
а что ни на есть показательность —
и нету зубов,
а как будто бы все на местах.
И я ужаснулся,
как самой смертельной опасности,
что стану одним из спасателей
личных задов,
что стану беззубой реликвией
бывшей зубастости,
и кланяться буду
выдергивателям зубов.
Т«гда я прошелся,
как по фортепьяпо,
по челюсти.
Зуб мудрости сперли.
Торчит лишь какая-то часть.
Но знаете —
все коренные пока еще в целости,
и руку по локоть
мне в рот не советую класть.
А кто-то за лацкан берет меня:
«Слушай, тебе еще не надоело?
Ты все огрызаешься...
Что ты играешь в юнца?
Нельзя довести до коыца
бесконечное дело —
ведь всем дуракам и мерзавцам
не будет нонца».
Нельзя заменить
на прекрасные лица все рыла,
нельзя научить палачей
возлюбить своих жертв,
нельзя переделать все страшное то,
что к несчастию было,
но можно еще переделать
грядущего страшный еюжст.
И надо пытаться
связать всех людей своей кровью, как ншгкой,
чтвб стал человек человеку
действительно брат,
и если окажется жизнь
лишь великой попыткой,
го все-таки это —
великий уже результат.
Нельзя озлобляться
но если хотят растерзать ее тело,
то клацнуть зубами
имеет моральное право овца.
Нельзя довести до конца
бесконечное дело,
но все-таки надо
его довести до конца.
проходные дети
Облака над городом Тольятти,
может, из Италии плывут.
Был бы я севрюгою в томате,
вряд ли оказался бы я тут.
Колбаса застенчиво таится,
и сияет всюду из витрин
огуречный сок из Кутаиси —
говорят, лекарство от морщин.
Кран берет легко машины в лапы,
и к малоизвестным господам
едут на илатформах^наши «Лады»
в города Париж и Амстердам.
Чинно происходит пересменка.
Два потока встречных у ворот.
Клавдия Ивановна Шульжен-ко
«Вальс о вальсе» в рупоре поет.
Мама второсменная шагает
с трехгодовым сыном среди луж,
и толпу глазами прожигает —
где он, первосменный ее муж?
II под этот самый «Вальс о вальсе»
говорит в гудящей проходной:
«Получай подарок мокрый, Вася,
да шмаляй домой, а не к пивной».
Кто-то застревает в турникете —
видно, растолстел от запчастей.
Называют «проходные дети»
в проходной вручаемых детей.
С видом неприкаянно побочным
там стоят укором и виной
в «Диснейленде» нашем шлакоблочном
«проходные дети» в проходной.
В пашем веке, кажется, двадцатом —
это же такая всем нам стыдь!
Стал бы я огромным детским садом,
чтобы всех детей в себя вместить.
Отдал бы я все мои рифмишки,
славы натирающий хомут
и пошел бы в плюшевые мишки,
да меня, наверно, не возьмут.
То ли рупор этот раскурочить,
то ли огуречный тяпнуть сок?
Клавдия Ивановна, погромче!
Клавдия Ивановна, вальсок!
69
плач по коммунальной
квартире
Плачу но квартире коммунальной,
будто бы по бабке повивальной
слабо позолоченного детства,
золотого все-таки соседства.
В нашенской квартире коммунальной,
деревянной и полуподвальной,
под плакатом Осоавиахима
общий счетчик слез висел незримо.
В нашенской квартире коммунальной
кухонька была исповедальней,
и оркестром всех кастрюлек сводным,
и судом, воистину народным.
Если говорила кухня: «Лярва», —
«Стерва» – означало популярно.
Если говорила кухня: «Рыло»,
означало – так оно и было.
В три ноздри три чайника фырчали,
трех семейств соединив печали,
и не допускала ссоры грязной
армия калош с подкладкой красной.
Стирка сразу шла на три корыта.
Лучшее в башку мне было вбито
каплями с чужих кальсон, висящих
на веревках в белых мокрых чащах.
Наволочки, будто бы подружки,
не скрывали тайн любой подушки,
и тельняшка слов стеснялась крепких
в вдовьей кофтой рядом на прищепках.
Если дома пела моя мама,
замирали в кухне мясорубки.
О чужом несчастье телеграмма
прожигала всем соседям руки.
В телефон, владевший коридором,
все секреты мы орали ором
и не знали фразы церемонной:
«Это разговор не телефонный».
Нас не унижала комму нал ьность
ни в жратве, ни в храпе, ни в одеже.
Деньги как-то проще занимались,
ибо коммунальны были тоже.
Что-то нам шептал по-человечьи
коммунальный кран водопровода,
и воспринималось как-то легче
горе коммунальное народа.
Л когда пришла Победа в мае,
ко всеобщей радости и плачу, —
все пластинки, заглушив трамваи,
коммунально взвыли «Кукарачу».
Взмыли в небо каски и береты.
За столами места всем хватило.
Вся страна сдвигала табуреты,
будто коммунальная квартира.
Плачу по квартире коммунальной,
многодетной и многострадальпой,
где ушанки в дверь вносили вьюгу,
прижимаясь на гвоздях друг к другу.
Неужели я сбесился с жиру,
вспомнив коммунальную квартиру?
Не бесились мы, когда в пей жили
не на жире, а на комбижире.
Бешенство – оно пришло позднее.
Стали мы отдельней, стали злее.
Разделило, словно разжиренье,
бешенство хватанья, расширенья.
Были беды, а сегодня бедки,
а ведь хнычем в каждом разговоре.
Маленькие личные победки
победили нас и раскололи.
В двери вбили мы глазки дверные,
но не разглядеть в гляделки эти,
кто соседи наши по России,
кто соседи наши по планете.
Я хочу, чтоб всем всего хватило —
лишь бы мы душой не оскудели.
Дайте всем отдельные квартиры —
лишь бы души не были отдельны!
Со звериной болью поминальной
плачу по квартире коммунальной,
по ее доверчиво рисковом
двери бесцепочнон, безглазковой.
И когда пенсионер в подпитье
заведет случайно «Кукарачу»,
плачу я по общей победе,
плачу я по общему плачу.
размышления
у черного хода
Зина Пряхина из Кокчетава,
словно Муромец, в ГИТИС войдя,
так Некрасова басом читала,
что слетел Станиславский с гвоздя.
Созерцали, застыв, режиссеры
богатырский веснушчатый лик,
босоножки ее номер сорок
и подобный тайфуну на'рик.
А за нею была,– пилорама,
да еще'заводской драмкружок,
да из тамошних стрелочниц мама
и заштопапный мамин*флажок.
Зину словом нпкто не обидел,
но при атомном взрыве строки:
«Назови мне такую обитель...» —
ухватился декан за виски.
И пошла она, солнцем палима,
поревела в пельменной в углу,
но от жажды подмостков и грима
ухватилась в Москве за метлу.
Стала дворником Пряхппа Зина,
лед арбатский долбает сплеча,
то Радзинского, то Расина
с обреченной надеждой шепча.
И стоит она с тягостным ломом,
погрузясь в театральные сны,
перед важным одним гастрономом,
но с обратной его стороны.
II глядит потрясенная Зина,
как выходят на свежий снежок
знаменитости из магазина,
словно там «Голубой огонек».
У хоккейного чудо-героя
пахнет сумка «Адидас» тайком
черноходною черной икрою
и музейным почти балыком.
Вот идет роковая певица,
всех лимнтчиц вводящая в транс,
и предательски гречка струится
прямо в дырочку сумки «Эр Франс».
У прославленного экстрасенса,
в снег роняя кровавый свой сок,
в саквояже уютно уселся
нежной вырезки смачный кусок.
Так прозрачно желают откушать
с непрозрачными сумками все —
парикмахерши и педикюрши,
психиатры и конферансье.
II теперь подметатель, долбитель
шепчет в мамином ветхом платке:
«Назови мне такую обитель...» —
Зипа Пряхина с ломом в руке.
Лом не гнется, и Зина не гнется,
ну а в царстве торговых чудес
есть особый народ – черноходцы,
и своя Черноходия есть.
Зина, я в доставаньях не мастер,
но следы на руках все стыдней
от политых оливковым маслом
ручек тех черпоходных дверей.
Л когда-то, мальчишка невзрачный,
в бабьей очереди тыловой
я хранил на ладони прозрачной
честный номер – лиловый, кривой...
И с какого же черного года
в нашем времени ты завелась,
психология черного хода
и подпольного нэпманства власть?
Самодержцы солений, копчений,
продуктовый н шмоточный сброд
проточить бы хотели, как черви,
в красном знамени черный свой ход.
Лезут вверх по родным, по знакомым,
прут в грядущее, как в магазин,
с черноходным дипломом, как с ломом,
прошибающим пряхиных зин.
Неужели им, Зина, удастся
в их «Адидас» впихнуть, как в мешок,
знамя красное государства
и заштопанный мамин флажок?
Зина Пряхина из Кокчетава,
помнишь – в ГИТИСе окна тряслись?
Ты Некрасова не дочитала.
Не стесняйся. Свой голос возвысь.
Ты прорвешься на ецену с Арбата
и не с черного хода, а так...
Разве с черного хода когда-то
всем народом вошли мы в рейкстаг?!
производители уродства
Производители уродства,
ботинок
тяжких, как гробы,
тех шляп,
куда как внутрь колодца,
угрюмо вныривают лбы —
скажите, вас еще не мучил,
как будто призрак-лиходей,
костюм для огороднвтх чучел,
бросающийся на людей?
У вас поджилки не трясутся
от липких блуз,
от хлипких бус,
производители отсутствия
присутствия
того, что вкус?
Уродство выросло в заразу.
Вас не пронизывает стыд
за мебель,
у которой сразу
болезнь слоновья
и рахит?
В поту холодном просыпаюсь.
Я слышу лязгающий сон —
распорот лермонтовский парус
для ваших варварских кальсон.
11роизводители уродства,
вы так хватаетесь за власть.
Производить вам удается
друг друга,
чтобы не упасть.
Производители уродства,
производители того
иреступнейшего производства,
76
которое —
пи для кого.
На плечи Лопдон вы надели,
впихнули ноги в Рим рожком,
и даже запонки из Дели...
А как же быть с родным Торжком?
Производители уродства,
захламливатели земли,
вы проявите благородство —
носите, что произвели!
Наденьте,
словно каждый – витязь,
бюстгальтеры,
как.шишаки,
и хоть на время удавитесь
удавкой
галстучной кишки!
А мы,
заплакав через силу,
в честь ваших праведных трудов
к вам
соберемся
на могилу
в мильонах
траурных трусов!
77
кабычегопевышлисты
Не всякая всходит идея,
асфальт пробивает по всякое
семя
Кулаком по земному шару
Архимед колотил, как
всевышний,
«Дайте мне точку опоры,
и я переверну всю землю!», —
но не дали этой точки:
«Кабы чего не вышло...»
«Кабы чего не вышло...» —
в колеса вставляли палки
первому паровозу —
лишь бы столкнуть с пути,
и в скальпель хирурга вцеплялись
всех коновалов пальцы,
когда он впервые разрезал
сердце – чтобы спасти.
«Кабы чего не вышло...» —
сыто и мордовито
ворчали на аэропланы,
на электрический свет.
«Кабы чего не вышло...» —
и «Мастера и Маргариту»
мы прочитали с вами
позднее на двадцать лет.
Прощание с бормотухой
для алкоголика – горе.
Прыгать в рассольник придется
соленому огурцу.
Но евть алкоголики трусости —
особая категории.
«Кабычегоневышлисты» —
по образному словцу.
Их руки дрожат, как от пьянства,
их ноги нетрезво
подкашиваются,
когда им дают на подпись
поэмы и чертежи,
и даже графины с водою
побулькивают по-алкаьнески
у алкоголиков трусости,
у бормотушников лжи.
И по проводам телефонным
ползет от уха до уха,
как будто по сладким шлангам,
словесная бормотуха.
Вместо забот о хлебе,
о мясе,
о чугуне
слышится липкий лепет:
«Кабы... чего... не...»
Па проводе Петр Сомневалыч.
Его бы сдать в общепит!
Гражданственным самоваром
он весь от сомнений кипит.
Лоб медный вконец распаялся.
Прет кипяток сквозь швы.
Но все до смешного ясно:
«Кабы... чего... не вы...»
Выставить бы Филонова
так, чтобы ахнул Париж,
но —
как на запах паленого:
«Кабы... чего... не выш...»
Пока доказуются истины,
рушатся в никуда
кмбычегоневышлисгчмя
высасываемые года...
Кабычегоневышлизмо;.!,
как засухой,
столькое выжгло.
Под запоздалый дождичек
стыд подставлять решето.
Есть люди,
всю жизнь положившие,
чтобы хоть что-нибудь
вышло,
и трутни,
чей труд единственный —
чтобы не вышло
ничто.
Взгляд на входящих нацелен,
словно двуствольная «тулка»,
как будто любой проситель —
это тамбовский волк.
Сейф, где людские судьбы, —
волокитовая шкатулка,
которая впрямь по-волчьи
стальными зубами: «Щелк!»
В доспехах из резолюций
рыцари долгого ящика,
где даже носастая Несси
и та не наткнется на дно,
не лучше жуков колорадских
и морового ящура
хлеба и коров пожирали
с пахарями заодно.
II овдовела землица,
лишенпая ласки сеющего,
затосковала гречиха,
клевер уныло полег,
и подсекала иод корень
измученный колос
лысенковщина,
и квакать учились курицы,
чтоб не попасть под налог.
И лопающемся френче
Кабычегоневышлистенко,
сограждан своих охраняя
от якобы вредных затей,
видел во всей кибернетике
лишь мракобеске и мистику
и отнимал компьютеры
у будущих наших детой.
И, отвергая все новое,
откладыватели,
непущатели:
«Это беспрецедентно!» —
грозно махали печатями,
забыв,
что с ветхим ружьишком,
во вшах,
разута,
раздета,
Октябрьская революция
тоже беспрецедеитна!
Я приветствую время,
когда
по законам баллистики
из кресел летят вверх тормашками —
«кабычегоновышлистики».
Великая Родина наша,
из кабинетов их выставь,
дай им проветриться малость
на нашем просторе большом.
Когда карандаш-вычеркиватель
у кабычегопевышлистов,
81 6 Е. Евтушенко
есть пропасть
меж красным знаменем
п красным карандашом.
Па знамени Серн и Молот
страна не случайно вышила,
а вовсе не чье-то трусливое:
«Кабы чего не вышло...»!
Почти напоследок:
я,
мяса полжизни искавший погнутою вилкой
в столовских котлетах,
в неполные десять
ругнувшийся матом при тете,
к потомкам приду,
словно в лермонтовских эполетах,
в следах от ладоней чужих
с милицейски учтивым «пройдемте!».
Почти напоследок:
я – всем временам однолеток,
земляк всем землянам
и даже галактианам.
Я,
словно индеец в Колумбовых ржавых браслетах,
«Фуку!» прохриплю перед смертью
поддельно бессмертным тиранам.
Почти напоследок:
поэт,
как мопета петровская,
сделался редок.
Он даже пугает
соседей по шару земному,
соседок.
Но договорюсь я с потомками —
так или эдак —
почти откровенно.
Почти умирая.
Почти напоследок.
КОНЕЦ
Гавана – Санто-Доминго – Гуернавака – Лима – Манагуа —
Каракас – Венеция – Леондинг – станция Зима – Гульрипи —
Переделкино.
1963-1985 гг.
Фуку . Поэма
Сбивая наивность с меня, малыша,
мне сыпали ум с тараканами в щи,
мне мудрость нашёптывали,
шурша,
вшитые
в швы рубашки вши.
Но бедность – не ум,
и деньги – не ум,
и всё-таки я понемножечку
взрослел неумело,
взрослел наобум,
когда меня били под ложечку.
Я ботал по фене,
шпана из шпаны,
слюнявил чинарик подобранный.
Кишками я выучил голод войны
и вызубрил родину рёбрами.
Мне не дали славу -
я сам её взял,
но, почестей ей не оказывая, набил свою душу людьми, как вокзал во время эвакуации.
В душе моей больше чем семьдесят стран,
все концлагеря,
монументы,
и гордость за нашу эпоху, и срам, и шулеры, и президенты.
Глотая эпоху и ею давясь,
но так, что ни разу не вырвало,
я знаю не меньше, чем пыль или грязь,
и больше всех воронов мира.
И я возгордился,
чрезмерно игрив.
Зазнался я так несусветно,
как будто бы вытатуирован гриф
на мне:
«Совершенно секретно». Напрасно я нос задирал к потолку, с приятцей отдавшись мыслишкам, что скоро прикончат меня -потому,
что знаю я многое слишком.
В Гонконге я сам нарывался на нож,
я лез во Вьетнаме под пули.
Погибнуть мне было давно невтерпёж,
да что-то со смертью тянули.
И я пребывал
унизительно жив
под разными пулями-дурами.
Мурыжили,
съесть по кусочкам решив,
а вот убивать и не думали.
Постыдно целёхонек,
шрамами битв
не очень-то я изукрашен.
Наверно, не зря ещё я не убит -
не слишком я мудростью страшен.
И горькая мысль у меня отняла
остатки зазнайства былого -
отстали поступки мои от ума,
отстало от опыта слово.
Как таинство жизни за хвост ни хватай -
выскальзывает из ладоней.
Чем больше мы знаем поверхностных тайн,
тем главная тайна бездонней.
Мы столькое сами на дне погребли.
Познания бездна проклятая
такие засасывала корабли,
такие державы проглатывала!
И я растерялся на шаре земном
от явной нехватки таланта,
себя ощущая, как будто бы гном,
раздавленный ношей Атланта.
Наверное, так растерялся Колумб
с командой отпетой, трактирной,
по крови под парусом двигаясь в глубь
насмешливой тайны всемирной...
А у меня не было никакой команды.
Я был единственный русский на всей территории Санто-Доминго, когда стоял у конвейера в аэропорту и ждал свой чемодан. Наконец он появился. Он выглядел, как индеец после пытки конкистадоров. Бока были искромсаны, внутренности вываливались наружу.
– Повреждение при погрузке. – отводя от меня глаза, мрачновато процедил представитель авиакомпании «Доминикана».
Затем мой многострадальный кожаный товарищ попал в руки таможенников. Чьими же были предыдущие руки? За спинами таможенников, копавшихся в моих рубашках и носках, величественно покачивался начинавшийся чуть ли не от подбородка живот начальника аэропортовской полиции, созерцавшего этот в прямом смысле трогательный процесс. Начальник полиции представил бы подлинную находку для золотолюбивого Колумба -золотой «Ролекс» на левой руке, золотой именной браслет на правой, золотые перстни с разнообразными драгоценными и полудрагоценными камнями чуть ли не на каждом пальце, золотой медальон с мадонной на мохнатой груди, золотой брелок для ключей от машины, сделанный в виде миниатюрной статуи Свободы. Лицо начальника полиции лоснилось так, как будто заодно с чёрными жёсткими волосами было смазано бриолином. Начальник полиции не опустился до интереса к шмоткам, но взял мою книгу стихов по-испански и перелистывал её избирательно и напряжённо.
– Книга была издана в Мадриде ещё при генералиссимусе Франко, – успокоил я его. -Взгляните на дату.
Он слегка вздрогнул оттого, что я неожиданно заговорил по-испански, и между нами образовалась некая соединительная нить. Он осторожно выбирал, что сказать, и наконец выбрал самое простое и общедоступное:
– Работа есть работа.
Я вспомнил припев из песни Окуджавы и невольно улыбнулся. Улыбнулся, правда, сдержанно, и начальник полиции, очевидно, не ожидавший, что я могу улыбаться. Ещё одна соединительная нить.
Затем в его толстых, но ловких пальцах очутилась видеокассета.
– Это мой собственный фильм, – пояснил я.
– В каком смысле собственный? – уточняюще спросил он.
– Я его поставил как режиссёр. – ответил я, отнюдь не посягая на священные права Совэкспортфильма.
– Название? – трудно вдумываясь в ситуацию, засопел начальник полиции.
– «Детский сад».
– У вас тоже есть детские сады? – недоверчиво спросил начальник полиции.
– Недостаточно, но есть, – ответил я, стараясь быть объективным.
– А в какой системе записан фильм? – деловито поинтересовался он.
– «ВХС», – ответил я. Ещё одна соединительная нить.
– А у меня только «Бетамакс», – почти пожаловался начальник полиции. – Всё усложняют жизнь, всё усложняют. – И со вздохом добавил, как бы прося извинения: -Кассету придётся отдать в наше управление для просмотра. Послезавтра мы её вам вернём, если. – он замялся, – если там нет ничего такого.
– Это единственная авторская копия. Она стоит миллион долларов, – решил я бить золотом по золоту. – Я не сомневаюсь в вашей личной честности, но эту кассету может переписать или ваш заместитель, или заместитель вашего заместителя, и фильм пойдёт гулять по свету. Вы же лучше меня знаете, какая сейчас видеоконтрабанда. Дело может кончиться международным судом.
Миллион и международный суд произвели впечатление на начальника полиции, и он запыхтел, потряхивая кассету в простонародной узловатой руке с аристократическим ногтем на мизинце.
Думал ли я когда-нибудь, что моё голодное детство сорок первого года будет покачиваться на взвешивающей его полицейской ладони? По этой ладони брёл я сам,
восьмилетний, потерявший свой поезд, на этой ладони сапоги спекулянтов с железными подковками растаптывали мою жалобно вскрикивающую скрипку лишь за то, что я не украл, а просто взял с прилавка обёрнутую в капустные листы дымящуюся картошку, по этой ладони навстречу новобранцам с прощально обнимающими их невестами в белых накидках шли сибирские вдовы в чёрном, держа в руках трепыхающиеся похоронки.
Но для начальника полиции фильм на его ладони не был моей, неизвестной ему жизнью, а лишь личной, хорошо известной ему опасностью, когда за недостаточную бдительность из-под него могут выдернуть тот стул, на котором он сидит. Вот что такое судьба искусства на полицейской ладони.
– А тут нет ничего против правительства Санто-Доминго? – неловко пробурчал начальник полиции.
– Слово чести – ничего, – чистосердечно сказал я. – Могу дать расписку.
– Ну, это лишнее, – торопливо сказал начальник полиции, возвращая мне моё детство. И я вышел на улицы Санто-Доминго, прижимая к груди сорок первый год.
И я вышел на улицы Санто-Доминго, прижимая к груди сорок первый год, и такая воскресла во мне пацанинка, словно вынырнет финка, упёршись в живот.
Я был снова тот шкет, что удрал от погони, тот, которого взять нелегко на испуг, тот, что выскользнул из полицейской ладони, почему – неизвестно – разжавшейся вдруг.
И я вышел на улицы Санто-Доминго, прижимая к груди сорок первый год, а позёмка сибирская по-сатанински волочилась за мной, забегала вперёд.
И за мной волочились такие печали,
словно вдоль этих пальм транссибирский состав,
и о валенок валенком бабы стучали,
у Колумбовой статуи в очередь встав.
И за мной сквозь магнолийные авениды, словно стольких страданий народных послы, вдовы, сироты, раненые, инвалиды снег нетающий русский на лицах несли.
На прилавках омары клешнями ворочали, ананасы лежали горой в холодке, и не мог я осмыслить, что не было очереди, что никто номеров не писал на руке.
Но сквозь всё, что казалось экзотикой, роскошью и просилось на плёнку цветную, мольберт, проступали, как призраки, лица заросшие с жалкой полуиндеинкой смазанных черт.








