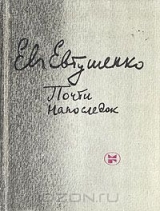
Текст книги "Почти напоследок"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Евгений Евтушенко
Почти напослідок
4702010200 – 357
В 078(02)-85 207-85
© Издательство «Молодая гвардия», 1985 г.
мои университеты
Я учился не только у тех,
кто из рам золоченых лучился,
а у всех, кто на паспортном фото
и то не совсем получился.
Больше, чем у Толстого,
учился я с детства толково
у слепцов,
по вагонам хрипевших про графа Толстого.
У барака
учился я больше, чем у Пастернака.
Драка – это стихия моя,
и стихи мои в стиле «баракко».
Я уроки Есенина брал
в забегаловках у инвалидов,
раздиравших тельняшки,
все тайны свои немудреные выдав.
Маяковского «лесенка»
столько мне не дарила,
как замызганных лестниц
штанами надраенные перила.
Я учился в Зиме
у моих молчаливейших бабок
не бояться порезов, царапин
и прочих других окарябок.
Я учился у дяди Андрея,
трехтонку гонявшего вместо
бензина на чурках,
различать: кто – в залатанных катанках,
кто – в окантованных бурках.
У Четвертой Мещанской учился,
у Марьиной рощи
быть стальнее ножа
и чинарика проще.
Пустыри – мои пастыри.
Очередь – вот моя матерь.
Я учился у всех огольцов,
кто меня колошматил.
Я учился прорыву
разбойного русского слова
не у профессоров,
а у взмокшего Севы Боброва.
Я учился
у бледных издерганных графоманов
с роковым содержаньем стихов
и пустым содержаньем карманов.
Я учился у всех чудаков с чердаков,
у закройщицы Алки,
целовавшей меня
в темной кухне ночной коммуналки.
Я учился
у созданной мною бетонщицы Нюшки,
для которой всю жизнь
собирал по России веснушки.
I Мошка – это я сам,
и все Нюшки России,
сотрясая Нью-Йорк и Париж,
из меня голосили.
Сам я собрав иа родинок Родины,
ссадин и шрамов,
колыбелей и кладбищ,
хибарок и храмов.
Первым шаром земным для меня
был без ниточки в нем заграничной
мяч тряпичный
с прилипшею крошкой кирпичной,
и когда я прорвался к земному,
уже настоящему шару,
я увидел – он тоже лоскутный
и тоже подвержен удару.
И я проклял кровавый футбол,
где играют планетой без судей и правил,
и любой лоскуточек планеты,
к нему прикоснувшись, прославил:
И я шел по планете,
как будто по Марьиной роще гигантской,
и учился по лицам старух —
то вьетнамской, а то перуанской.
Я учился смекалке,
преподанной голью всемирной и рванью,
эскимосскому нюху во льдах,
итальянскому неуныванью.
Я учился у Гарлема
бедность не чувствовать бедной,
словно негр,
чье лицо лишь намазано кожею белой.
И я понял, что гнет большинство
на других свои шеи,
а в морщины тех шей
меньшинство укрывается, словно в траншеи.
И я понял, что долг большинства —
заклейменных проклятьем хозяев —
из народных морщин
выбить всех окопавшихся в них негодяев!
Я клеймом большинства заклеймен.
Я хочу быть их кровом и пищей.
Я – лишь имя людей без имен.
Я – писатель всех тех, кто не пишет.
Я писатель,
которого создал читатель,
и я создал читателя.
Долг мой хоть чем-то оплачен.
Перед вами я весь —
ваш создатель и ваше созданье,
антология вас,
ваших жизней второе изданье.
Гол как сокол стою,
отвергая придворных портняжек мошенство,
воплощенное ваше
и собственное несовершенство.
Я стою на руинах
разрушенных мною Любовей.
Пепел дружб и надежд
охладело слетает с ладоней.
I [емотою давясь
и пристроившись II очередь с краю,
за любого из нас,
как за Родину, я умираю.
(>т любви умираю
и вою от боли по-волчьи.
Мели нас презираю —
себя самого еще больше.
Я без вас бы пропал.
Помогите мне быть настоящим,
Побы вверх не упал,
не позволил пропасть всем пропащим.
Я – кошелка, собравшая всех,
кто с авоськой, кошелкой.
Как базарный фотограф,
я всех вас без счета нащелкал.
Н ваш общий портрет,
где так много дописывать надо.
Наши лица – мой Лувр,
мое тайное личное Прадо.
Я – как видеомагнитофон,
где заряжены вами кассеты.
Я – попытка чужих дневников
и попытка всемирной газеты.
Мы себя написали
изгрызенной мной авторучкой.
I [с хочу вас учить.
Я хочу быть всегда недоучкой.
* * *
Есть прямота
как будто кривота.
Она внутри самой себя горбата.
Жизнь перед ней
безвиппо виновата
за то, что так рисунком не проста.
Побойтесь жизнь спрямлять,
не понимая,
что можно выпрямлением согнуть,
что иногда в истории прямая
меж точками двумя —
длиннейший путь.
опоздание
Начинается
что-то опасное:
я
к себе самому
опаздываю.
Я назначил свидание
с мыслями —
у меня
эти мысли
свистнули.
Я назначил свидание
с Фолкнером
на банкет
оказался втолкнутым.
Я назначил свиданье
истории,
а затаскивают
в аастолия.
Хуже
проволочных заграждений
дни моих
и чужих рождений,
и меня
поросята зажаренные,
как петрушку,
В зубах зажали!
Уводя насовсем
в жизнь совсем не мою,
меня ест
все, что ем,
меня пьет
все, что пью.
Сам себе я назначил
свидание,
а меня приглашают
на
моих бренных останков
съедание
под буль-бульканне
вина.
Навалилась,
вещами обвешивая,
жизнь пе внутренняя,
а внешняя.
Жизнь разбилась
на сотни жпзннптек,
измотавших меня,
исказнпвших.
Для того,
чтоб к себе пробиться,
мне пришлось
о других раздробиться,
и обломки мои
и ошметки
под чужие попали
подметки.
Сам себя еле-еле
склеиваю
и писал бы
ногою левою,
но и правая,
но и левая
отвалились,
отдельно бегая.
Я не знаю —
где мое тело?
А душа?
Неужели давно отлетела,
даже крыльями
не прошурша?
Как прорваться
к далекому тезке,
где-то ждущему
на холоду?
Позабыл,
на каком перекрестке
сам себя
под пасами жду.
Дли но знающих —
кто они сами,
нету
времени самого.
Никого —
иод часами.
На часах —
ничего.
Опоздал сам к себе
на свидание.
Никого.
Лишь окурки раздавленные,
л и пп, дрожит па одном,
ОДИНОК,
погибающим
огонек...
нанду
С абхазской бабушкой —
нанду
мы рядом «тохаем» * в саду,
н понимаем вместе мы
язык лозы,
язык хурмы.
Панду прекрасно знает —
как
найти и выдернуть сорняк,
таких не помня пустяков —
сколько ей лет
или веков.
Панду чуть выше сапога,
с горбом на согнутой спине,
как головешка очага,
вся скрюченная па огне.
П нос нанду чуть-чуть горбат,
но разве в том он виноват?
Па той горбинке
всю судьбу
тащила,
будто на горбу.
И не из ведьм —
из фей она,
седое мудрое дитя,
и мушмула,
и фейхоа
к ней нагибаются,
кряхтя.
Не приросли к ней зависть,
зло,
спесь образованных невежд,
а если что и приросло —
тохаем – разрыхляем почву. Тоха – тяпка (абх).
12
гак это черный цвет одежд.
Нисколько не было грехов —
так жили бабушка и мать,
но столько родственных гробов,
что траур некогда снимать.
Из рода Гулиа она,
а доги где-то вдалеке
и говорят, приехав, на
полуабхазском языке.
Полуязык не есть язык.
Он -
как заплеванный родник.
Язык —
это и есть народ.
Язык умрет —
народ умрет.
Спасительница языка,
других не зная до сих пор,
панду бесшумна и легка,
Как, чуть сгущенный воздух гор.
На рыхлых грядках дотемна
дощечкой тоненькой она
прихлопывает семена,
чтоб не унес их ветер,
сдув,
чтоб их не выкрал птичий клюв,
и возле ног ее торчат
ряды зелененьких внучат.
Из этих бережных семян
взойдут абхазский стих,
роман.
Народ,
где гений прорастет,
уже не маленький народ!
Нет,
не спасет язык ничей
вся языкатость ловкачей.
13
Грузии рокочущий язык,
тебя,
как рек тигриный рык,
спасали,
внукам в рот вложа,
нанду Шота,
нанду Важа!
И Пушкина в чумном году
спасла в Михайловском панду.
Нанду Полтавы и Торжка,
вы —
сеятели языка.
Нанду Таити и Мали,
вы – языки Земли спасли!
Когда сгорит закат дотла,
нанду колдует у котла
И всю историю сдымком
помешивает черпаком.
Над мамалыгой пузыри,
как будто вечность изнутри
то высунет на миг зрачок,
то снова спрячет,
и – молчок.
Скользит направо блик огня —
там,
вздрагивая,
ждут меня
две золотых поздри коня,
чтобы нести по облакам
к чужим прекрасным языкам.
Скользнет палево этот блик —
там ждет мепя родной язык,
и, как абхазская панду,
я без коня пешком пойду
и буду сеять —
хоть на льду.
14
Я выбрал сразу два пути:
лететь
и пристально брести,
завязывая
в узелки
людей,
народы,
языки.
Будь проклят этот мерзкий миг,
когда хоть где-нибудь пойдет
язык —
войною на язык,
народ —
войною на народ.
...Панду огню подаст ладонь.
Он чуть лизнет —
он так привык.
Как человечество,
огонь
многоязык
и тем велик.
Цветы для бабушки
Я на кладбище в мареве осени,
где скрипят, рассыхаясь, кресты,
моей бабушке – Марье Иосифовне —
у ворот покупаю цветы.
Были сложены в эру Ладыниной
косы бабушки строгим венком,
и соседки на кухне продымленной
называли ее «военком».
Мало била меня моя бабушка.
Жаль, что бить уставала рука,
и, по мненью знакомого банщика,
был достоин я лишь кипятка.
Я кота ее мучил, блаженствуя,
лишь бы мне не сказали – слабо.
На три тома «Мужчина и женщина»
маханул я Лависса с Рамбо.
Золотое кольцо обручальное
спер, забравшись тайком в шифоньер:
предстояла игра чрезвычайная —
Югославия – СССР.
И кольцо это, тяжкое, рыжее,
с пальца деда, которого нет,
перепрыгнуло в лапу барышника
за какой-то стоячий билет.
Моя бабушка Марья Иосифовна
закусила лишь краешки губ
так, что суп на столе подморозило —
льдом сибирским подернулся суп.
16
У афиши Нечаева с Бунчиковым
в еще карточные времена,
поскользнувшись па льду возле булочной,
потеряла сознанье она.
И с двуперстно подъятыми пальцами,
как Морозова, ликом бела,
лишь одно повторяла в беспамятстве:
«Будь ты проклят!» – и это был я.
Я подумал, укрывшись за.примусом,
что, наверное, бабка со зла
умирающей только прикинулась...
Наказала меня – умерла.
Под пластинку соседскую Лещенкн
неподвижно уставилась ввысь,
и меня все родные улещивали:
«Повинись... Повинись... Повинись...»
Проклинали меня, бесшабашного,
Справа, слева видал их в гробу!
Но меня прокляла моя бабушка.
Только это проклятье на лбу.
И кольцо сквозь суглинок проглядывая,
дразнит, мстит и блестит из костей...
Ты сними с меня, бабка, проклятие,
не меня пожалей, а детей.
Я цветы виноватые, кроткие
на могилу кладу в тишине.
То, что стебли их слишком короткие,
не приходит и в голову мне.
У надгробного серого камушка,
зная все, что творится с людьми,
шепчет мать, чтоб не слышала бабушка:
«Здесь воруют цветы... Надломи...»
Все мы перепродажей подловлены.
Может быть, я принес на поклон
те цветы, что однажды надломлены,
но отрезаны там, где надлом.
В дрожь бросает в метро н троллейбусе,
если двое – щекою к щеке,
но к кладбищенской глине стебли все
у девчонки в счастливой руке.
Всех надломов идет острнгание,
и в тени отошедших теней
страшно и от продажи страдания,
а от перепродажи – страшней.
Если есть во мне малость продажного,
я тогда – не из нашей семьи.
Прокляни еще раз меня, бабушка,
и проклятье уже не сними!
фиалки
Стог сена я ищу в иголке,
а не иголку в стоге сена.
Ищу ягненка в сером волке
в бунтаря внутри полена.
Но волк ость волк необратимо.
Волк – не на будущих бараш.в.
И нос бунтарский Пуратино
не прорастает из чурбанов.
Как в затянувшемся запое,
и верю где-нибудь у свалки,
что на заплеванном заборе
однажды вырастут фиалки.
Но расцветет забор едва ли,
прогппк насквозь, дойдя до точки,
ко| да па всем, что заплевали,
опять пленочки – не цветочки.
Л мне вросли фиалки в кожу,
и я не вырву их, не срежу.
Чем крепче вмазывают в рожу,
тем глубже все, о чем я брежу.
Порота рая слишком узки
для богача и лизоблюда,
а я пройду в игольном ушке,
взобравшись на спину верблюда.
И, о друзьях тоскуя новых,
себе, как будто побратима,
из чьих-то лбов, таких дубовых,
я вырубаю Пуратино.
19
Среди всемирных перепалок
я волоку любимой ворох
взошедших сквозь плевки фиалок
на всех заплеванных заборах.
И волк целуется как пьяный
со мной на Бронной – у «стекляшки».
И чей нахальный нос незваный
уже торчит из деревяшки?!
полтравиночки
Смерть еще далеко,
а все так нелегко,
словно в гору – гнилыми ступенечками.
Жизнь подгарчнвать вздумала,
как молоко
с обгорелыми черными пеночками.
Говорят мне, вздыхая:
«Себя пожалей»,
а я на зуб возьму полтравпночки,
и уже веселей
от подарка полей —
от кислиночки
и от горчиночкн.
Я легонько кусну
лето или весну,
и я счастлив зелененькой малостью,
и меня мой народ
пожалел наперед,
бо не избаловывал жалостью.
Если ребра мне и драке изрядно помнут,
и считаю,
что так полагается.
Меня и спину нырнут
и но поймут —
(ii чего это он улыбается.
В тех, кого зажалели с младенческих лет,
силы нет,
а сплошные слабиночки.
Полтравииочкн на зуб —
вот весь мой секрет,
и на вырост в земле —
полтравиночки.
забытая штольня
«Пойдем на Холодную гору
в забытую штольню!»
«За что эту гору Холодной назвали?
За что эту штольню забыли?»
«Не знаю про гору, —
наверно, там холодно, что ли...
А штольни иссякла,
и вход горбылями забили».
«Не все иссякает,
что нами бывает забыто».
«Сначала не все,
но когда-нибудь все иссякает...» —
и женщина,
резко гранениая,
будто бы горный хрусталь Суомтита,
берет два фонарика
и разговор пресекает.
Она кристаллограф.
В ней есть совершенство кристалла.
Обрежешься,
если притронешься к ней ненароком,
и я поражаюсь,
что к ней ничего не пристало,
и сам к ней боюсь приставать.
Я научен был горьким уроком.
«Вы, значит, хозяйка
хрустальной горы па Алдане?»
«Хозяйка себе», —
обрезает она с полулета,
и все, что я думаю втайне о ней, —
это пол у гаданье,
и нолубоязнь,
и, пожалуй, еще получто-то.
И мы поднимаемся в гору,
топча стебельки молочая,
22
и мы отдираем трухлявые доски
в узорах морозных искринок,
Входим в забытую штольпю,
двумя голубыми лучами качая,
споткнувшись о ржавые рельсы
и чей-то примерзший ботинок.
Фонарики пляшут
по хоботам сонных сосулнщ,
по дремлющим друзам,
и кажется —
в штольне невидимо прячется некто,
ц 0 полурассыпанным,
грустно сверкающим грузом
лежит на боку
перевернутая вагонетка.
Мы оба исчезли —
на степах лишь два очертанья,
и только
друг к другу принюхиваясь понемногу,
чма теплых дыханья
плывут перед нашими ртами,
как белые .ангелы,
нам указуя и дорогу.
Две не черные тени
как будто пугаются слиться
на обледенелой стене,
где в проломе кирка отдыхает,
и чья -то пустая
брезентовая рукавица
м|ила бы сжать
хоть пол-облачка наших дыханий.
Здесь умерло время
Здесь только скольженье, круженье
теней отошедших.
Я только на них полагаюсь.
Со мною скорее пе женщина —
нредположенье,
23
и я для нее не совсем существую,
а предполагаюсь.
И горный хрусталь
разливает но сводам сиянье,
и дальнее пение
слышу не слухом, а телом,
как будто идут катакомбами
римские христиане,
идут к нам навстречу,
качая свечами,
все в белом.
Еще в инквизицию
не превратилась крамола,
костер не обвил еще Жанну д'Арк,
ее тело глодая...
«Вы знаете, странное чувство,
что здесь, под землею,
я молод».
«Похожее чувство —
и я под землей молодая».
«А дальше идти не опасно?»
«Конечно, опасно.
Но жить – это тоже опасно.
От этого мы умираем.
Когда на прекрасной земле
еще столь ненрекрасно,
то даже подземное,
будто надземное,
кажется раем».
«Что это за рай,
если вход заколочен крест-накрест?
Хрусталь в одиночестве
тоже теряет хрустальность.
Простите меня
за мою дилетантскую наглость —
а не преждевременно
люди со штольней расстались?»
24
«Я думаю, есть преждевременность вовремя».
«Разве?»
«Л вам бы хотелось увидеть
хрустальное царство
растоптанным садом?
Боюсь, если люди полезут
непрошено в рай все,
то рай поневоле
окажется истинным адом».
«Л если обвалится штольня?»
«Обобранность хуже обвала».
«Нас что, обобрали?»
«Да, в жизни мне крупно досталось,
ВО Я, словно штольню,
крест-накрест себя забивала,
ОТоб в душу не лезли,
не хапали все, что осталось».
«Вы что – обо мне?»
«Вы, ей-богу, напрасно сердитый...
Взгляните на штольню —
ми, зимний собор опушенный!
Уж лучше прожить преждевременно
самозакрытой,
чем стать преждевременно
опустошенной».
...Хозяйка хрустальной горы,
вы, пожалуй, святая,
но страшно идти
вашей мертвой хрустальной державой,
где хочет,
от рельсов себя отодрав,
рукавица пустая
наполниться вновь
человечьей рукою шершавой.
Хозяйка хрустальной горы,
моя штольня почти безнадежна,
но доски крест-накрест
как будто петля
или выстрел.
Я буду кайлить,
приковав себя к тачке острожно,
пока до хрусталинки
все, что во мне,
я не выскреб!
И я не хочу,
не могу забивать в себя входы,
как рыцарь скупой,
любоваться припрятанным блеском.
В закрытости нашей —
удушье безлюдной свободы.
Свобода смертельна,
когда разделить ее не с кем.
А смерть
с инквизиторским капюшоном
готовит и мне
преждевременно пакость.
Но лучше уж смерть
до хрусталинки опустошенным,
чем выжить с хрустальной душой,
но забитой крест-накрест!
...И так мы идем да идем
сквозь Холодную гору,
где горный хрусталь
ощетинился остроугольно,
и прячется вечность,
прислушиваясь к разговору,
и вечности больно за нас,
и за штольню забытую больно.
И женщина кажется
полуразмытой и млечной,
и, может быть, это не женщина —
просто лучистость.
Лишь нолуслучился у нас разговор,
но закон есть извечный:
101 подусдучияшееся —
случилось.
II нечто без имени
нас и хрусталь производит,
н нечто без имени
двигает звездами,
нами,
и все, что сейчас
происходит и не происходит,
Уже переходит
в далекие воспоминанья.
ясная, тихая сила любви
Сила страстей – преходящее дело.
Силе другой потихопьку учусь.
Есть у людей приключения тела.
Есть приключения мыслей и чувств.
Тело само приключений искало,
а измочалилось вместе с душой.
Лишь не хватало, чтоб смерть приласкала,
но оказалась бы тоже чужой.
Все же меня пожалела природа,
или как хочешь ее назови.
Установилась во мне, как погода,
ясная, тихая сила любви.
Раньше казалась мне сила огромной,
громко стучащей в большой барабан.
Стала тобой. В нашей комнатке темной
палец свой строго прижала к губам.
Младшенький наш неразборчиво гулит,
и разбудить его – это табу.
Старшенький каждый наш скрип караулит,
новеньким зубом терзая губу.
Мне целоваться приказано тихо.
Плач целоваться совсем не дает.
Детских игрушек неразбериха
" стройный порядок вокруг создает.
II подчиняюсь такому порядку,
где, словно тоненький лучик, светла
мне подшивающая подкладку
быстрая бережная игла.
В дом я ввалился, еще не отпутав
в кожу вонзившиеся глубоко
нитки всех злобных дневных лилипутов.
Ты их отпутываешь легко.
Так ли сильна вся глобальная злоба,
вооруженная до зубов,
как мы с тобой, безоружные оба,
как безоружная наша любовь?
Спит на гвозде моя мокрая кепка.
Спят у порога тряпичные львы.
В доме все крепко, и в жизни все крепко,
если лишь дети мешают любви.
Я бы хотел, чтобы высшим начальством
были бы дети – начало начал.
Боже, как был Маяковский несчастен
тем, что он сына в руках не качал!
В дни затянувшейся эпопеи,
может быть, счастьем я бомбы дразню?
Как мне счастливым4нрожить, не глупея,
не превратившимся*в размазню?
Темные силы орут и грохочут —
хочется им человечьих костей.
Ясная, тихая сила не хочет,
чтобы напрасно будили детей.
Ангелом атомного столетья
танки и бомбы останови
и объясни им, что спят наши дети, —
ясная, тихая сила любви.
хранительница очага
Джан
Собрав еле-еле с дорог
расшвырянного себя,
я переступаю порог
страны под названьем «семья».
Пусть нету прощения мне,
здесь буду я понят, прощен,
и стыдно мне в этой стране
за все, из чего я пришел.
Набитый опилками лев,
зубами вцепляясь в пальто,
сдирает его, повелев
стать в угол, и знает – за что.
Заштопанный грустный жираф
облизывает меня,
губами таща за рукав
в пещеру, где спят сыновья.
И в газовых синих очах
кухонной московской плиты
недремлющий вечный очаг
и вечная женщина – ты.
Ворочает уголья лет
в золе золотой кочерга,
и вызолочен силуэт
хранительницы очага.
Очерчена золотом грудь.
Ребенок сосет глубоко...
Всем бомбам тебя не спугнуть,
когда ты даешь молоко.
30
С годами все больше пуглив
и даже запуган подчас
когда-то счастливый отлив
твоих фиолетовых глаз.
Тебя далеко занесло,
но, как золотая пчела,
ты знаешь свое ремесло,
хранительница очага.
Я голову очертя
растаптывал все на бегу.
Разрушил я два очага,
а третий, дрожа, берегу.
Мне слышится топот шагов.
Идут сквозь вселенский бедлам
растаптыватели очагов
по жепским и детским телам.
Дорогами женских морщин
они маршируют вперед.
В глазах гуманистов-мужчин
мерцает эсэсовский лед.
Но тлеющие угольки
растоптанных очагов
нцепляются^в каблуки,
сжигая заснувших врагов.
А как очищается суть
всего, что внутри и кругом,
когда освещается путь
и женщиной и очагом!
Семья – это слитые «я».
Я спрашиваю – когда
31
в стране под названьем «семья»
исчезнут и гнет и вражда?
Ответь мне в почпой тишине,
хранительница, жена, —
неужто и в этой стране
когда-нибудь будет война?!
* * *
Не отдала еще
всех моих писем
и не выбросила в хлам,
но отдаляешься,
как будто льдина, где живем —
напополам.
Ты спишь безгрешнейше,
ты вроде рядом —
только руку протяни,
но эта трещина
скрежещет мертвенным крахмалом простыни.
Ты отдаляешься,
и страшно то, что потихоньку,
не спеша.
Ты отделяешься,
как от меня,
еще не мертвого,
душа.
Ты отбираешь все —
и столько общих лет,
и наших двух детей.
Ты отдираешься
живою кожей
от живых моих костей.
Воль отдаления
кромсает,
зверствует.
На ребрах – кровь и слизь
вдоль отломления
двух душ,
которые почти уже срослись.
О, распроклятое
почти что непреодолимое «почти»!
Как
все распятое
или почти уже распятое —
спасти?
Легко,
умеючи, —
словно пираньи, лишь скелет оставив дну,
сожрали мелочи
неповторимую любовь еще одну.
Но пожирательство,
оно заразно,
словно черная чума,
и на предательство
любовь, что предана,
пошла уже сама.
И что-то воющее
в детей вцепляется,
не пряча в шерсть когтей
Любовь —
чудовище,
что пожирает даже собственных детей.
За ресторанщину,
за пожирательство всех лучших твоих лет
я христианнейше
прошу – прости,
не пожирай меня в ответ.
Есть фраза пошлая:
у женщин прошлого, как говорится, нет.
Я -
твое прошлое,
и, значит, нет меня.
Я – собственный скелет.
Несу я с ужасом
свои останки во враждебную кровать.
Несуществующим
совсем не легче на земле существовать.
Моя любимая,
ты воскреси меня,
ребенка своего,
лепи,
лепи меня
из всех останков,
из себя,
из ничего.
Ты -
мое будущее,
моя мгновенная и вечная звезда.
Быть может, любящая,
но позабывшая, как любят...
Навсегда?
* * *
Под невыплакавшейся ивой
я задумался на берегу:
как любимую сделать счастливой?
Может, этого я не могу?
Мало ей и детей, и достатка,
жалких вылазок в гости, в кино.
Сам я нужен ей – весь, без остатка,
а я весь – из остатков давно.
Под эпоху я плечи подставил,
так, что их обдирало сучье,
а любимой плеча не оставил,
чтобы выплакалась в плечо.
Не цветы им даря, а морщины,
возложив на любимых весь быт,
воровски изменяют мужчины,
а любимые – лишь от обид.
Как любимую сделать счастливой?
С чем к ногам ее приволокусь,
если жизнь преподнес ей червивой,
даже только па первый надкус?
Что за радость – любимых так часто
обижать ни за что ни про что.
Как любимую сделать несчастной —
знают все. Как счастливой – никто.
* * *
Спасение наше – друг в друге,
в божественно замкнутом круге,
куда посторонним нет входа,
где третье лицо – лишь природа.
Спасение наше – друг в друге,
в разломленной надвое вьюге,
в разломленном надвое солнце.
Все поровну. Этим спасемся.
Спасение наше – друг в друге:
в сжимающем сердце испуге
вдвоем не остаться, расстаться
и в руки чужие достаться.
Родители нам – не защита.
Мы дети друг друга – не чьи-то.
Нам выпало нянчиться с нами.
Родители наши – мы сами.
Какие поддельные страсти
толкают к наживе и власти,
и только та страсть неподдельна,
где двое навек пеотдельны.
Всемирная слава – лишь призрак,
когда ты любимой не признан.
Хочу я быть всеми забытым
и только в тебе знаменитым!
Л чем я тебя обольщаю?
Бессмертье во мне обещаю.
Такую внутри меня славу,
которой достойна по праву.
Друг в друга навек перелиты,
мы слиты. Мы как сталактиты.
И северное сиянье —
не наше ли это слиянье?
Люден девяносто процентов
не знают любви полноценной,
поэтому так узколобы
апостолы силы и злобы.
Но если среди оскопленных
осталось лишь двое влюбленных,
надеяться можно нелживо:
еще человечество живо.
Стоит на любви все живое.
Великая армия – двое.
Пусть шепчут и губы и руки:
«Спасение наше – друг в друге».
* * *
Никто не спит прекраснее, чем ты.
Но страшно мне,
что ты вот-вот проснешься,
и взглядом равнодушно вскользь коснешься,
и совершишь убийство красоты.
* * *
Какое право я имел
иметь сомнительное право
крошить налево и направо
талант,
как неумелый мел?
* * *
Когда уйду я в никогда,
ты так же будешь молода —
я за тебя состарюсь где-то
в своем посмертном вечном гетто,
но не впущу тебя туда —
ты так же будешь молода.
не исчезай
По исчезай... Исчезнув из меня,
развоплотясь, ты из себя исчезнешь,
себе самой навеки измена,
и это будет низшая нечестность.
Не исчезай... Исчезнуть – так легко.
Воскреснуть друг для друга невозможно.
Смерть втягивает слишком глубоко.
Стать мертвым хоть на миг – неосторожно.
Не исчезай... Забудь про третью тень.
В любви есть только двое. Третьих нету.
Чисты мы будем оба в Судный день,
когда нас трубы призовут к ответу.
Не исчезай... Мы искупили грех.
Мы оба неподсудны, невозбранны.
Достойпы мы с тобой прощенья тех,
кому невольно причинили раны.
Не исчезай... Исчезнуть можно вмиг,
но как нам после встретиться в столетьях?
Возможен ли па свете твой двойник
и мой двойник? Лишь только в наших детях.
Не исчезай... Дай мне свою ладонь.
На ней написан я – я в это верю.
Тем и страшна последняя любовь,
что это не любовь, а страх потери.
наш моторист
Ю. Пархоменко
Наш моторист о мотор исцарапан.
Пляшет на шее в оленьем чехле
с отполированной ручкой из капа
нож вместо крестика,
навеселе.
Эй, моторист,
а не давит ли шею
в бисерных брызгах
шнурок от ножа
утром,
когда Селенга хорошеет,
розовой иеной иод нами дрожа?
Поздно ты вздумал расшабривать втулку.
Лось мельканул,
да мотор подзаглох,
и моторист,
отшвырнув свою «тулку»,
мат унежняет:
«Японский ты бог...»
Что есть вкусней,
чем исчезнувший лось,
если убить его пе удалось!
Лось в Селенгу опустился степенно.
На воду он для забавы подул,
а на рогах его —
наша пена
дальше, чем выстрел из вскинутых дул.
А моторист —
он зарылся в моторе.
Цедит с угрюмою хрипотой:
«Ну и мотор —
хренота с мототою
или точней —
мотота с хренотой».
II(попки летят.
Мы гребем опунешю.
И удаляется,
еле видна,
нас обогнавшая наша пепа
из-под сломавшегося винта.
Нот как мы глупо себя обогнали,
вот до чего мы себя довели,
если не кем-то рожденная —
нами
пена вдали,
ну а мы – на мели.
Рано считали мы все,
что матеры
и что уже покорилась река.
Пены наделали наши моторы —
даже хватило на облака!
Но Селенга
как истории сцена.
Часто бывает,
что слава у нас —
пас обогнавшая наша иена,
ну а прославленный —
прочно завяз.
Сколько я пены пустил по Вселенной.
Где она,
будто и не была!
Как обогпать свою прежнюю пену,
ту,
что предательски обогнала?
Пена —
сомнительное утешенье,
если распорота лодка,
кренясь.
Страшно и то,
что внизу,
по теченью
могут принять нашу пену за нас.
И оскорбительней едкого смеха,
если над россыпью лосьих лепех
горы еще повторяют эхо,
эхо мотора,
который заглох.
Эй, моторист,
мы на камни залезли!
Крест па груди заменил ты ножом,
только не лучше ли будет нам —
если
пену свою за кормой сбережем?
Что ты мне скажешь о пенной науке,
не проронивший ни разу слезы
и на охоте
замерзлые руки
гревший
во внутренностях козы?
Можно ли верить, как в добрые знаки,
в то,
что наивные стайки утят
клювы охотно суют в нашу накипь —
вдруг опи все-таки не захотят?
И, посерев,
пожелтев постепенно,
тающе держится кое-как
нас обогнавшая наша пена,
ставшая войлоком сгнивших коряг...
труба
Р. Быкову
А вы останетесь собой,
когда придете в мир
с трубой,
чтобы позвать на правый бой,
а вам приказ —
играть отбой?
Собой
пе сможет быть
любой,
кто сделает отбой
судьбой.
А вы останетесь собой,
когда трубу с чужой слюной
вам подловато всунут в рот,
чтобы трубить наоборот?
Труба с чужой слюною врет.
А вы останетесь собой,
когда с разбитою губой
вас отшвырнут,
прервав мотив,
в трубу
затычку
вколотив?
А вы останетесь собой
с набитой сахаром трубой,
когда вас,
будто па убой,
закормят,
льстя наперебой
все те, кто превратить в рабу
хотел бы грозную трубу,
оставив ей
лишь «бу-бу-бу!»?
А вы останетесь собой,
когда раздрай и разнобой
в ревнивом стане трубачей
и не поймешь порой —
кто чей,
а кто уже давным-давно
с трубой расплющен заодно...
А вы останетесь собой
и под плитою гробовой,
просовывая
сквозь траву,
как золотой кулак,
трубу?
Трубу
перешибут
соплей,
когда сдадитесь
и состаритесь.
А вы останетесь собой?
Если вы есть,
то вы останетесь.
* * *
Померкло блюдечко во мгле,
псе воском налитое...
Свеча, растаяв на столе,
не восстанавливается.
Рубанком ловких технарей
стих закудрявливается,
а прелесть пушкинских кудрей
не восстанавливается.
От стольких губ, как горький след,
лишь вкус отравленности,
а вкус арбузов детских лет
не восстанавливается.
Тот, кто разбил семью, к другой
не приноравливается,
и дружба, хрястнув под ногой,
не восстанавливается.
На поводках в чужих руках
пароды стравливаются,
а люди – даже в облаках
не восстанавливаются.
Па мордах с медом на устах
след окровавленностн.
Лицо, одпажды мордой став,
не восстанавливается.
Лишь при восстании стыда
против бесстыдности
избегнем страшного суда —
сплошной пустынности.
Лишь при восстании лица
против безликости
жизнь восстанавливается
в своей великости.
Детей бесстыдство может съесть —
не остановится.
А стыд не страшен. Стыд – не смерть.
Все восстановится.
неверие в себя необходимо
Да разве святость – влезть при жизни
в святцы
В себя не верить – все-таки святей.
Талантлив, кто не трусит ужасаться
мучительной бездарности своей.
Неверие в себя необходимо,
необходимы нам тиски тоски,
чтоб темной ночью небо к нам входило
и обдирало звездами виски,
чтоб вваливались в комнату трамваи,
колесами проехав по лицу,
чтобы веревка, страшная, живая,
в окно влетев, плясала на лету.
Необходим любой паршивый призрак
в лохмотьях напрокатных игровых,
а если даже призраки капризны, —
ей-богу, не капризнее живых.
Необходим среди болтливой скуки
смертельный страх произносить слова,
и страх побриться – будто бы сквозь скулы
уже растет могильная трава.
Необходимо бредить пеулежно,
проваливаться, прыгать в пустоту.
Наверно, лишь отчаявшись, возможно
с эпохой говорить начистоту.
Необходимо, бросив закорюки,
взорвать себя и ползать при смешках,
вновь собирая собственные руки
из пальцев, закатившихся иод шкаф.
Необходима трусость быть жестоком
н соблюдены? маленьких пощад,
когда при шаге к целям лжевысоким
раздавленные звезды запищат.
Необходимо г; голодом изгоя
до косточек обгладывать глагол.
Лишь тот, кто по характеру – из голи,
перед брезгливой вечностью не гол.
Л если ты из грязи, да и в князи,
раскняжь себя и сам сообрази,
насколько раньше меньше было грязи,
когда ты в настоящей был грязи.
Какая низость – самоуваженье...
Создатель поднимает до высот
лишь тех, кого при крошечном движоньи
ознобом неуверенность трясет.
Уж лучше вскрыть ножом консервным вены,
лечь забулдыгой в сквере на скамью,
чем докатиться до комфорта веры
в особую значительность свою.
Благословен художник сумасбродный,








