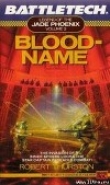Текст книги "Ягодные места"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
– Боюсь тех людей, для которых сентиментальность – это нечто стыдное. Наверно, восстание Джона Брауна началось с того, что в его глазах проступили слезы, когда он увидел несправедливость. Достоевский писал, что все лучшие идеалы человечества не стоят слезы невинно замученного ребенка. А еще он сказал: «Все виноваты во всем». Самовнушение, что война – неизбежность, – это трусливый уход от собственной вины. Интересуйтесь, ради бога, мотоциклами, но не злорадствуйте, что ваши лучше, чем наши. Ничто так не рождает взаимонедоверия, как злорадство. Если русский поэт будет злорадствовать потому, что у какого-то американского поэта есть плохие строки, то разве от этого он сам напишет хорошие стихи?
– Молодец! – заорал рыжий лидер и заколотил ногами по полу, так что вздрогнули и директриса, и дядя из госдепа.
Поднялся черноволосый американец с библейскими глазами:
– К вопросу о сентиментальности… Мы в нашей школе проходили рассказ Чехова «Ванька Жуков – деревенский мальчик». Хотя это не про войну, мне стало страшно. Помните, как мальчик просит в письме: «Милый дедушка, приезжай…», а потом на конверте пишет: «На деревню дедушке» – и думает, что это точный адрес. Мне кажется, что хороших людей во всех странах больше, чем плохих. Но они не знают адресов друг друга, не знают, как докричаться через головы плохих людей друг до друга. Многие взрослые – это тоже Ваньки Жуковы. Я надеюсь, что мы обменяемся адресами, будем переписываться. Но даже не это главное. Главное – чувствовать друг друга…
Директриса подумала: «Нет, кажется, мероприятие на высоте… А все-таки жалко, что американцы не увидели наших стендов…» – и вслух произнесла:
– Приятно, что вы знаете нашу классику. Конечно, история Ваньки Жукова – это далекое прошлое нашей страны.
Дядя из госдепа записал в блокнотик: «Chekhov's short story about «Ivan Jhukov» – read next weekend».[10]10
Прочесть в конце следующей недели рассказ Чехова «Ванька Жуков» (англ.).
[Закрыть]
Парень с библейскими глазами вытащил из брезентового чехла шестиструнную гитару:
– А теперь я доскажу то, что не сказал, песней… – и спел антивоенную песню Боба Дилана, чем навел зеленую тоску на дядю из госдепа.
Вечером, ускользнув от взрослых глаз, русские и американские школьники встретились в молодежном кафе. Русские, скинувшись, выставили несколько бутылок шампанского. Американцы, за исключением мотоциклиста, сказали, что пьют шампанское впервые, чем повергли русских в недоумение. Селезнев презрительно поджал губы – американцы попались явно «нефирменные».
– Сереж, ты заметил, какая колоссальная курточка с молниями на этом мотоциклисте? – толкнул локтем Лачугина сын директора плавательного бассейна. – Их знаешь как в Америке называют? Ангелы ада!
– Ну и что! – не понял Сережа.
– А что, если я ему шепну насчет маленького обмена? У меня дома есть складень восемнадцатого века.
– Только посмей, сукин сын… – яростно прошептал Сережа.
Компания как-то сама по себе разделилась: Селезнев и его окружение разговаривали с «ангелом ада» о мотоциклах, яхтах, пластинках, а Лачугин и Кривцов – с остальными американцами о литературе, и рыжему лидеру пришлось записать имена Курта Воннегута, Вильяма Стайрона, Джона Апдайка, которых он, по его честному признанию, не читал.
– Не думал, что мне придется от русского узнавать об американской литературе! – хохотал рыжий лидер.
Пока на эстраде метались, раздирая струны электрогитар, битлы с Васильевского острова в польских джинсах с самодельными ярлыками «Вранглер», пришитыми к задним карманам для придания общей «фирменности», пока «фирменные» девочки и мальчики вокруг посасывали из таллинских пластмассовых соломинок теплое ввиду постоянных поломок холодильника пойло под названием «Мост через реку Квай», в кафе сквозь заслон смилостивившихся дружинников в красных повязках вошел никак не совпадающий с обстановкой старик в соломенной шляпе с широкой траурной лентой, явно стеснявшийся не принятой гардеробщиком перенабитой авоськи, оттягивающей руку.
Увидев свободное место за столиком, где сидели американцы и русские, старик робко приблизился, лавируя между извивающимися парами и задевая их ноги авоськой. Из прорвавшегося пакета сквозь авоську торчала макаронина. Свободной рукой старик неловко стащил шляпу, под которой обнаружились слипшиеся седые редкие волосы, и, робко оглядываясь, попросил:
– Я на минутку. Мне бы только попить чего-нибудь… Чайку или минеральной.
– Разве вы не видите, что здесь занято, – отчужденно сказал Селезнев, продолжая свой разговор с «ангелом ада».
– Садитесь, – пододвинул старику стул Лачугин.
– Вот спасибо, вот спасибо… – извинительно бормотал старик, засовывая авоську под стол. – Я сам нездешний… Через час поезд отходит. А я вот замотался, аж во рту пересохло, да все автоматы с газировкой, как на грех, не работают… Дай, думаю, зайду. Ребята в дверях симпатичные оказались. И вы тоже…
– Принесите чаю, – сказал Кривцов верткому, в настоящих вранглеровских джинсах официанту.
– Не держим, – попытался ускользнуть официант.
– Тогда минеральной или лимонаду, – крепко схватил его за локоть Кривцов.
– Кончилось. Могу предложить фирменные коктейли, – занервничал официант.
– Что вы, что вы, я такого не пью… – забеспокоился старик, проверяя рукой под столом, не заваливается ли авоська. – А нельзя ли просто водички из-под крана, сынок?
Пока официант, высвободив наконец свой локоть из руки Кривцова, извилисто удалился, старик спросил:
– А вы, ребята, здешние, ленинградские?
– Мы ленинградские, – ответил Лачугин.
– А мы американские, – ответил рыжий лидер.
Старик растерялся:
– А как же вы… вот так и сидите?
– Вот так и сидим, – засмеялся Лачугин.
– А вы вроде все по-русски говорите… – недоверчиво протянул старик.
– Мы в американской школе русский язык изучаем, – сказала американка.
– А мы английский, – сказал Кривцов.
– Вот ведь как… Молодцы… А я вот ни по-какому. Думал, не пригодится. Да и жизнь другая была. А вот однажды пожалел, что иностранных языков не знал, – застенчиво улыбнулся старик, наливая из графина все-таки принесенную воду.
– Это когда же? – спросил Кривцов.
– На Эльбе. Тогда я первый и последний раз американцев видел. Ни они по-русски, ни я по-английски, а вот выпили крепко… Тогда у меня еще чуб был, – и старик смущенно провел рукой по остаткам волос, надевая соломенную шляпу, а другой рукой нашаривая авоську.
– На Эльбе? – ахнул рыжий лидер, даже привстав оттого, что символ вдруг стал реальным человеком, так робко подошедшим к столику и попросившим воды.
– Ну, дай вам бог всего хорошего, – заспешил старик. – Теперь вы и поговорить можете. А мы вот тогда не могли. Ну да главное, чтоб войны больше не было.
И старик быстро пошел к двери, обломав торчащую из авоськи макаронину о кого-то из танцующих, и школьники смотрели на дверь, в которой он исчез так же внезапно, как и появился.
– Все он выдумал, – усмехнулся Селезнев. – Таких совпадений не бывает. Просто ему понравиться захотелось, впечатление произвести. Эти пенсы все большие фантазеры.
– Какие пенсы? – не понял рыжий лидер. – Пенсы – это английская мелкая монета.
– Пенсионеры, – нехотя пояснил Селезнев.
– А ты не думал, что и ты – будущий пенсионер? – не выдержал Кривцов.
– Ты совсем не похож на свою официальную речь в школе, – сказал рыжий лидер, внимательно вглядываясь в Селезнева.
– Если бы мы были похожи на наши официальные речи, каким бы скучным оказался мир, – надменно отшутился Селезнев.
– Но зачем говорить слова, если у слов совсем другие лица, чем у нас? – жестко спросил рыжий лидер.
Селезнев пожал плечами и, подчеркнуто церемонно раскланявшись, вместе с «ангелом ада» и своим окружением пошел к выходу. По пути он чертыхнулся, поскользнувшись:
– Как отвратительно хрустит эта макаронина на паркете.
– И это ваш друг? – спросил рыжий лидер.
– Просто мы из одной школы, – ответил Кривцов. – Но у него есть одно ценное качество: он не умеет скрывать своей сущности.
– А может быть, научится? – спросил рыжий лидер. – Бывает, что такие становятся даже видными деятелями и говорят о благе народа. Не надо стесняться мешать таким людям идти по чужим макаронам.
– Мне совсем не хотелось записывать их адреса, – сказал гитарист. – Они совсем не из той страны, откуда Ванька Жуков. Они из страны равнодушных. Как и наш «ангел ада». А вот жаль, что я не успел записать адрес того старика.
– Равнодушные, наверно, несчастны, потому что никого не любят, – сказала американка.
– А по-моему, не надо приписывать равнодушным несчастность, – резко сказал Кривцов. – Не надо им помогать нашей жалостью. Это с нашей точки зрения они несчастны. Со своей точки зрения – вовсе нет. У них есть свои собственные радости: вещи, деньги, власть. А начинается это все в детстве с такой игрушки, которой нет у других детей.
– Взрослые нас часто портят из самых лучших побуждений, – сказал Лачугин.
– Не надо поддаваться! – стукнул кулаком рыжий парень. – Дети – тоже люди и должны иметь свою голову на плечах.
– Всюду слышишь про преступников: жертвы воспитания, – сказал гитарист. – Что-то в этом есть оправдательное, жалеющее. А если так называемая жертва воспитания пырнет кого-нибудь ножом в темном переулке, почему в этом должны быть обязательно виноваты родители? Если я что-то сделаю плохое, почему за это должна отвечать моя мама, которая никого не зарезала в жизни, кроме кур на своей ферме под Сиатлем?
Потом пошли смотреть, как разводят мосты. Медленно запрокидываясь, мосты поднимались, покачивая переворачивающимися вниз головой фонарями. Кривцов встал на парапет и стал читать стихи, четко руля рукой, и в этот момент ему показалось, что под поднятыми мостами вместе проходят «Мэйфлауэр» и корабли Петра.
А потом гитарист вытащил свою шестиструнную и все запели песню, которую, оказывается, хорошо знали и русские, и американцы:
11
«We shall overcome, we shall overcome…» – снова потихоньку напевал Сережа Лачугин, вспоминая ту ленинградскую ночь сейчас в сибирской тайге, отделенной таким огромным расстоянием от его детства. Оно, это недавнее детство, казалось далеким прошлым. «А ведь по-русски нельзя сказать от первого лица единственного числа: «Я побежу…» или «Я победю…», – подумал Сережа. – Грамматика сопротивляется. Может быть, одному вообще победить невозможно? Только всем вместе. – Он тут же горько усмехнулся. – Но все вместе никогда не могут быть… Да и не надо… Как я могу быть вместе с Игорем Селезневым или с тем дядей из госдепа? То, что мы не вместе и никогда не будем вместе, – это нормально, это борьба. Но вот Кривцова и тех американских ребят нельзя терять…»
А земной шар потихоньку вращался вместе с Пискаревским кладбищем, вместе с разбомбленным Вьетнамом, вместе с тайгой, по которой шел Серело. Он подумал о том, что в земном шаре лежит столько людей, когда-то бывших живыми, что, наверно, он весь, почти до уровня магмы, состоит из чьих-то неисполнившихся надежд, из чьих-то отстучавших сердец, ставших почвой, по которой ходят живые новые люди. И Сереже, как многим новым людям, хотелось ходить по земному шару так, чтобы своими юными шагами помогать его вращению в сторону добра и справедливости.
Сережа не хотел быть «сыном академика Лачугина». После школы он поехал в Москву, поступил в геологоразведочный институт и жил на стипендию, перейдя от тети Кланиных кушаний к столовским «музыкальным» супам и к болгарским голубцам, наскоро разогретым на сковороде в «общаге». Кривцов не попал по конкурсу в Литинститут и пошел работать на отцовский судостроительный. Селезнев куда-то поступил, и однажды, проходя мимо кафе «Лира», Сережа видел, как его бывший одноклассник, громко разговаривая со своей спутницей по-английски, бодро провел ее сквозь оробевшую очередь, принявшую их за иностранцев.
Во время первой практики в Казахстане Сережа научился долбить землю киркой, выкалывать молотком из породы плоские, как ладонь, образцы, расщеплять бритвой на три части единственную спичку. Сережа перестал быть брезгливым. В экспедиции был повар – добродушное стокилограммовое существо, светящееся от радости поесть самому и накормить других. В обязанности повара входило ездить на старой кляче с деревянной бочкой к реке, находившейся за несколько километров от палаток. На этой воде повар варил супы и каши, эту воду геологи пили, этой водой умывались, в этой воде стирали рубахи. Каждый день геологи уходили, когда солнце поднималось, и возвращались, когда оно садилось. Но однажды солнце палило так беспощадно, что геологи решили вернуться пораньше. Спины сгибались под рюкзаками, полными образцов. Фляги были пусты, и губы пересохли. Геологи, еле волоча ноги, сладостно представляли, как они придут и будут долго-долго пить воду из бочки, зачерпывая ее железным ковшом. И вдруг вдали за холмом послышалась странная радостная песня без слов. Геологи переглянулись и ускорили шаг. Обогнув холм, они увидели шелудивую клячу, тащившую за собой телегу с бочкой. Клячей, казалось, никто не управлял. Откуда же раздавалась песня? И тут все заметили, что на телеге висят кальсоны, а из выреза в бочке торчит голова повара. Сидя в прохладной воде в тридцатиградусную жару, совершенно голый повар плескался, как дитя, и наслаждался жизнью. От полноты ощущения повар пел гортанную песню торжества. Геологи не сказали друг другу ни слова. Они сосредоточенно и мрачно бросились бежать к бочке. Повар, увидев их, закрыл глаза от ужаса. Геологи вытащили его из воды во всей его первозданной прелести. Они не били его. Они его лишь трясли и приговаривали: «Ты все время это делал, сволочь, или только сегодня?»
– Только сегодня! Только сегодня! – твердил повар, стуча зубами от страха.
Геологи выпустили повара из рук, и он, всхлипывая, стал натягивать кальсоны. Геологи смотрели на воду, раздираемые жаждой и отвращением. Река была далеко, и сил снова ехать за водой уже не было. Начальник экспедиции Коломейцев сказал:
– Ладно, это все-таки вода.
И опустил в бочку флягу. Потом он запрокинул флягу и стал пить. Пил и Сережа…
Сережа всегда любил петь, когда он был один. Тонкого слуха у него не было, да и голосом особенным он не отличался, но ничего с собой поделать не мог – пел. До шурфов, которые он документировал, тропинка шла среди высоких зонтичных растений, и Сережа всегда старался выходить чуть пораньше других, чтобы остаться наедине и попеть. Иногда он пел со словами, иногда без слов, но был счастлив, что какой-никакой, но все-таки его собственный голос сливался с верещанием кузнечиков, с голубой беспредельностью над головой. Однажды вечером, когда геологи ужинали, у костра выросла из сумерек всхрапывающая лошадь. На ее широкой незаседланной спине сидела, помахивая ивовой веткой, могучая, под стать этой лошади, молодая баба.
– Кто это у вас тут по утрам поет? – спросила она с непонятной вызывающей интонацией.
Геологи весело переглянулись.
– А что, понравилось?
– Понравилось… – ответила она почему-то так же вызывающе.
– Лачугин у нас поет, – засмеялись геологи и вытолкнули смущенного, не знающего, куда глаза девать, Сережу.
– Ты, значит? – Она легонько ткнула его в плечо ивовой веткой.
– Ну, я… – неохотно ответил Сережа, ожидая подвоха.
– А слова помнишь? – испытующе взглянула она на него, сжимая бока беспокойной лошади голыми загорелыми коленками.
– Помню. – Сережу совсем бросило в краску.
– Поедем ко мне. Я тут недалече на пасеке. Покормлю, а то вы тут на казенных харчах отощали. Споешь. А потом слова дашь списать.
Геологи покатились со смеху. Особенно захлебывался коллектор Ситечкин, соблюдавший даже в экспедиции ниточку пробора.
– Ой, уморила! Слова списать! Это же как в анекдоте! Ой, не могу! Ой, держите меня!
Пасечница наклонилась и пошла хлестать ивовой веткой Ситечкина, так что ему пришлось закрывать руками свой пробор. Заодно досталось и другим.
– Вам бы только рты разевать, охальники! А еще геологи… Садись на мою лошадь, парень. Поедем ко мне в гости. Песни петь будем. День у меня сегодня особый.
– Если особый день, так, может, песни в другой раз? – не выдержал Ситечкин и снова получил веткой крест-накрест.
– Ведите себя прилично, Ситечкин, – сказал Коломейцев жестко. – А вы, Сережа, поезжайте, я вас отпускаю, – и слегка улыбнулся, не выходя из жесткости. – Оцените непосредственность приглашения…
Сережа взгромоздился на лошадь сзади пасечницы, и она, ударив пятками по рыжим бокам, взбросила ее в мир, постепенно наливающийся мерцанием звезд.
– Да ты не стесняйся, держись за меня крепче, – крикнула Сереже пасечница, не боясь и в сумерках гнать лошадь: видно, все было здесь знакомо и лошади, и ей. Пасека стояла верст за пять от палаток, на склоне горы, там, где в степи покачивался неожиданный островок рощи. В эту сторону геологи не ходили и даже не догадывались о существовании пасеки, где жила, неизвестно почему совсем одна, эта независимая пасечница, так здорово умевшая скакать и защищаться от грубых мужских шуток хотя бы этой ивовой веткой.
Пасечница ввела Сережу в сиявшую чистотой избу, усадила за стол, мигом накрыв его белой скатертью. На скатерти немедленно очутились тарелки, вилки, ложки, дымящийся чугунок с истомившейся в печи картошкой, соты, слезящиеся медом, два больших железных ковша и, наконец, брезентовое ведро, полное золотистой, чуть пенящейся жидкости.
– Это что? – растерянно спросил Сережа, когда пасечница зачерпнула ковшом из ведра.
– Медовуха. Да ты не бойся, от нее голова не болит, – сказала пасечница, уселась напротив и, чокаясь своим ковшом с Сережиным, протянула свободную руку через стол лодочкой: – Я буду Груня… А ты?
– Сережа. – И Лачугин, чтобы не осрамиться, сделал все, как делала Груня: допил до дна действительно пахнущую медом жидкость и закусил обжигающей картошкой, а потом сотами.
– День у меня сегодня особый, – загадочно повторила Груня, наполняя ковши снова, и глаза ее золотисто заблестели, как будто медовуха передала им свой цвет.
– Это какой же? – осмелел после второго ковша Сережа.
– Особый, и все. А больше не спрашивай… Я же у тебя ничего не спрашиваю…
После третьего ковша голова у Сережи оставалась ясной, а вот попробовал шевельнуться – и не смог, словно все тело налилось вкрадчивым медом. Это странное одновременное ощущение необычайной легкости и тяжести удивило. А глаза у Груни все больше и больше золотели. Она смотрела на Сережу хорошо, неопасно, но все подливала ему и сама пила. Потом положила подбородок на два сильных красных кулака и сказала умиротворенно:
– А теперь спой, Сереженька…
Сережа прихлебнул еще для храбрости медовухи, поднял глаза в потолок, чтобы не стесняться Груни, и запел: «We shall overcame…»
Почему-то ему захотелось спеть именно эту песню. Пелось ему даже еще легче, чем на тропинке, и собственный голос казался необыкновенно мощным. Но когда Сережа опустил глаза, он увидел, что Грунино лицо исказилось не то что страхом – ужасом.
– Это не ты… – сказала Груня. – Это не ты…
– Это я, – ответил Сережа. – Это я всегда пою на тропинке.
– Нет, это не ты… – покачала головой Груня. – Ошиблась я… Тот всегда поет про какой-то коридор…
– Про какой коридор?… – ошеломленно сказал Сережа. – Я ничего такого не пою…
– Да не в песне дело. Голос у него не твой.
И тогда Сережа вспомнил, что когда Ситечкин по утрам перед карманным зеркальцем, прикрепленным к колышку палатки, работает над своим пробором, то обычно поет довольно бархатистым баритоном «Тореадор, смелее в бой…».
– Это не коридор, это тореадор… – упавшим голосом сказал похолодевший Лачугин.
– Во-во, правильно! «Ты в коридор… смелее пой…» Да и голос, голос настоящий, не то что твой. Ты ведь кричишь, а не поешь. А он – поет… Кто же это он?
– Ситечкин… – пробормотал Сережа. – Тот, которого вы веткой отхлестали.
И внезапно слезы обиды за то, что он кричит, а не поет, подступили к его глазам, и он заплакал. Ему было стыдно, он хотел подняться и убежать, а ноги не подчинялись. И вдруг он ощутил на своем лице шершавые ласковые ладони, стирающие ему слезы.
– Ой, да ты обиделся на меня… Как дите, прямо как дите… И почему это бог тому мордовороту-охальнику голос дал, а не тебе… – Тут Груня осеклась. – Да и у тебя голос, наверно, хороший. А может, даже и лучше, чем у него… Только голос твой изнутри еще не вынутый.
– Как это – не вынутый? – всхлипывал Сережа, но уже утихал.
– В горле он застревает… Ты его дальше горла не пускаешь. А поют грудью. Только почему и ты по-иностранному поешь? Что, у нас русских песен не хватает?
– Я, может, спел плохо, но это хорошая песня, – сказал Сережа. – Ее поют американские прогрессивные студенты…
– Какие? – переспросила Груня. – Негры, что ли?
– Почему негры? И белые тоже есть прогрессивные.
– А о чем же поется в этой песне?
– Припев там такой:
Мы победим,
Мы победим,
Мы победим,
Мы победим однажды…
– Ишь ты… А я и не поняла. Теперь все ясно. А по-иностранному напой… Только тихонечко…
Сережа напел.
И вдруг случилось чудо: Груня сразу повторила без слов эту мелодию редким по красоте грудным голосом, поднимая ее все выше и выше, так что песня расширилась, окрепла, стала больше этой избы, только теперь уже нельзя было понять, чья это песня – американская или русская.
– Хочешь, еще спою? – спросила Груня. – Мамину, покосную.
– Хочу, – покорно ответил Сережа.
И Груня запела:
Как на покосе, да из-под бровки
упало сразу три слезы.
Одна присела на литовке
и просит: «В город отвези».
Как на покосе да вот что сталось,
слеза вторая говорит:
«А я в деревне век останусь,
где твой отец в земле зарыт».
А третья скачет, а третья скачет
да по нескошенной траве,
совсем не плачет, совсем не плачет
у ней лишь радость в голове…
– А почему ты говоришь, что эта песня – мамина? – спросил Сережа.
– А ее мама придумала. Она любила песни придумывать…
– Сама писала?
– Да нет, какой там писала! Она неграмотная была. Придумывала. В уме, значит, складывала.
– А она жива?
– Я же тебе сказала: ни о чем меня не спрашивай… День у меня сегодня особый… Давай я тебя петь поучу…
– У меня не получится, – понурился Сережа.
– Как это – не получится? У того мордастого получилось, а у тебя – нет? Только пойдем на крылечке посидим. Крылечко – оно помогает.
Поняв, что Сереже трудно подняться, Груня приподняла его, как перышко, поставила на ноги, вывела на крыльцо. Они присели на ступеньке, и со всех сторон зашептала, задышала ночь.
– Слышишь? – спросила Груня.
– Слышу…
– Дай я тебе на плечи мой платок накину. Да не бойся ты, я не кусаюсь… Ночь-то как дышит! Вот ты и попробуй спеть так же, как ночь дышит… На звезды смотри. Когда на них смотришь, они голос как будто вытягивают. Только не кричи, а потихоньку начинай. Голосом дыши, чтобы из глубины выходил…
– А что будем петь?
– А что хошь, хоть твою иностранную.
– А может, песню твоей мамы?
– Понравилась? Можно. Только не сразу заступай, а за мной. Да не на меня смотри, а на звезды.
И Груня начала:
Как на покосе, да из-под бровки…
Потом ее рука тихо-тихо коснулась Сережиного плеча под платком. И Сережа, глядя на звезды, как учила Груня, запел, вторя ее голосу:
…упало сразу три слезы.
Звезды действительно словно вытягивали голос, и он сливался с голосом Груни, с окружавшими их журчаниями, шелестами, вздрагиваниями природы. Сережа не заметил сам, что песня кончилась, и как будто еще продолжал петь, хотя уже замолчал.
– Ну, видишь, как у тебя все получилось, – сказала Труня. – Это потому, что у тебя душа чистая.
– Откуда вы знаете?
– Сразу видно, – ответила Груня. – Давай еще что-нибудь споем. С тобой петь хорошо. Правильно я того мордоворота отхлестала.
И они еще долго сидели на крыльце, и Сережа пел песни, многие из которых он никогда нигде не слышал. А потом Груня повела его за руку в избу, уложила, как ребенка, принесла ему в ковше на этот раз воды, и его зубы счастливо и неверяще стучали по холодящему краю ковша, пока она раздевалась рядом, повторив еще раз в темноте свою так и оставшуюся неразгаданной фразу: «День у меня сегодня особый…»
Груня отвезла его на лошади к палаткам рано утром, когда конские бабки окунались в стелющийся по низинам туман, крепко поцеловала, сказала с неожиданной жалостью: «Не испортили бы тебя…» – и, хлестнув ивовой веткой лошадь, исчезла. Сережа успел нырнуть в спальный мешок так, что никто не заметил, а через пятнадцать минут уже прозвучало энергичное коломейцевское: «Подъем!» Ситечкин попробовал было похихикать и любопытствующе потолкать Сережу в бок, но коломейцевский презрительный взгляд остановил Ситечкина. Когда геологи вернулись с поля, повар с особым значением в глазах отвел Сережу в сторону и показал ему на берестяной короб. В коробе было несколько жбанов, до краев заполненных светлым искрящимся медом.
– Хорошая баба, – сказал повар. – Говорила на прощанье: за песни…
После ужина Сережа направился в сторону пасеки, стараясь исчезнуть незаметно, но в нескольких шагах от костра на его плечо легла ладонь Коломейцева.
– Не расслабляйтесь, Лачугин. Приключения приключениями, а работа работой. Завтра у вас дальний маршрут.
Сережа вернулся с «поля» через три дня. Когда он пришел на пасеку, ульев больше не было. Окна и дверь были забиты досками. Мед скоро съели.
…Наверно, у каждого в молодости бывает демон постарше возрастом, пытающийся разубедить юную душу в людях и вселить сомнения в самой возможности бескорыстия. Коломейцев таким демоном для Сережи не был – он был его идолом. В Коломейцеве была жесткая элегантность походного джентльменства: он никогда не лез в чужую душу, но и не допускал людей в свою. Он был всецело подчинен только главкой рабочей задаче, и если допускал отклонения от нее, то лишь незаметные для окружающих, а если допускал отклонения других, то только с его, коломейцевского, ведома. Он считал, что иначе все бы распалось. В экспедиции не было ни тени панибратства с начальником, и самим начальником пресекалось панибратство подчиненных друг с другом. Втихомолку кое-кто из геологов называл это «просвещенным абсолютизмом». Но Коломейцева невозможно было упрекнуть в том, что, не давая поблажек другим, он ставил себя в какое-то особое, привилегированное положение. Его привилегия была только одна: решать все самому.
Он ходил в самые трудные маршруты, проявлял самое большое мужество в тяжелые моменты, и никто не знал, волнуется ли когда-нибудь Коломейцев. Это создавало известные преимущества по сравнению с экспедициями, где начальники заискивали перед подчиненными, или спрашивали на общих собраниях повышенным голосом: «Что делать?», или срывались на крик, вызывавший неуважительные усмешки. Сережа еще с детства понял, что существует категория людей, которые патологически боятся сами решать какие бы то ни было вопросы. Это выявилось еще на заседаниях редколлегии школьной стенгазеты, когда некоторые ребята тренировались в боязни ответственности, начиная со школьной скамьи. Коломейцев никогда не боялся решать, он, казалось, был создан для решений. Решительным человеком был, впрочем, и Игорь Селезнев. Но Коломейцев, в отличие от Селезнева, никогда не гнушался самой черной работы, никогда не оскорблял людей зря. Селезнев не был трусом, но смелость у него была какая-то умышленная, а у Коломейцева врожденная. Селезнев окружал себя подхалимами, а Коломейцев их терпеть не мог.
Сережа, упрекавший себя за безволие, за склонность к сентиментальным внутренним рассуждениям, боготворил Коломейцева, ему хотелось быть таким же, как он. А вот демон у Сережи все же был. Фамилия демона была Нахабкин, и он работал завхозом на базе экспедиции в маленьком рудничном городке. Сережу иногда посылали на базу за инструментами, за продуктами, и ему приходилось пользоваться липким гостеприимством Нахабкина. Нахабкину было лет пятьдесят. Его большая лысая голова с крошечными насмешливыми, выискивающими что-то подленькое в людях глазами была посажена на коротенькое, однако крепенькое, как у гриба-боровичка, туловище. Нахабкин огорошил Сережу уже первым вопросом на складе, отпуская ему продукты:
– Воруешь?
– Нет, – подавленно ответил Сережа.
– Врешь. Все воруют, – радостно рассмеялся Нахабкин. – А детским грехом занимаешься?
– Что это? – не понял Сережа.
– Не прикидывайся, что не понимаешь, – ввинтил в него свои глаза Нахабкин.
Сережа побагровел, не находя слов, и глухо выговорил:
– Нет.
– Врешь… Все в твоем возрасте этим занимаются. Ведь покраснел, голуба, покраснел. Да ты не стесняйся, дело преходящее… Правда, оно имеет свои преимущества – провожать не надо… – захихикал Нахабкин.
– Прекратите ваши мерзости… – резко сказал ему Сережа.
– Да какие это мерзости, – заюлил Нахабкин. – Все это жизненное и потому не стыдное. Да ты не сердись, я тебя на жизненность испытать хотел. Ты, голуба, нежных слов бойся, а не грубых. Нежные слова в обман вводят, жизненность в человеке подрывают, а грубые слова, если даже и через край перехватывают, закаляют. После нежности на улицу страшно выйти – любая крохотная грубость в ужас бросит, а после грубости и нежность не страшна – уже не обманет. Тебя в детстве били?
– Нет, – неохотно ответил Сережа.
– А это и видно, поэтому ты грубости не ценишь. А ты цени Нахабкина, цени… Нахабкина знаешь как бабка в детстве била? В мокрую простыню завертывала, чтобы следов ни-ни на теле, и – сырым поленом. Зато в Нахабкина этим сырым поленом жизненность вбита. – И завхоз гордо игранул ржавой гирькой, надетой на указательный палец.
Пригласив Сережу домой, Нахабкин долго разглагольствовал о том, что все люди подлецы, а любовь, дружбу и все прочее выдумали писатели, которые в своей личной жизни точно такие же подлецы, как и все остальные. И между прочим выяснилось, что Нахабкин сам пописывал, и даже продекламировал Сереже отрывки из своей поэмы, написанной онегинской строфой в толстенной учетной книге. Сереже запомнилось только:
Она воспитана была
не эмигранткой Фольбала,
не в благородном пансионе,
а в большевистском детском доме.
И еще:
Он с чемоданом, как два брата,
шагает площадью Арбата.
У Нахабкина была сожительница, работавшая судомойкой в рудничной чайной, – невзрачная женщина с глазами, забито прячущимися от людей. Нахабкин избрал ее предметом постоянного унижения. После его возвращения с работы она всегда мыла ему ноги. Нахабкин особенно любил устраивать ритуал омовения ног в чьем-нибудь присутствии. Очевидно, по его мнению, это возвышало его самого и унижало все остальное человечество в лице этой женщины. Однажды, беседуя с Сережей, он велел принести сожительнице таз и опустил туда ноги, с наслаждением шевеля волосатыми пальцами в горячей воде и покряхтывая. Нахабкин, попивая свой любимый напиток – спирт, смешанный с крепким чаем («пуншик» – как он ласково его называл), вещал: