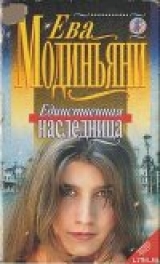
Текст книги "Единственная наследница"
Автор книги: Ева Модиньяни
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)
Глава 18
Заголовок в «Корриере» на странице, посвященной городской хронике, подтвердил его правоту. Возбужденный, сияющий, что нечасто с ним случалось, Чезаре явился к приятелю на следующий день.
– Ну, теперь ты убедился? – торжествуя, воскликнул он.
– Черт возьми! Да у меня глаза на лоб полезли, когда Артист выложил за эту коробочку шесть тысяч лир, – сознался потрясенный Риччо.
Заголовок, набранный крупными буквами, гласил: «Арсен Лупен в палаццо Спада».
– Кто такой Арсен Лупен? – удивленно спросил Риччо.
– Герой многих романов. Благородный вор, – ответил Чезаре, – который, если где-нибудь и натыкался на книгу, то обязательно жадно проглатывал ее.
– Или вор, или благородный, – изрек Риччо с присущей ему рассудительностью.
– Перестань болтать, – оборвал его приятель. – Давай лучше еще раз прочитаем.
Репортер подавал это происшествие, стараясь не упустить ни единой детали. Он много распространялся о подробностях блестящего праздника, описывал гостей, их титулы, состояния и наряды и рассуждал о личности таинственного вора, который, конечно же, был редкий талант, настоящий мастер своего ремесла, соперник Арсена Лупена, вор-виртуоз. Согласно версии журналиста, этому благородному похитителю удалось выдать себя за своего в обществе людей, принадлежавших к сливкам ломбардской аристократии. Многие дамы остались под впечатлением магнетического взгляда незнакомого кавалера, появившегося на мгновение и тут же исчезнувшего. «Как бы то ни было, – писал репортер, – преступник досконально знал дворец и знал, чего хотел. В кабинете знатного хозяина, где было немало антиквариата и редкостей, он взял только две вещи, но зато самые ценные: «Отдых дамы», венецианскую картину XVIII века, приписываемую кисти самого Лонги, и золотую табакерку с эмалью, отделанную небольшими, но чистейшей воды алмазами, – творение знаменитого французского ювелира. Граф Спада приобрел этот шедевр французского мастера несколько лет назад на лондонском аукционе. Специалисты оценивают его примерно в шестьдесят тысяч лир».
– Да, Артист не зря согласился выложить за эту вещицу шесть тысяч, – почесал в затылке Риччо. – А может, надо было еще больше запросить?
– Мы запросили как раз столько, сколько надо. И даже если это меньше того, что он мог за нее дать, нельзя нарушать свое слово. В конце концов, мы в этом деле новички.
– Однако мы неплохо его обделали, – ухмыльнулся Риччо. На него произвело сильное впечатление, что его приняли за вора международного класса, он буквально лопался от гордости.
Весь день они проработали в прачечной, но к вечеру не чувствовали усталости, настолько вчерашняя удача окрылила их. Раза два Чезаре столкнулся с хозяйкой, всякий раз чувствуя, как ее взгляд обжигает его, но даже словом не перемолвился с ней. Он помнил конец их любовного свидания: «Все кончается здесь».
Была уже середина августа, прошло немало дней с того лучезарного июльского воскресенья, но вдова обратилась к нему только раз, когда выразила сочувствие в связи со смертью матери. Радость любви и горе сошлись для него на одном кратком промежутке времени; горе было еще свежо, но и любовное воспоминание не переставало его волновать.
– Пойдем в кафе? – предложил Риччо за воротами прачечной, позванивая монетами в кармане.
– Никаких кафе, – строго одернул его Чезаре. – Никакого мотовства, никаких трат, отличных от тех, что мы делали всегда. Оставь в кармане пятьдесят чентезимо, а остальное спрячь. Даже твоя мать не должна знать, что у нас столько денег.
– Но у меня только пятьсот лир за картину, – улыбнулся тот, соглашаясь. – Положу их в надежное место. Надо найти хороший тайник.
– И положи туда же половину денег за табакерку, когда Артист нам заплатит за нее.
– Идея была твоя. Помнишь, я даже не хотел ее брать. Нет, табакерка меня не касается.
Чезаре посмотрел на него прямым взглядом.
– Если однажды, – сказал он, – в нашем общем деле тебе придет в голову идея, я тоже приму половину, которую ты мне предложишь.
– Ты хочешь сказать, что у нас будут еще такого рода дела? А что, у нас уже есть опыт. – Статья в «Корриере» убедила Риччо в своей неуязвимости.
– Я говорил не о кражах, а об идеях, – охладил его пыл Чезаре. – Я пошел на это один раз, и меня это даже развлекло. Но я украл не мастерок у каменщика. И никогда больше не собираюсь красть. На этот раз у нас ловко все вышло, нам повезло. Но фортуна улыбается только раз.
Риччо покачал головой, заросшей густой шевелюрой.
– Тебя и вправду не поймешь, – обескураженно сказал он. – Сам же только что украл, а уже читаешь нравоучения. Может, ты и прав, – продолжал он, пожав плечами. – Но почему бы нам не повторить, если это так просто и интересно.
– Кто продолжает, тот рано или поздно отправляется на каторгу. У меня же другие планы. Я хочу стать богатым. Деньги для начала у нас есть. Возможно, богачи тоже крали, чтобы начать свое дело… Я пока не знаю, во что лучше вложить эти деньги, но скоро узнаю.
На губах у Риччо заиграла плутоватая ухмылка.
– Единственное, что я умею делать с деньгами, – сказал он, – это тратить их. В лучшем случае я смогу их спрятать под камень.
– Я научу тебя, как их использовать, – пообещал Чезаре. Он протянул руку. – Дай мне и твои пятьсот. Я их тебе сберегу в бараке.
Комическое выражение лица Риччо сменилось трагическим.
– Почему это я должен отдать их тебе? Я, конечно, тебе доверяю, но все же хотелось бы знать.
– Сейчас объясню. – Они уже были возле Порта Венеция, и на город спускался вечер. – Кражу обнаружили на рассвете. Когда ты вернешься в свой квартал Ветра, там будет полно полицейских, которые обшаривают дома, расспрашивают людей и задерживают всех подозрительных.
– Ты думаешь, что «благородные воры» обитают в квартале Ветра и на виа Ветраски? – Это было дельное замечание, но Чезаре и на него нашел ответ.
– Полицейские не читают газет, – сказал он. – Они просто оцепляют квартал, хватают и обыскивают всех подряд, а потом уж рассуждают. И поверь мне, у них больше здравого смысла, чем у журналистов. Давай сюда деньги, – дружески повторил он.
Они свернули в укромный уголок за бастионами, где их никто не мог видеть.
– Вот деньги, – сказал Риччо, протягивая ему сложенные вдвое кредитки.
– Можешь считать, что они у тебя в кармане, – успокоил его Чезаре, быстро пряча их в карман своих брюк.
– Вечером Артист ждет меня у себя дома к девяти. Он должен отдать мне деньги за табакерку, – напомнил Риччо.
– Сегодня вечером в те края не ходи. – Это был приказ.
– Как это, не ходи? – не понял приятель.
– Если тебя возьмут с этими деньгами, что ты расскажешь?
– Да, – пробормотал, почесывая свои густые кудри, Риччо. – Ты прав, черт возьми. Что же нам тогда делать?
– Ждать, пока шум утихнет. Когда все уляжется, тогда и пойдешь за деньгами.
– А если он потом не заплатит?
Чезаре посмотрел ему в лицо своими ясными глазами и улыбнулся, закусив нижнюю губу.
– Я уверен, что заплатит.
И он, Риччо, тоже был уверен в тот момент, что Артист заплатит. Потому что этот парень, так часто ставивший его в тупик, его лучший друг, умел брать свое. На том они и распрощались.
Глава 19
Ровно в восемь, как всегда, все семейство садилось за стол. Чезаре – на месте отца, Джузеппина заняла место матери. Жизнь текла своим чередом, ничего не переменилось, даже обычная похлебка. Так было и в тот вечер, когда их навестил священник.
– Будь славен, господь! – сказал, входя, дон Оресте.
– Во веки веков будь славен, – эхом откликнулись Чезаре и Джузеппина, а за ними и младшие.
– Поужинайте с нами, – пригласил его Чезаре, в то время как священник, стоя в дверях, благословлял их.
– Стакан воды, – согласился тот, садясь на стул, торопливо придвинутый Джузеппиной. Сутана его была в пыли, башмаки изношены от долгой ходьбы, на шее платок в красно-синюю клетку, чтобы предохранить воротник от пота.
– Что мы можем сделать для вас? – Этот вопрос Чезаре, заданный со взрослой серьезностью, заставил священника улыбнуться.
– Я пришел сюда, чтобы спросить вас о том же, – ответил он мягко.
С длинной бородой и уже заметной лысиной, с усталыми глазами и глубокими морщинами, избороздившими лоб, он казался старше своих пятидесяти восьми лет.
– Но мы ни в чем не нуждаемся, – уверил его Чезаре, положив свою ложку на стол.
– А дети? – У дона Оресте было в этот вечер еще много дел, и он знал, что с этим парнем бесполезно заводить разговор издалека.
– Дети, – сказал Чезаре, – слава богу, в порядке. Они сыты, обуты, одеты и не более грязные, чем мы были в детстве. А когда придет время, младшие пойдут в школу.
– Они у вас худенькие, истощенные, – покачал головой священник.
– Они дети, – возразил парень решительным тоном. – Все дети худые. И я был такой, а вырос и стал сильным. Все дети кажутся слабыми.
– Ты упрямый, тебя не переспоришь, – пробормотал дон Оресте неодобрительно, – Если ты вобьешь себе что-нибудь в голову, то хоть кол на голове теши. Сколько же могут соседки следить за твоими братьями? У них же свои дети. Жизнь трудна, Чезаре. Все мы ломаем надвое хлеб, которого едва хватает на одного. – Он снял с шеи свой клетчатый платок, вытер им пот со лба и сунул в широкий карман сутаны. Дети продолжали шумно есть похлебку, время от времени давая друг другу тумака, но не мешая разговору взрослых.
– Подруги моей матери помогают нам по доброй воле, но, если не смогут помогать, мы с Джузеппиной справимся и сами, – ответил Чезаре. Он говорил спокойно, был сдержан и уверен в себе.
– Эти дети нуждаются в помощи и руководстве, – заметил священник, продолжая гнуть свою линию.
– Поговорим начистоту, дон Оресте, – сказал, улыбаясь, Чезаре тоном взрослого человека, которому незачем юлить. – Что вы надумали относительно моих братьев?
– Их нужно пристроить. Вот что я надумал. – Это означало попросту, что детей нужно отдать в приют.
– Куда? В Мартинит? – Это был известный во всем городе приют для детей-сирот, приют для простонародья.
– Да, там они будут обеспечены всем. Там есть школа, там их обучат ремеслу.
Чезаре видел их, этих остриженных наголо ребятишек, в серых брюках и курточках, застегнутых наглухо, с руками, синими от зимней стужи, с грустным взглядом покинутых детей. Он нередко видел их, мальчиков и девочек, сопровождающих чьи-то похороны и принужденных молиться за душу незнакомого человека, чьи родные вносят милостыню в приют. Они должны вечно молиться и вечно благодарить. Девочек с младенчества приучают держать глаза долу, чтобы воспитать безропотными и добропорядочными женщинами, мальчиков же – уважать начальство и покорно жить в стаде. Немногим удается выбиться в люди.
Все это мгновенно промелькнуло в голове Чезаре, пока он выслушивал слова священника. Он верил в добрые намерения дона Оресте, ведь все в квартале любили и уважали священника за его доброту, но представить своих братьев в этих серых приютских стенах было выше его сил. Чезаре не любил длинных разговоров, он знал, что людей трудно заставить изменить свое мнение, и потому, быстро все обдумав, выразил свое решение кратко.
– Я не отдам своих братьев в приют, – сказал он, отчетливо и спокойно выговаривая каждое слово.
Священник обхватил рукой подбородок и в досаде принялся подергивать его, словно хотел отломить.
– Я пришел, чтобы дать тебе добрый совет, – настаивал он. – Я надеюсь на твою рассудительность.
– Моя мать, – напомнил Чезаре, – тоже отказывалась пристроить детей в приют.
– Да. Когда умер твой бедный отец, я приходил к ней с этим. Она отказалась. Она сказала тогда: «Лучше нам умереть вместе». Так и сказала.
– Я тоже говорю вам, что лучше жить вместе, – упорствовал Чезаре.
– Закон говорит, что дети не могут быть предоставлены сами себе, – произнес дон Оресте строго. – Раньше у них была мать, которая отвечала за них…
– А теперь у них есть я и моя сестра Джузеппина. Мне исполнилось шестнадцать лет, ей – пятнадцать.
– Но вы работаете, – заметил священник.
– Слава богу.
– И уходите на весь день. – Дон Оресте отпил из стакана воды.
Чезаре оперся руками о стол, невольно подражая манере отца.
– С завтрашнего дня Джузеппина не пойдет на работу. Она будет присматривать за братьями.
Дон Оресте поглядел на него недоверчиво: они, и вдвоем-то работая, едва сводили концы с концами, а тут вдруг парень заявляет такое.
– На что вы собираетесь жить? – спросил он.
– Того, что я заработаю, нам хватит на всех. Я обещал матери, что позабочусь о семье, и намерен сдержать свое слово. Любой ценой.
– На один франк и двадцать чентезимо в день не прокормишь такую семью, – предупредил его священник.
– Я не собираюсь всю жизнь работать в прачечной за гроши. Я сказал, что буду работать и зарабатывать достаточно, чтобы содержать всех.
– Лишь бы тебе не пришлось при этом вступить на бесчестный путь, – сказал дон Оресте, предостерегающе подняв палец.
Чезаре взглянул своими светлыми, стальной голубизны глазами в его черные гноящиеся глаза и слегка усмехнулся. Он мог бы ответить, что бесчестием чаще грешат богатые. А если беднякам и приходится иной раз впадать в искушение, то богу, который всегда милосерден, все-таки легче простить их. Но он избегал долгих разговоров и потому сказал:
– Постараюсь, святой отец, постараюсь!
– Амен, – сказал дон Оресте, склонив голову и перекрестившись.
Странный все-таки парень этот, Чезаре Больдрани. Есть что-то особенное в его взгляде, во всем его поведении. Он вспомнил сказку о гадком утенке, который в конце концов превратился в лебедя. Но лебеди бывают белые, а бывают и черные. Дон Оресте не сомневался в том, что Чезаре однажды превратится в лебедя. Но в белого или черного, этого он не мог предугадать.
– Могу я все же хоть что-нибудь сделать для вас? – спросил он, вставая.
– Нельзя ли помочь нам раздобыть лошадь и шарабан на один день? – сказал Чезаре с обескураживающей простотой, так, словно просил стакан воды.
От неожиданности дон Оресте опустился на стул.
– Лошадь? – спросил он. – Шарабан? Для чего?
– Завтра феррагосто.[3]3
Праздник Святой Девы Марии, который отмечается 15 августа.
[Закрыть] – Ему казалось, что это достаточная причина, хотя она была и не единственная.
– Значит, лошадь и шарабан нужны, потому что завтра феррагосто? – спросил священник, удивленно подняв брови.
– Я бы хотел отвезти сестер и братьев в церковь Мадонны Караваджо. Мама особенно почитала ее. Нам всем нужно испросить ее милости. Да и выпить воды из освященного источника тоже полезно.
– Не сомневаюсь, – согласился священник. – Но с чего ты взял, что я в силах раздобыть лошадь и шарабан?
– В нашем приходе все новости быстро разносятся.
– Значит, тебе сказали…
– Да, что Тито Соццини… Извините, – поправился он, – что синьор Тито Соццини подарил вам лошадь и шарабан.
– Это не лошадь, а настоящий рысак, – сказал, улыбаясь, священник. – Впрочем, ты и сам это знаешь. Ты ведь заменял у него несколько недель кучера, когда тот заболел.
– Да, я люблю лошадей, – признался Чезаре с улыбкой.
– И знаешь, почему я дам тебе эту лошадь, которая ест мое сено и зерно, но которую сам я ни разу еще не запрягал?
– Потому что вы наш приходский священник. И при этом добрый священник. Потому что вы любите нас.
Дон Оресте засмеялся и махнул рукой.
– Приходи за ней завтра пораньше. Прогулка будет для лошади полезна. И да хранит вас небо!
Глаза малышей переходили с дона Оресте на брата и обратно на дона Оресте, как у целлулоидных кукол. То, что они услышали, превосходило их самые радужные фантазии. Путешествие на лошади в Караваджо – об этом можно было только мечтать!
Глава 20
Джузеппина вся светилась радостью, и ей стоило немалых усилий скрыть это радостное волнение от предстоящей поездки за осторожной улыбкой и потупленным взором. Она чувствовала себя молодой дамой в этом черном перкалевом платье, когда-то принадлежавшем матери, которое теперь уже пришлось ей в самую пору. Платье облегало ее стройную фигуру, она сидела выпрямившись и опускала глаза перед встречными повозками и празднично одетыми людьми, которые улыбались, разглядывая ее. Дети прямо-таки светились радостью; они были свежие, опрятные и счастливые, как никогда. Даже при жизни родителей у них не было столь волнующего приключения: они на шарабане, запряженном бегущей быстрой рысью лошадью, везущей их к святилищу этим праздничным летним утром, – еще вчера такое показалось бы им сказкой. Джузеппина умыла и почистила ребятишек, которые даже не протестовали: чтобы испытать такое нежданное удовольствие, они были готовы на все.
Сам Чезаре в шляпе набекрень, в полосатой рубашке с белым воротничком и отцовских брюках, самых лучших, свадебных, опытной рукой держал поводья, мягко опустив их на блестящий круп лошади, но натягивая при виде автомобиля, когда приходилось замедлять ход или сворачивать на обочину дороги, чтобы пропустить это рычащее чудовище. За рулем автомобилей сидели люди в кепках, серых пыльниках и больших очках, делавших их похожими на пришельцев с других планет. Дети разражались радостными возгласами, махали руками, посылали приветы и бесновались, не обращая внимания на пыль, в то время как Джузеппина безуспешно призывала их к порядку. Чезаре молчал, поглощенный своими мыслями, но, как и его братья, остро ощущал эту радостную атмосферу праздника, яркого солнца и цветущего края. Крестьяне в больших соломенных шляпах, склонившись над золотом жнивья, вязали снопы, а дети, помогавшие им на поле, подбирали оставшиеся колоски. С восхищением глядели они на семейство Больдрани, катившее по дороге в прекрасном зеленом шарабане, который везла большая сильная лошадь.
Они выехали на рассвете и прибыли в Караваджо в разгар утра. Чезаре договорился с одним крестьянином, который за несколько монет оставил у себя лошадь с повозкой, предоставив ей тенистый навес, охапку сена и воду.
Сбившись в кучку, точно маленькая группка экскурсантов, Больдрани вышли на площадь, где уже толпилось немало паломников, где продавались с лотков памятные медальки, открытки и образки почитаемой здесь Мадонны в стеклянном шаре. Стоило его перевернуть, и голубая фигурка внутри покрывалась белым снегом. Джузеппине и детям это казалось истинным волшебством, верхом совершенства.
Здесь было много продавцов дынь, которыми славилось Караваджо: они двигались по площади с большими корзинами, нагруженными сладкими ароматными плодами. Тут был и продавец кофе в длинном белом фартуке; наклонившись, он ставил стакан на колено, чтобы наполнить его душистым напитком из медного кофейника. Карамельщик выставлял свой товар на деревянном подносе, подвешенном у него на шее. Множество ребятишек роилось вокруг, они поднимались на цыпочки и протягивали ему монету в пять чентезимо в обмен на кулечек разноцветных сахарных шариков.
– Отведи их в церковь, – сказал Чезаре старшей сестре. – Потом купи им чего-нибудь поесть. Увидимся здесь на площади около полудня.
– Хорошо, – кивнула Джузеппина. Она впервые оказалась в незнакомом месте с малышами и не ожидала, что Чезаре оставит ее одну, но, если он приказал, значит, так надо.
Над порталом большого старинного здания была надпись, высеченная в камне: КОЛЛЕГИЯ СВЯТОГО СЕРДЦА ИИСУСА. Фасад был не такой строгий, как Чезаре воображал себе, совсем не монастырский. Коллегия Святого Сердца Иисуса, основанная в середине восемнадцатого века как монашеская обитель для девушек из хороших семей, унаследовала в своей архитектуре все признаки той фривольной эпохи. Монахини Святого Сердца руководили здешней школой уже больше века и считали благословением неба, если им удавалось убедить какую-нибудь девушку отказаться от мирской жизни и принять обет. Тяга богатых и знатных девушек к монашеству, что всегда означало престиж и деньги для монастыря, нынче сильно поубавилась, и дела его были в упадке.
Чезаре остановился перед массивной дверью коллегии – рукоятка колокольчика из желтой латуни сверкала, как золотая. Он слегка потянул ее и услышал, как заскользила железная проволока, соединенная с далеким колокольчиком, который отозвался секунду спустя серебристым веселым перезвоном. Прошло с полминуты, пока пожилая монахиня успела перейти от привратницкой к двери. Окошечко открылось, и в нем показалось ее лицо.
– Славен господь! – произнес Чезаре единственную формулу, которой его научили при встречах со служителями церкви, и снял шляпу.
– Что тебе надо, юноша? – ответил ему надтреснутый старческий голос.
Ясно было, что, раз он пришел, значит, чего-то ему здесь надо, но не мог же он рассказывать историю своей жизни или делиться мыслями, которые терзали его, через окошечко.
– Я бы хотел поговорить с достопочтенной матерью-настоятельницей, – объяснил он.
– Вот как, – сказала старушка не без иронии, показав морщины, которые лучами расходились от углов ее глаз. – Ах, какой прыткий! «Хочу поговорить с матерью-настоятельницей». Ты знаешь, сколько народу хотело бы поговорить с ней? Ты это себе представляешь? – В лице старой монахини было и женское любопытство, и монашеская степенность. – Ты что, знаком с матерью-настоятельницей? – Она говорила с ним так, словно и не собиралась покинуть окошечко и открыть ему дверь.
– Нет, сестра, – признался Чезаре, терпеливо перенося дотошность монахини. – Я незнаком с матерью-настоятельницей.
– Видишь, значит, я была права, – ответила монахиня, все время меняясь в лице в своем театрике-окошечке. – О чем ты хочешь говорить с ней?
– Мне нужно получить у нее некоторые сведения. – Монахиню было нелегко уговорить.
– И ты хотел побеспокоить мать-настоятельницу только для этого? Какие сведения? – спросила она с любопытством, совсем не монашеским.
– Сестра, причина у меня есть, – ответил Чезаре решительным голосом, – но я не могу сказать вам, какая.
– Ах вот как! Посмотрите-ка на него!.. – укорила она, покачивая головой в своем театрике. – А впрочем, подожди-ка минутку! – сказала она, неожиданно захлопнув окошечко.
Прошло несколько тягучих мгновений тишины под солнцем перед темным подъездом. С площади доносились голоса и праздничные звуки, но на площадке перед коллегией не было ни души. Наконец створка двери открылась, и старушка впустила его.
– Ну ты и прыткий, – пробормотала она, медленно обходя вокруг него и обшаривая его любопытным взглядом. – Хочешь видеть мать-настоятельницу, и притом немедленно, а сам даже не договорился о встрече. – Она бормотала это про себя, как бы в раздумье, продолжая внимательно разглядывать его и словно бы ища в лице и фигуре этого парня какое-то давнее воспоминание, которое постепенно обретало в чреде давно забытых событий осязаемо ясную форму.
Уже то, что его впустили, было для Чезаре удачей.
– Вы думаете, она сможет принять меня? – спросил он.
– Увидим, – ответила монахиня, продолжая вглядываться в его лицо. – А ведь те же глаза, – прошептала она, неожиданно переменив разговор.
– Какие глаза? – удивился парень.
– Твои глаза, – настаивала монахиня. – Я эти голубые глаза уже видела.
Чезаре пожал плечами: где она могла его видеть? Старость – не радость: у монахини все перепуталось в голове.
– Так сможет она принять меня?
– Кто? – Легкими касаниями старушка сняла невидимые пылинки с его рукава.
– Мать-настоятельница, – терпеливо повторил Чезаре.
– Подожди. Я пойду доложу о тебе, – сказала монахиня.
Чезаре остался один в квадратном монастырском дворике, обнесенном изящными колонками, закрытыми внизу балюстрадой, заставленной цветочными горшками. Дорожки из белого гравия огибали красивые клумбы. Посередине журчал фонтан в виде широкой гранитной чаши, по краям которой четыре беломраморные голубки брызгали водой из клювов. Журчание фонтана в тишине и этот дворик, благоухающий травой и цветами, навевали чувство гармонии и покоя.
Из глубины портика, словно выходя из картины, появилась хрупкая женская фигурка, одетая в черное, с руками, спрятанными в широких рукавах монашеского одеяния. По мере того как женщина приближалась, черты лица ее приобретали отчетливость: строгие властные глаза, крупный, но хорошо вылепленный нос, тонкие губы. Белоснежная повязка закрывала лоб и часть щек, голова была закрыта черной накидкой. Очень красивая и еще молодая, она казалась феей-хранительницей этого замкнутого мирка с его незыблемой тишиной, ласкаемой журчанием фонтана и витающим над ним ароматом трав и цветов.
– Пойдемте со мной, – сказала она, не останавливаясь, и Чезаре покорно последовал за ней. Этот уверенный, но в то же время мягкий и мелодичный голос произвел на него особое впечатление – такой голос не услышишь в том мире, в котором жил он.
Они прошли весь портик, поднялись на второй этаж и вошли в прохладный коридор. Монахиня открыла небольшую, но массивную дверь, которая вела через две мраморные ступеньки в просторное помещение, в полутьме которого витал тонкий аромат спелых колосьев и старинного дерева. Стены были белые, мебель самая необходимая: продолговатый темный ореховый стол и несколько стульев с высокими спинками. Позади стола виднелось деревянное распятие. Мать-настоятельница села на свое место за столом с неуловимой грацией, на ее просторной одежде не было ни складки, спина прямая, пальцы рук слегка касались друг друга, что выдавало привычку к молитве.
– Слушаю вас, – сказала она.
Чезаре был немного растерян и подавлен этой обстановкой, присутствием этой молодой монахини, которая с вежливой светской улыбкой смотрела ему прямо в глаза, как бы подчеркивая то огромное расстояние, которое разделяло их.
– Вы в самом деле мать-настоятельница? – недоверчиво спросил он.
– Я мать-настоятельница, и я здесь, чтобы выслушать вас. – В первый раз в жизни к нему обращались на «вы». – Надеюсь, дело ваше недолгое, у нас еще много неотложных дел.
– Эта история немного странная, – запинаясь, сказал он. – Да она, наверное, и неинтересна для вас. Мне бы просто хотелось узнать… У вас, конечно, есть документы, какие-то бумаги за прошлые годы. Я бы хотел узнать, была ли здесь раньше служанка по имени Изолина.
Монахиня поглядела на него, не выказывая никакого интереса к его словам.
– Почему вы хотите это узнать? – спросила она.
– Она была моей прабабушкой. – Чезаре не удалось сохранить нужное спокойствие.
– И она работала в этом монастыре?
– Да, как мне говорили.
Монахиня в своей невозмутимости казалась нарисованной, белый фон и распятие подчеркивали ощущение картинности.
– Можно справиться в архивах, – сказала мать-настоятельница. – Нужно обратиться к прошлому веку. По-вашему, в какие годы Изолина была с нами?
– Точно я не могу сказать. Посчитайте: моя мать родилась в 1876 году, а ее отец около 1850-го. Значит, моя прабабушка должна была находиться здесь в эти годы.
Вспышка румянца залила лицо монахини, ее глаза засверкали от негодования.
– Здесь никогда не рожали, – проговорила она твердо, но все же не повышая голоса.
– Возможно, это случилось прежде чем она попала сюда, – осмелился вставить Чезаре, понимая, что сделал что-то не так.
– Мы хорошо знаем тех, кого принимаем в этой обители, – холодным тоном сказала она.
– Может быть, если бы я рассказал вам подробно мою историю, – добавил он, – вы бы поняли.
– Я здесь не для того, чтобы выслушивать чужие истории, – возразила она, вставая и прекращая разговор. Было такое впечатление, словно она сама хорошо знала эту историю, но не хотела говорить о ней.
– Считайте это исповедью, – настаивал Чезаре, не желая сдаваться.
– Для исповедей есть священники, – коротко отрезала она. – Думаю, что дорогу вы помните.
– Я понял, – пробормотал он, униженный. – Извините, я не хотел…
Он встал и вышел, не оборачиваясь; тяжелая дверь захлопнулась за его спиной. Он остался один в коридоре на втором этаже монастырского здания, стрельчатые окна которого выходили во двор. Горячая августовская жара словно не касалась здания, где все дышало спокойствием. Дальним эхом доносились до него слова молитвы, произносимой хором стройных женских голосов: «Царица небесная, матерь милосердная, спаси и защити нас…» Едва уловимо, в паузах этой молитвы, слышалось журчание фонтана со двора.
– Ну видишь, разве я была не права? – набросилась на него старая монахиня, которая впустила его. Она возникла неожиданно, словно ждала в засаде.
– Мне только нужно было кое-что узнать, – ответил Чезаре, оправдываясь.
– Да, – опять задумчиво сказала она. – Эти голубые глаза я уже видела. Голубые глаза Изолины.
– Так вы знали ее? – Он оказался вдруг ближе к разгадке, чем думал.
– Пойдем, – сказала старая монахиня, увлекая его к выходу. – Ты, верно, хочешь узнать про Изолину?
В отличие от матери-настоятельницы она говорила знакомым ему языком, языком двора или гумна. Она состарилась здесь, в этом затворническом покое, но выросла там, где крестьянские корни глубоки и где тарелка супа и кусок хлеба достаются не молитвами, а трудом.
– Да, я хотел узнать о ней, – сказал Чезаре.
– Помню, помню Изолину, – задумчиво заговорила монахиня, вглядываясь своими старческими, с красными прожилками глазами в лицо парня. – У нее были такие же, как у тебя, голубые глаза, но не было твоей настырности. У меня память стариков – память о прошлом.
Они сидели в келье старой монахини, светлой маленькой комнатке, где были только кровать, столик, на котором стояли свеча и кувшин, да распятие на стене. Освещалась она большим окном, защищенным сеткой от комаров. Чезаре сидел напротив монахини на плетеном стуле, а старушка – в большом старом кресле, своим сухоньким маленьким тельцем почти утопая в нем.
– О сегодняшнем я не помню почти ничего. Твои глаза… Через них я снова вижу глаза Изолины и мою молодость. А ты кто ей будешь? Внук? Правнук?
– Я ее правнук, сестра, – ответил Чезаре.
– Правнук, – повторила старушка. – Бедная Изолина! – Она оперлась локтем о ручку кресла, нажала большим пальцем на висок, а другими пальцами легонько помассировала лоб. Ее изможденное лицо было все в морщинах, глаза запавшие, нос тонкий, почти прозрачный. Она обращалась к юноше, но словно бы говорила сама с собой. – Изолина была нашей служанкой, – сказала она. – Служанкой господа, и она имела добрую душу. Я незадолго до этого приняла обет, была совсем молодая девушка, а у нее уже был ребенок. Раз в году ей разрешали съездить в Милан навестить своего ребенка, который был в приюте Мартинит. Однако она никогда не ездила одна, а только в сопровождении монахини.
– Однажды я поехала с ней, и по пути она призналась мне в том, что согрешила. Тяжкий грех, – задумчиво произнесла старая монахиня. – Она привязалась к одному знатному юноше из рода графов Казати, Казати же, щедрые вкладчики монастыря не в одном поколении, заключили ее сюда, чтобы искупить этот грех.
– Я слышал другое, – сказал Чезаре, склонившись к ней.
– Молчи! Что ты знаешь? – возмутилась она. – Изолина искупила свой грех. Трудилась не покладая рук и молилась денно и нощно. Иной раз заставали ее в слезах. И в тот раз, когда я сопровождала ее в Милан, она плакала. Я ее спросила: «Отчего ты плачешь, Изолина? Мы ведь побываем в Милане, увидим столько интересного». Но самое печальное в этой истории было то, что ребенок даже не догадывался, что женщина, которая навещает его раз в году, – его мать. Она приносила ему всякий раз пару груш, жареные каштаны и кулек с печеньем. Без слез смотреть на их свидание было невозможно.







