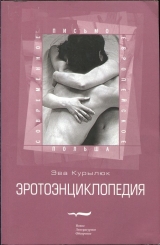
Текст книги "Эротоэнциклопедия"
Автор книги: Эва Курылюк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
Мой папа просит: дочка, полетим вместе в Киото. Когда-нибудь я полечу: в гости. Мы вместе отправимся на юг. Я покажу моему папе буддийские монастыри в Нагасаки. Между красными колоннами вздуваются цветные занавеси. Ветер лепит из них шелковые воздушные скульптуры. Листочки с предсказаниями шелестят на веточках сакаки. Там в большом котле варили рис для обожженных. По другую сторону залива город не был разрушен до основания. Может, увидев его, папа станет меньше страдать.
Для Юки И Нью-Йорк – идеальное место: здесь много родственных душ. Недавно я познакомилась с агентом Анн: Малагой и ее подругой. Это пара, какой мне хотелось быть с Тоши: неразлучной, до гроба. Единственная их мечта, пока неосуществимая, – собственный ребенок. О связи с мужчиной не может быть и речи. Возможно, когда-нибудь они решатся на искусственное осеменение.
Для вас, уважаемый господин Профессор, у меня есть сюрприз. В больнице Белсайз лежит тяжелый больной. В прошлом году он чуть не покончил с собой. Месяцами умолял об эвтаназии. Потом умолк. Когда-то он был художником. И теперь снова рисует. Работает он только по ночам. Ему необходимо полное одиночество. Моя дорогая госпожа доктор не возражает. Эд покрывает пол и стены суровым полотном. Обливает себя красной краской. Катается в ней. Оставляет следы. Отпечатывается. На засыхающих следах пишет зеркальным письмом. Или рисует два лица: свое и чужое, человека постарше. На своем лбу Эд выводит букву «Э». На другом – букву «Р».
Мы с Эдом питаем друг к другу симпатию. С недавних пор мы переписываемся. Вчера Эд сунул мне обрезок грязного полотна с вопросом: «Ты меня не помнишь?» Потом устремил на меня взгляд: пристальный, гипнотический. Я погрузилась в полусон: замаячил наш университет. На кафедре стоят высокий иностранец: вы, уважаемый господин профессор. В первом ряду сидел светловолосый ассистент: красивый, точно ангел. Я вспомнила его имя: Эдмунд.
Я очнулась с криком: Эдмунд, это ты? Ты ужасно изменился!
Эда возле меня уже не было. Он – тень ангела: наполовину сгоревший. Бритый наголо. Беззубый. И тем не менее это чудо: Эдмунд все пережил. Стал великим художником. Познакомился со мной.
Через минуту Эд вернулся. В одной руке он нес грязный конверт с адресом и маркой. В другой была записка: «Срочное письмо Профессору Ролану! Бросить в ящик! Беги!»
Я побежала. Я не могла иначе. Теперь я молюсь: чтобы письмо Вас не обидело, уважаемый господин профессор. Чтобы оно Вас не задело, уважаемый господин профессор. Если что: простите нас, пожалуйста. Меня и Эдмунда: я пишу с другого берега Леты.
Желаю Вам, уважаемый господин профессор, крепкого здоровья. Успехов в работе над «Энциклопедией эротики». Удачи в личной жизни.
Искренне преданная И
Д. Эдмунд – Ролану Барту

Терновый венец, кактус Ролана Барта
Фото Корнелии Синьорелли
Belsize Hospital, 5 мая 1976
Пять утра. Bonjour, Роло. Не помню: я перестал тебе писать в конце февраля? В марте? Какая разница. Ни одно письмо не упало в почтовый ящик. Мне было стыдно? Не хотелось причинить тебе боль? Вот еще! Денег на марки жалел.
Солнце вернулось от антиподов. Разгулялась весна. Последнее письмо я написал кровью. Письмо номер 100. Сто обрывков полотна в ста заплеванных конвертах. Я не мог на это смотреть. Упаковал в мешок для мусора. На рассвете помчался на Ист Ривер. Река похитила мазню. Я лег на мостовую. Задремал. Разбудил меня пес. Он ссал на мои босые ноги.
Роло! Личность в норме – прудик во французском парке. Безумец – океан.
Что-то меня обуяло. Я качался на люстре. Катался по полу. Открывал окно настежь. Вскакивал на подоконник. Шептал твоим голосом. Слышал твой шепот. Прыгай, шептал ты, прыгай. Небоскреб выстроен ради твоего спасения.
Он избавит тебя от тошноты. Избавит от аллергии. Избавит от себя. Прыгай, шептал ты, прыгай! Будь человеком. Прежде чем кожа лопнет по швам.
Она не лопнула. Кулаком я разбил окно. Всем собой выдавил стекло на лестничную клетку. Сосед вызвал «Скорую». Двое бандитов запихнули меня в смирительную рубашку. Когда? Не помню.
Я снова человек? Якобы. Бормочу не своим голосом. Ковыляю по коридору в пижаме. Туда и обратно, туда и обратно.
Запястье черно от капельницы. Меня выводят в сад. Я дал согласие на маленькую операцию. Написал заявление, чтобы мне предоставили место при больнице. Из моей прежней комнаты привезли пачку книг. С твоими подлинными идиотическими надписями: «Твой навсегда! Узнай меня получше».
Я не узнал. Ничего не прочитал. Даже «De l'amour», свой талисман. Стендаль рифмовался с Роланом. Амур с Эдмоном. Обложка пахла дубленой кожей. Мочой, спермой. Солоно, сладко. Она должна была принести мне счастье.
Не принесла.
В «De l’amour» я хранил твои открытки. Осталась только одна. Самая главная. Накарябанная мелкими буковками:
Эдмон! Эдмон! Посмотри на картину на обороте. Посмотри! Ты поразительно похож на ангела, который ведет за руку Товию: меня. Узнаешь? Так я выглядел в давние годы, в Байонн. Тогда я еще не подозревал, что ты будешь послан мне свыше, чтобы стать моим проводником, но уже тебя ждал. Теперь ты понимаешь, правда?
Вранье! Это ты, Роло, ничего не понял. Все было наоборот. Товия должен был подать руку ангелу. Должен был его вести. Терпеливо. Годами. Спустить с высот на землю. Вывести в люди.
Не вывел. Увильнул. Нес всякую чепуху:
Мир болен отсутствием любви, clieri. Нам она повстречалась. Это чудо. Я люблю тебя больше жизни, Эдмон. Я пойду за тобой повсюду. Ты ведь знаешь об этом, верно?
Вранье, соглашался я. Опускал глаза. Прикусывал язык. Я боялся твоей любви. Этой стихии. Хотел покоя. Нуждался в опеке. Жаждал заботы.
Мир не болен отсутствием любви. О нет! Мир смертельно болен отсутствием доброты. Стойкости. Ответственности.
Я представлял чудо так: хорошо обеспеченный Товия средних лет приголубит ангела без документов и денег. Усыновит.
Товия! Я умолял взглядом. Товия! Не сходи от меня с ума! Безумия в ангеле хватит на двоих. С твоим ему уже не справиться. Товия! Помоги мне побороть моего Люцифера. Защити меня от него. Не люби его!
Не люби позера-паразита-нарцисса-сноба-гермафродита-параноика.
Люби меня! Тяжко больного беглеца. Бездомного пса.
Не ломай себе голову. Не придумывай. Не возбуждайся моей красотой.
Веди меня. Медленно. К здоровью. Веди!
Не повел Товия ангела.
Врач поглядывает. Машет рукой. Радуется. Тому, что я не таращусь в потолок. Тому, что устанавливаю контакт с миром.
А это дымовая завеса. Ангел пал. Утратил душу. По твоей вине.
Знаешь, когда? Тогда. Мы сидели у окна. В твоем любимом кафе. Снежок припорашивал бронзового льва. Мне казалось, что я снова ползу по минному полю. В висках грохотали колеса поезда. Пищали крысы. Стучал пневматический молот.
Я подумал: двум смертям не бывать. Скажу Ролану. У него столько знакомых психиатров.
Роло, шепнул я.
Что, Эдмон, cheri? Я знаю, о чем ты думаешь. Твою диссертацию утвердили. Тебе надо взяться за работу.
Работать? Сейчас? Я замер от ужаса. Ты принял молчание за согласие. Разминулись наши волны на море. Товия все верещал:
Придется нам отказаться от зимних каникул в этом году, Эдмон, cheri. Замечательно, что ты бросил живопись. Она бы помешала исследовательской работе. Я вижу в тебе выдающийся лингвистический талант. Его нельзя, ни в коем случае нельзя зарывать в землю. Ты просто создан для анализа символики пола и рода. Ведь это так интересно, верно? Мои знания и опыт к твоим услугам. Но я ставлю на твою интуицию. Психическую беглость. Внутреннюю полифонию. Ты начнешь с самоанализа, правда? Исследуешь процесс совершающихся в тебе метаморфоз. Фрагменты диссертации будут твоим вкладом в нашу «Эротоэнциклопедию». Что ты на это скажешь?
Ничего. Язык прилип к гортани.
Пора покончить со скромностью, Эдмон, cheri. Мы подадим на аспирантскую стипендию в Гуманитарном институте при Нью-Йоркском университете. А может, ты бы предпочел что-нибудь на юге Штатов? Национальный центр исследований человека в Северной Каролине?
Каро? Лин? Линчевать меня?!
Предпочитаешь Каролину, cheri? Прекрасно.
Ты улыбнулся с довольным видом. Похлопал меня по плечу.
С диссертацией ты справишься без всяких хлопот, cheri.
Хло-пот. Пот-пот. Лоб отозвался эхом. Рубашка прилипла к спине. Лев вздрогнул.
Галлюцинации? Галлюцинации.
Лев шел на меня. Ткнулся носом в стекло. Зевнул. Чавкнул. Сожрал зайчика с твоего японского галстука. Слизал пар со стекла. Все сделалось прозрачным.
Не для тебя. Проф. Р.Б. нес чепуху о сексуализации языка.
Лев открыл пасть. Язык у него был похож на ломтик ветчины. Зубки – как жемчужинки-слезки. Он притаился. Чавкнул.
Я понял, что это знак. Вскочил. Ринулся в туалет. Черным ходом на автобус в Орли. Самолетом в аэропорт Кеннеди. Такси на Верхний Вест-Сайд. «Скорой» – до психиатрической больницы Белсайз. Инсулиновым шоком – в Гавань покоя.
Нет лучшего места для работы над «Энциклопедией пола и рода». Пишу для тебя статью о сексуализации существительных посредством паранойи:
Кризис (мужик) болезни (бабы). Приступ (мужик) шизофрении (бабы). Симптом (мужик), ликвидируемый подключением к электросети (бабе). Инсулином (мужиком). Завернулся в анилановую подстилку (бабу) и поджег себя. Из клинической смерти (бабы) ею вывели. В летаргическом сне (мужик) случается эрекция (баба). Боится утраты (бабы).
Врач просит продолжать. Говорит:
Первый этап лечения подошел к концу, мистер Эдмунд. Вы снова стали собой. Не волнуйтесь. Побочное действие лекарств – нарушения речи – пройдет. Половую принадлежность существительных я подшила к истории болезни. Утрата – это ваша подруга, верно? Невеста? Вы скучаете по ней? Это нормально. Нет, нельзя! Нельзя подглядывать за пациенткой Таней!
Я не подглядываю. Это Таня (баба) меня преследует. Хватает за руку (бабу). Боится, что ее (бабу) во сне (мужике) изнасилует анимус (мужик).
Ночью я рассказываю Тане анекдоты. Твой любимый: – Симона де Бовуар, у тебя ножки, как у серны. – Такие стройные? – Нет, такие волосатые. И мой любимый: Входит Сартр в аптеку и кричит: – Мадемуазель! У меня вчера как встал, так и стоит. Дайте мне что-нибудь на… – Берите деньги и аптеку, господин Сартр.
Профессор Сартр женился на аптекарше. Профессор Барт – на мне. А я женился на шизофрении.
Конец (мужик) письма (мужика?) номер (мужик) 101.
Отсутствие смелости (бабы), чтобы письмо (мужика?) отослать в Париж (мужик) во Франции (бабе). Аминь.
И. Плания – Ролу

Плания в 1954.
Фото Янниса Куртиу
Плания
Trauma Center, North Carolina University Hospital
Chapel Hill, 5 мая 1979
Роло, милый мой, дорогой!
Я сделала все, как ты велел. Мне удалось убедить Сильвио, что нам надо на некоторое время расстаться, доктор Эли Бласс меня приняла. Ты был прав, это удивительная женщина! На первый взгляд она кажется хрупкой и несколько замкнутой. Но, пообщавшись с Эли несколько минут, попадаешь под ее обаяние: в доктор Бласс столько покоя, столько здравомыслия. Она так интересно говорит, красочно и остроумно. Манера доктор Бласс очаровала меня настолько, что я быстро ей доверилась, отдала себя в ее руки.
Ты прав, Роло: человек – загадка. А женщина из отсталой Южной Европы – сфинкс, возведенный в сотую степень.
Слишком долго нас унижали. Пройдет полвека, прежде чем женщины обретут рациональность мышления, поверят в себя. Слишком много гречанок погрязло – подобно твоей Пла-Пла – в мифологии насилия и беззакония, затерялось в лабиринте иллюзорной слабости, «зациклилось» на маниакальной вере во всемогущего патриарха: бога-отца, любовника-чудовища. С одной стороны, они его ненавидят, с другой – не могут без него жить.
Но что это за жизнь! Орудие греческой мещанки – сплетня и интрига: умение манипулировать «минотаврами» за их спиной, изысканный психотеррор в четырех стенах священного домашнего очага. Как же презирала это юная Плания, как же ей хотелось стать другой! Я была честолюбива, красива и обеспечена. Принадлежала к известной семье художников и интеллектуалов. Начитана. Из самого лучшего женского лицея попала в университет. Считалась современной женщиной. И все равно оказалась в капкане лжи, комплексов, стереотипов.
Как так получилось? Потому ли, что мама умерла при родах? В беседах с доктор Бласс мы пришли к выводу, что нельзя все списывать на семейные дела. Свою роль сыграли также традиции. Никто не задумывался над моей страстью к математике. Вечно всех раздражали мои золотые руки: я умела отремонтировать испорченный кран, повесить лампу, установить раковину. Я получала удовольствие от решения технических задач, но не осмелилась поступать на инженерный факультет – целиком и полностью маскулинизированный. Позволила запихнуть себя на древнюю историю, которая навевала на меня скуку, обременяла память, совершенно не приспособленную для запоминания дат и фактов, не приносила ни малейшего удовлетворения.
Знаешь, чем доктор Бласс произвела на меня самое большое впечатление? Тем, что моментально поставила диагноз. В течение нескольких дней. Она сразу поняла, что источник моей ненависти к себе и миру – длительный период фрустрации и одна «суперфобия», порожденная своеобразной амнезией: что-то я в себе заблокировала и на фундаменте забвения возвела «подземный дворец лжи», в который себя заточила. Я не могла ни сама освободиться, ни долее выносить заключение, и меня охватило безумие и желание убить себя. Попытка самоубийства истощила меня физически, но психически что-то во мне «откупорила». Ты оказался прав, Роло: это был идеальный момент для начала лечения. И, вероятно, уже последний.
Я обещала доктор Бласс возможно более активное сотрудничество в нашей «совместной попытке психоархеологии» – впервые хоть какая-то польза от истории моего семейства. Археологические метафоры, используемые доктор Бласс, мне очень близки. Я сразу поняла, что от меня требуется. Ты видел когда-нибудь «Окно во двор» Хичкока? Я посмотрела этот фильм вместе с доктор Бласс. Ключом к преступлению является маленький лохматый песик: убитый и похороненный в клумбе с розами, которым это не идет на пользу. – «Как и вам, – сказала доктор Бласс, когда сеанс закончился. – Мы должны как можно скорее разобраться, где собака зарыта».
«Психоархеология» доктор Бласс немыслима без Фрейда. Но это Фрейд, очищенный от суеверий девятнадцатого века и мистической пансексуальности. От Фрейда доктор Бласс восприняла убеждение, что на течение любовной жизни влияет раннее детство, а «эротические фобии» есть «потемневшее от времени зеркало и далекое эхо эмоций», связывавших ребенка с родителями. То, что тогда «завязалось», следует развязать по мере взросления, иначе возникает очаг болезни.
Тем, кто не справился с «развязыванием» самостоятельно, но еще не болен в «клиническом смысле», доктор Бласс предлагает помощь на своих «психоархеологических раскопках». Все оказалось так, как ты говорил. В этом месте нет ничего от «прокаженности» психиатрической больницы. Но тут и не клубятся испарения самоубеждения и сексуального ониризма, в чем специализировался мой афинский аналитик: с точки зрения доктор Бласс, «обыкновенный бабник и болван».
Доктор Бласс не придает значения сексуальной символике Фрейда, фрейдовскую интерпретацию снов отвергает полностью. Сексуальные мотивы, зачастую доминирующие в сновидениях, отражают первостепенную роль любви в нашей жизни, но сон не есть «спальня эроса». Доктор Бласс признает, что не в состоянии объяснить ни механизм, ни функции сна. Она, однако, склоняется к гипотезе, что цель сновидения – наведение «порядка в связках нейронов», то есть «селекция, сегрегация и структуризация» информации, предоставляемой нам органами чувств, мыслями, фантазиями.
По доктор Бласс, «сон есть стержень психического здоровья: бессонница свидетельствует о психических расстройствах и вызывает болезнь». Мое признание, что я страдаю бессонницей со времени полового созревания, а периодически совершенно «расшатываюсь» и месяцами не могу сомкнуть глаз, оказалось, таким образом, весьма ценной информацией. На ее основе доктор Бласс пришла к выводу, что в моем случае собственно психоархеологию должен предварять особенно длительный этап «ментального отдыха»: долгого и крепкого сна.
Знаешь, Роло, я бы никогда не поверила, что мне удастся погрузиться в сон без всяких таблеток, спать так много и так сладко! Эта часть лечения для меня – просто чудо. Доктор Бласс заставила меня спать с помощью искусного сочетания самых разных вещей. Она прописала низкокалорийную «детскую диету» (молочные кашки, пудинги, кисели, салатики и фруктовые чаи), обучила йоге и медитации. Каждый день мне делали массаж, затем я каталась на велосипеде по лесу, плавала в пруду с теплой, будто в ванне, водой. После двадцатилетнего перерыва я вернулась к своему хобби: заменила прокладки во всех подтекавших кранах, установила доктор Бласс новую стиральную и посудомоечную машину, починила два радиоприемника, телевизор и автомобиль. Снова начала играть на саксофоне, а вечерами мастерить из спичек, проволоки и пластилина мудреные конструкции и машины.
Однако, как и на первых порах, наибольшее внимание уделялось прогулкам и беседам с доктор Бласс. Но на «этапе сна» они проходили совершенно иначе, чем в начале. Мы стремились уже не к «искренним исповедям», а к тому, чтобы говорить все, что придет в голову. Доктор Бласс научила меня замедлять бег ассоциаций и отдаваться им настолько, чтобы буквально «засыпать стоя». Это «проветривает» и «обогащает кислородом душу» – почти так же, как во сне, и открывает ее миру. В результате – появляется шанс «обрести с ним гармонию» и найти «свое место на земле».
«Этап сна» не всегда проходит успешно. Если сон восстановить не удается, доктор Бласс прерывает лечение. Сон для нее – «лакмусовая бумажка». Неизлечимая бессонница означает, что патология имеет «хроническую форму», то есть настолько закреплена химией мозга, что «одной психоархеологией ничего не добьешься». Необходимо психофармакологическое вмешательство, а этим доктор Бласс не занимается. Она утверждает, что психиатрия находится в зачаточном состоянии, а существующие психотропные средства ликвидируют не источник болезни, а лишь ее симптомы, причем – что еще хуже – ценой губительных побочных эффектов.
Перед началом терапии сном мы много разговаривали о том, где проходит граница между сознанием и бес– или подсознательным. По мнению доктор Бласс, это подобно проблеме «впадения реки в море»: где кончается пресная вода и начинается соленая? Граница текучая, то есть ощутима лишь постепенно: вода из пресной превращается в соленую, из реки рождается море. Блестящая метафора, правда? Доктор Бласс уверена, что по мере изучения функционирования мозга мы научимся измерять «концентрацию соли» и «впадения сознания-реки в океан еще-не и уже-почти бессознательного». Пока можно лишь утверждать, что сознание простирается «от полноты до конца»: от «акта» сознания до его инстинктивного «проблеска», который на практике зачастую имеет не менее решающее значение, чем «инстинктивная» любовь с первого взгляда.
Чтобы объяснить мне, в чем заключается «инстинкт любви», доктор Бласс рассказала историю о знакомом родителей, который спасал евреев во Львове, откуда происходит ее семья. Ты, наверное, не знаешь историю этого города, довольно-таки жуткую. До войны он принадлежал Польше, но там были две большие группы национальных меньшинств: евреи и украинцы. И те и другие подвергались дискриминации со стороны поляков, которых при этом объединяла с украинцами антипатия к евреям. Во время войны Львов пережил две оккупации: сначала, на протяжении почти двух лет, советскую, затем немецкую. В промежутке, в период краткого interregnum[74]74
Междуцарствия (лат.).
[Закрыть] в конце июня 1941-го, произошел кровавый погром, предположительно спровоцированный гитлеровцами, но убивали евреев украинцы и поляки. Теперь ты уже понимаешь, какой смелости требовало спасение евреев во Львове во время немецкой оккупации.
До недавних пор Львов был для меня просто точкой на карте. Теперь я невольно задаю себе вопрос: какой львовянкой была бы Плания? Была ли бы я глуха к человеческим страданиям или нет? Охватило бы меня сочувствие? Пересилило бы желание помочь страх? Вчера я пришла к выводу, что во Львове вела бы себя еще хуже, чем в Афинах. Скверным мнением о себе я поделилась с доктор Бласс. К моему изумлению, та посоветовала мне не быть столь самоуверенной, потому что «хороший или плохой импульс – это краткий миг и тайна бытия».
Зная, что родительский знакомый – ужасный молчун, доктор Бласс рискнула задать ему всего один вопрос: вы тогда боялись? Он, смеясь, ответил:
«Боялся так, что пот прошибал. Но только потом: ночью, ложась спать. Вы меня не знаете, дорогая Эли: я человек горячий. Чем больше риск, тем быстрее я решаюсь. Это доля секунды, импульс, шаг. Я его делаю, и путь назад отрезан». – «Разве это не называется героизмом?» – воскликнула доктор Бласс. Он засмеялся: «Дорогая Эли, назови это, как хочешь, для меня это инстинкт. Что-то хватает за горло, я не могу иначе. И – дело сделано». – «То есть вы инстинктивно ставите жизнь на карту?» – Он снова засмеялся: «Инстинктивно. Впрочем, тоже мне цимес – эта моя жизнь. Пороха я не изобрел, Микеланджело не стану».
Доктор Бласс обладает выдающимися актерскими способностями. Стараясь передать характер людей, о которых рассказывает, она имитирует их голоса. Так доктор поступила и в этом случае. Иначе от моего внимания укрылся бы очень важный момент: подобным образом говорит о себе Сильвио. Он тоже любит преуменьшать свои достоинства, напоминать, что от «проверки на порядочность» его спасла «милость позднего рождения» и эмиграция родителей в Штаты, любит оспаривать свое очевидное благородство.
Мама Сильвио рассказала мне, что их дом в Принстоне был настоящим приютом для животных. Едва Сильвио начинал играть в прятки, под ближайшим деревом обнаруживался выпавший из гнезда скворец, раненый крот, черепаха со сломанной лапкой или бездомный щенок. Ряды скаутов он покинул в знак протеста: не мог смириться с тем, что акция «обеды для пожилых» не распространяется на негритянский, самый бедный район. Поэтому он упросил маму готовить на пятерых. И каждый день бегал в гетто с судками – носил обед двум парализованным старушкам. Одна оставила ему в наследство кота по имени Рыцарь, которого он забрал с собой в Чикаго. Учебу Сильвио начал с того, что основал в тамошнем гетто закусочную «Под голубым рыцарем». В уикэнды он сам готовил суп и спагетти.
Твоя Плания, Роло, – поистине загадка. Ведь я обо всем этом знала, но словно бы позабыла. Лишь рассказ доктор Бласс напомнил мне о моем герое. А за его спиной я увидала себя: good for nothing[75]75
Бездельник, никчемный человек (англ.).
[Закрыть] – на протяжении стольких лет. Теперь с этим покончено. Родится новая Плания и будет вести себя по-человечески. Проявит любовь к мужу, ведь она его любит. Позаботится о стареющем отце, который ничего плохого ей не сделал.
Ты подозревал, Роло, что я ненавидела отца больше, чем он того заслуживал. Однако в то, что он меня изнасиловал, в конце концов, видимо, поверил. Лишь Мел убедила тебя, что ты заблуждаешься, верно? Ты протянул ему руку, отец ее отверг. Он не мог тебе простить, что старый друг (а до войны больше, чем просто друг, да?) встал на сторону истеричной соплячки. И он прав. Пора тебе, Ролан, узнать правду. А потом, если сможешь, – простить Планию.
Доктор Бласс «раскопала» правду и подвела итог следующим образом: «Правда, как всякая правда, бывает эффектна, но чаще – банальна. Тем из нас, кого тянет к драме, трудно смириться с банальностью. И мы заменяем ее античной трагедией».
Именно так и поступила твоя бедная Пла-Пла: обремененная тяжелой наследственностью прапраправнучка немца-мифомана и Плании, спартанской поэтессы. Должно быть, во мне живы гены этой пары одержимых, «любовь» которых к Греции привела к войне с Турцией. Как жаль мне сегодня овдовевшего отца, имеющего такую дочку, как я! Кажется, Мел предлагала меня удочерить. Но он не согласился и решил заменить маму. Сам кормил меня из бутылочки, носил в мешке на лямках. Говорят, я цеплялась за отца, словно обезьянка, спала у него на груди.
Год мы были неразлучны. Разъединил нас папин роман с Ксантиппой, которую я возненавидела с первой же минуты. Она наняла для меня няню, купила коляску, выдворила из отцовской постели. И по сей день помню, как в присутствии папы я укусила Ксантиппу за нос. Сначала я не любила и маленького Кристоса, но тот быстро завоевал мое сердце: протягивал ко мне ручки, разражался плачем, если я убегала. Когда он подрос, то верил каждому моему слову, всегда принимал мою сторону.
Наветы Кристоса в адрес папы высосаны из пальца. Отец не затем отдал сыночка на воспитание, чтобы дальше «жить наедине с дочкой». Нет! Просто с нами двумя папа уже не справился бы, а меня он отдать не мог: мы были ужасно привязаны друг к другу. Вот тут «собака и зарыта».
После отъезда Ксантиппы в Штаты я сразу постаралась отвоевать свое место в папиной постели. Он сопротивлялся, запирался на ключ: я рыдала на полу под дверью спальни. Была зима, я заболела воспалением легких. Когда я выздоровела, папа больше со мной не боролся: мы вновь, как прежде, спали в обнимку. Порой я чувствовала его ночную эрекцию, но пока была маленькой, не обращала на это внимания.
Наступило время созревания. Неожиданно возникающая твердость начала меня возбуждать. Я обнаружила, что она связана с моими прикосновениями. На двенадцатилетие отец подарил мне первый лифчик. Я все чаще просыпалась среди ночи: прикасалась к отцу, просила, чтобы он меня обнял, поцеловал. Он притворялся спящим – некоторое время. Потом выскакивал из постели, бежал в туалет, сопел, спускал воду, мылся. Мне казалось, что это имеет какое-то отношение ко мне. Со временем я поняла, в чем дело. И пожелала, чтобы он сделал «это» со мной, как с женой.
Подвернулся подходящий случай: папа вернулся за полночь, слегка под хмельком; сразу лег. Я сняла с себя все, кроме лифчика, и скользнула в постель. Отец ничего не заметил. Он крепко спал, храпел. Я протянула руку к ширинке, прильнула к отцу: ощутила твердость у него между ногами. Папа засопел раз, другой. Прижал меня к себе. Потом засопел в третий раз и проснулся. Почувствовал мою наготу и, как ошпаренный, выскочил из постели. Заперся на ключ у себя в кабинете. Ночь провел на козетке, на рассвете ушел. На кухонном столе оставил записку: «С сегодняшнего дня ты спишь отдельно».
С этим я смириться не могла. Начался ад. Отец запирался в спальне, я безумствовала. Раздевалась донага и билась о дверь: лицом, грудью, животом, ягодицами. Однажды майской ночью я так поранилась, что утром отцу пришлось везти меня в больницу. На вопрос, что случилось, я зарыдала и «призналась», что папа меня избил и изнасиловал. Пришел гинеколог. Он осмотрел меня и понял, что я лгу. Отправил к психиатру, тот – к психоаналитику: идиоту, который мне поверил.
Знаешь, сколько продолжался мой психоанализ? Шесть лет. Конец ему положил лишь отъезд из Афин. По мнению доктор Бласс, на психоаналитика следовало бы подать в суд, но этот болван уже умер. Именно он вбил мне в голову то, во что поверил сперва ты, потом Сильвио, то есть нагромождение лжи. С помощью психоанализа я должна была «вспомнить» отцовское преступление.
Мой целитель тоже практиковал психоархеологию, только использовал не метод расслабления, сна, спокойствия, укрепления воли. О нет! Он гипнотизировал меня и терроризировал, чтобы внушить то, во что сам хотел верить. Регулярно усыплял, предварительно зачитывая подробные описания жутких сексуальных сцен. Я погружалась в кошмарные сны, от которых он меня внезапно будил – одним и тем же вопросом: папа делал с тобой то же самое? Я неизменно отвечала: да.
Доктор Бласс спросила, не приходило ли мне когда-нибудь в голову, что психоаналитик был в меня влюблен и поэтому жаждал уничтожить папу в моих глазах. Нет, я никогда об этом не думала, но теперь полагаю, что это более чем правдоподобно. Начало лечения было очень странным: психоаналитик при мне разорвал письмо от психиатра, в котором наверняка содержалась информация о моей девственности. Потом взял меня за руки и прошептал, что врачи – «заодно с отцом».
Однако доктор Бласс не возлагает всю вину на психоаналитика. Она подозревает, что я, когда билась головой о дверь, могла получить сотрясение мозга. А я почти уверена, что анорексия, которой я заболела в шестнадцать лет, привела к серьезным гормональным нарушениям. Действительно, перед выпускными экзаменами у меня на несколько месяцев прекратились менструации, а я вообразила беременность, виновником которой был, ясное дело, отец. Когда месячные возобновились и сопровождались сильным кровотечением, я вбила себе в голову – и аналитику тоже, – что это выкидыш.
По мнению доктор Бласс, следствием «патологической лжи, в которой я увязла в период созревания», было метание между двумя противоположными фантазиями. Я страдала манией преследования и поэтому искала у тебя помощи, просила помочь «бежать от отца» и устроиться за границей. Одновременно я маниакально желала вечной связи с отцом, которого не могла предать. Поэтому речь шла только о фиктивном браке. Я готова была согласиться лишь на «непорочный марьяж».
Ужас, правда? А может, все не так уж страшно? – «Вы стряхнете с себя абсурд, словно слезинку», – повторяет доктор Бласс и подводит меня к зеркалу. Я наконец стала похожа на женщину. Грудь, бедра… лицо округлилось. Самое большее через месяц приедет Сильвио. Сегодня я отправила ему свое первое в жизни любовное письмо. Написала: скоро я стану твоей женой, и мы поедем на медовый месяц в Кей Вест, на самый южный остров США. У нас все впереди: мне только тридцать лет, я люблю тебя больше жизни, хочу иметь от тебя ребенка.
Завтра, Роло, я напишу отцу. Попрошу у него прощения. Приглашу к нам в Урбино. Я должна написать и моему малышу Кристосу, помирить его с папой.
Роло, а что с Эдмундом? Я часто о нем думаю. Я рассказала доктор Бласс о нашем мальчике. К сожалению, она считает, что Эдмунд страдает шизофренией, которая будет прогрессировать, пока не изобретут эффективное лекарство. Однако доктор полагает, что ждать осталось недолго, так что не будем терять надежду.
Роло, милый! Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал.
Передай большой привет твоей милой маме. Почаще звони Сильвио. Я слышала, что он перестал готовить и есть, ужасно исхудал. Скажи ему, что совсем скоро мы будем вместе. Поддержи его.
Пока, целую тебя, мой милый Роло!
Всегда твоя Пла-Пла Плания








